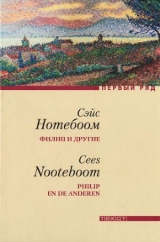
Текст книги "Филип и другие"
Автор книги: Сэйс Нотебоом
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Книга первая
1
Мой дядюшка Антонин Александр был странным человеком. Когда мы с ним увиделись впервые, мне было десять, а ему – около семидесяти. Он жил в городишке Гоой, в громадном, уродливом доме, набитом самой невероятной, бесполезной и мерзкой мебелью. Я был еще очень маленьким и не мог дотянуться до звонка. Стучаться в дверь или греметь заслонкой почтового ящика, как я обычно делал, я не посмел. Постояв немного, я решил обойти вокруг дома. Дядюшка Александр сидел в огромном колченогом раскладном кресле, обитом фиолетовым плюшем (три бледно-желтые салфетки лежали на спинке и подлокотниках, чтобы не пачкалась обивка); он был, без сомнения, самым странным человеком, какого я встречал за всю свою жизнь. На каждой руке его было надето по два кольца; шестью годами позже, явившись к нему погостить во второй раз, я понял, что они были медными. Красные и зеленые камни (другой мой дядя носил настоящие рубины и изумруды) оказались цветными стеклами.
– Это ты, Филип? – спросил он.
– Да, дядя, – отвечал я фигуре в кресле. Мне были видны только руки. Лицо пряталось в тени.
– Ты принес мне что-нибудь? – снова спросил голос.
Я ничего не принес, и я сказал:
– Кажется, ничего, дядя.
– Ты всегда должен что-то приносить с собой.
Не думаю, чтобы тогда я посчитал это чересчур странным. Действительно, когда человек приходит в дом, он должен что-то принести с собой. Я поставил свой чемоданчик и вернулся на улицу. В садике соседнего дома цвели рододендроны, я осторожно вошел в калитку и срезал перочинным ножом несколько штук.
Я вернулся к террасе.
– Я принес вам цветов, дядя, – сказал я.
Он встал, и я впервые увидел его лицо.
– Твой подарок заслуживает самой высокой оценки, – сказал он и слегка поклонился. – Не устроить ли нам праздник?
Не дожидаясь ответа, он взял меня за руку и повел в дом. Он включил маленькую лампочку, озарившую желтым светом странную комнату. Середина ее была заполнена креслами, вдоль стен стояло три дивана со множеством серых и бежевых подушек. У стены, обращенной к террасе, стояла штука вроде пианино, после я узнал, что это – клавесин.
Он посадил меня на один из диванов и сказал:
– Приляг. Возьми себе побольше подушек.
А сам лег на другой диван, напротив моего; из-за высоких спинок кресел, стоявших между нами, я не мог его больше видеть.
– Итак, нужно устроить праздник. Что ты любишь делать больше всего?
Больше всего я любил читать и рассматривать картинки, но праздник, думал я, это что-то другое – поэтому я ответил не сразу. Подумал немного и сказал:
– Вечером ехать куда-нибудь на автобусе или ночью.
Я ожидал реакции, но ее не было.
– Сидеть у воды, – сказал я, – и гулять под дождем, и целоваться с кем-то.
– С кем? – спросил он.
– С кем-то, кого я не знаю, – соврал я.
Я услышал, что он встал и идет ко мне.
– Мы устроим праздник, – сказал он. – Сперва мы поедем на автобусе в Лунен, потом в Лоосдрехт. Там мы посидим у воды и, может быть, чего-нибудь выпьем. А потом вернемся на автобусе домой. Пошли.
Так я познакомился с дядюшкой Александром. Он был немолод. Морщины пересекали бледное лицо, а красивый тонкий нос и широкие темные брови делали его похожим на старую встрепанную птицу.
Рот был большой, с румяными губами, и он носил ермолку – хотя не был евреем. Мне кажется, он просто хотел прикрыть лысину. В тот вечер впервые в жизни я устроил вместе с кем-то настоящий праздник.
В автобусе почти никого не было, и я подумал: ночью автобус превращается в остров и ты живешь на нем почти совсем один. Смотришь на отражение своего лица в окне, слушаешь негромкие разговоры людей, вносящие разнообразие в монотонный шум мотора. Желтый свет маленьких лампочек меняет все внутри и снаружи, а камушки, отскакивая от дороги, ударяются о никелерованные бамперы. Оттого что людей в это время мало, автобус почти не останавливается, и можно представлять себе, как он выглядит снаружи, когда мчит вдоль дамбы, выпучив огромные глаза, с желтыми квадратами окон по бокам и красными фонариками сзади.
Дядюшка Александр не сел рядом со мной – он устроился в другом углу, «потому что не получится никакого праздника, если нам придется разговаривать». И он был прав.
Когда я оглядывался, я видел его. Казалось, он спит, но руки его крепко сжимали чемоданчик, который он захватил с собою. Мне хотелось спросить, что в этом чемоданчике, но я подумал, что дядюшка, скорее всего, не ответит.
Мы вышли в Лоосдрехте и пошли к озеру.
Там дядюшка Александр открыл чемоданчик, достал из него кусок старой парусины и расстелил на траве, потому что было сыро.
Мы сели лицом к луне, которая поднималась из воды, покачиваясь на волнах; было слышно, как по лугу за дамбой ходят коровы. Опускался туман, клочья его плыли над водою, я слушал незнакомые ночные звуки и не сразу заметил, что дядюшка Александр тихонько плачет.
– Ты плачешь, дядя? – спросил я.
– Нет, я не плачу, – ответил он, и я понял, что он действительно плакал, и спросил:
– Почему ты не женат?
– Я женат, – сказал он. – Я женат сам на себе. – Он отпил глоток из маленькой плоской фляжки, которую носил во внутреннем кармане (в ней был коньяк, но его название – «Курвуазье» – я тогда не мог правильно выговорить), и продолжал: – Я женат. Ты слыхал когда-нибудь о поэме Овидия «Метаморфозы»?
Тогда я еще не слыхал об этой поэме, но он сказал, что это не страшно, потому что на самом деле не имеет большого значения.
– Я женат сам на себе не так, как женятся в начале жизни, я живу со своими воспоминаниями, которые стали мною. Понимаешь?
– Нет, дядя, – честно ответил я.
– Отлично, – сказал дядюшка Александр и спросил, хочу ли я шоколаду, но я не любил шоколад, так что он сам съел плитку, которую прихватил для меня. Потом мы вместе сложили парус, пока не получился маленький прямоугольник, спрятали его в чемоданчик и пошли через дамбу к автобусной остановке. Возле домов, где жили люди, пахло жасмином, и было слышно, как вода тихонько плещется о шлюпки, привязанные у дебаркадера. На остановке стояла девушка в красном пальто, прощавшаяся со своим дружком. Я видел, как она легко закинула руки ему на шею и нагнула его голову к своим губам. Она поцеловала его в губы, но очень коротко, и сразу села в автобус. Когда мы вошли в автобус, она ничем уже не отличалась от остальных. Дядюшка Александр сел рядом со мной, и я понял, что праздник кончился. В Хильверсуме кондуктор помог ему выйти, потому что он почувствовал вдруг страшную усталость, и мне показалось, что, пока мы гуляли, он стал намного старше.
– Ночью я тебе поиграю, – сказал он, потому что уже наступила ночь и на улице было очень тихо.
– Как поиграешь? – спросил я, но он не ответил. Теперь он почти совсем перестал обращать на меня внимание, даже когда мы оказались дома, в комнате.
Он сел перед клавесином, а я встал позади него и смотрел на его руки, дважды повернувшие ключ и открывшие крышку.
– Partita, – сказал он, – симфония. – И начал играть.
Я не слышал раньше этой музыки и решил, что ее знает только дядюшка Александр. Она казалась очень старой, и, когда я пошел и лег на свой диван, она отошла от меня далеко-далеко.
Мне виден был сад, и казалось, будто все вокруг слушает музыку и сопровождающее ее негромкое посапывание дядюшки Александра.
Время от времени он что-то произносил.
– Сарабанда, – возвестил он, – сарабанда. – И немного позже: – Менуэт.
Комната наполнилась звуками, и мне хотелось, чтобы он не переставал играть, потому что я чувствовал, что он вот-вот кончит. Когда он доиграл, я услышал, как тяжело он дышит – все-таки он был очень старым. Он посидел еще немного, потом встал и обернулся ко мне. Глаза его сияли, они стали темно-зелеными и большими, белые ладони взметнулись вверх.
– Почему ты не встаешь? – сказал он. – Надо встать.
Я поднялся и подошел к нему.
– Этого господина зовут Бах, – сказал он.
Я никого не увидел, но он, кажется, видел кого-то, потому что странно засмеялся и сказал:
– А это – Филип, Филип Эммануэль.
Я не знал, что меня зовут еще и Эммануэль, но после мне рассказали, что, когда я родился, дядюшка Александр потребовал, чтобы мне дали это имя, потому что так звали одного из сыновей Баха.
– Подай господину Баху руку, – сказал дядюшка. – Не стесняйся, подай ему руку.
Вряд ли стоило пугаться – я протянул руку вперед и сделал вид, что обменялся с кем-то рукопожатиями. И увидел на стене гравюру, изображавшую толстого человека с целой копной кудрей на голове, смотревшего на меня дружелюбно, но словно бы издалека.
Под ней стояло: И.С.Бах.
– Так-так, – сказал дядюшка, – так-так.
– Можно мне теперь лечь в постель, дядя? – спросил я, потому что уже сильно устал.
– В постель? Да, конечно, – нам пора спать, – сказал он и отвел меня в маленькую комнатку, оклеенную обоями в желтый цветочек. Там стояла старая железная кровать с медными шариками.
– Ночной горшок – в тумбочке, – сказал он и вышел. Я лег и сразу уснул.
Наутро меня разбудило солнце, нагревшее комнату. Но я не двинулся с места, потому что вокруг было слишком много странного.
Рядом со мною, на тумбочке, стояли рододендроны, которые я срезал для дядюшки Александра накануне вечером. Ночью их здесь не было, я это точно знал, – значит, он принес их позже, когда я заснул. На стене висели четыре картинки. Статья из газеты, аккуратно вырезанная и приколотая четырьмя медными кнопками. Она совершенно пожелтела, но я все равно смог прочесть: «Время отправления кораблей и номера пирсов – 12 сентября 1910 года». Рядом висела старинная гравюра под стеклом, в черной лакированной рамке. Между стеклом и гравюрой собралось так много пыли, что краски казались поблекшими. «Возвращение из школы» – было написано под картинкой: на ней мальчик в коротких штанах и шляпе с широкими полями выпрыгивал из повозки, запряженной парой лошадей, и бежал к матери, ожидавшей его в дверях, раскинув руки для объятья. В садике у их дома росли большие желтые и голубые цветы, которых я никогда в жизни не видел.
На другой стене висело свидетельство о сдаче обязательного экзамена по плаванию – на груди и на спине, – и тонким острым почерком было вписано имя его владельца: Паул Свейлоо. А прямо над ним – большая, наклеенная на картон, пожелтевшая от времени фотография мальчика-индонезийца с большими глазами и стрижкой с челочкой, в точности так стригли и меня.
Я медленно вылез из постели, собираясь спуститься вниз, и выглянул из комнаты. Передо мною был длинный коридор со множеством дверей. Я постоял у каждой двери, прислушиваясь, нет ли там дядюшки Александра. Увидеть что-нибудь через замочную скважину мне нигде не удалось.
Держась обеими руками за перила, я спустился вниз, в холл. В доме было очень тихо, и я немного испугался, потому что забыл, которая из дверей ведет во вчерашнюю комнату.
Тогда я вытащил перочинный нож, раскрыл его и положил на пол.
Потом сильно раскрутил его и подождал, пока он остановится. Дверей вокруг было много, и я решил войти в ту, на которую укажет кончик лезвия. Это оказалась дверь комнаты, где стояли диваны, потому что, когда я потихоньку нажал на ручку и дверь отворилась, я услыхал храп дядюшки Александра. Он лежал, так и не раздевшись, на диване, рот его был открыт, колени торчали вверх, а руки свешивались вниз, словно он хотел коснуться пола. Я мог теперь его как следует рассмотреть, он был одет в черный пиджак и брюки без манжет. Такие брюки в тонкую полоску мужчины надевают к смокингу, когда женятся или идут на похороны, а после донашивают, когда становятся стариками, как дядюшка Антонин Александр.
***
Я боялся его разбудить, тихонько прикрыл дверь так, чтобы замок не щелкнул, и вернулся наверх, в свою комнатку.
И увидел книги – книги, принадлежавшие Паулу Свейлоо. Их было не так много, и названий большинства из них я тогда не мог еще прочесть, но шестью годами позже, когда я спал в той же комнате, я их записал. Первым в ряду был «Германский альманах для зубных врачей» за 1909 год.
Внутри стояло: «Паулу Свейлоо от…» – имени я не смог разобрать. Следующая книга – том из собрания сочинений Бильдердайка [1]1
Биллем Бильдердайк(1756–1831) – нидерландский поэт-романтик, оказавший большое влияние на литературу, а также на культурную и общественную жизнь Нидерландов. (Примеч. перев.).
[Закрыть]– «Паулу Свейлоо от Александра, твоего друга». Я не мог понять, как эта книга оказалась в шкафу, потому что, если ты даришь книгу, ты ведь не оставляешь ее у себя?
Следующей была книга «Критика чистого разума», автор Иммануил Кант. «Паулу Свейлоо от преданного…» – и снова я не смог прочесть имени.
И так далее. «История Французской революции» в семи томах, автор Мишле. «Архитектура и ее основные периоды», автор Генри Эйверс. «Красное и черное», автор Стендаль. «Письма» Бускена Хьюта, изданные его женою и сыном. И наконец, маленькая книжечка «Имитация Христа» Томазо да Кемписа.
И в каждой книге неизменно стояло «Паулу Свейлоо», но имени дарителя было не разобрать.
Я снова взглянул на портрет, словно ожидал от него помощи, но мальчик-индонезиец выглядел равнодушным, и вдруг я понял, что разглядываю его книжки. «Так ты и есть Паул Свейлоо?» – подумал я, поставил книги назад в шкаф и выровнял корешки. Тут я заметил, что мои руки густо покрыты пылью.
На нижней полке книжного шкафа стоял большой ящик, и, так как я сидел на корточках, надежно скрывшись от взглядов портрета, я осторожно поднял крышку. Это был граммофон.
Там была пластинка – ария из «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера, «Рассказ о Граале». Рядом с пластинкой лежала ручка, ее надо было вставить в гнездо и покрутить, чтобы заиграла музыка. Я стер носовым платком пыль с пластинки и стал крутить ручку. Музыка оказалась громкой, она мгновенно заполнила собою комнату, не оставив мне в ней места.
Из-за того что она была такой громкой, я не слышал шагов дядюшки Александра, пока он не распахнул дверь. Он вбежал, тяжело дыша, и заорал:
– Выключи, немедленно сними пластинку!
Оттолкнув меня в сторону, он схватился за тяжелую мембрану с иглой и сердито (а может быть – испуганно) рванул, да так, что поцарапал пластинку. Музыка со скрежетом оборвалась.
Дядюшка Александр постоял, переводя дыхание; потом осторожно взял пластинку и отошел с нею в угол.
– Царапина, – пробормотал он, – царапина на пластинке. – И попробовал стереть царапину манжетом своей белой рубахи, словно это была пыль. Я вытащил ручку из гнезда и положил ее в ящик. А потом спустился вниз.
На улице играли дети. С террасы мне было слышно, как они кричат: «Кто играет с нами в ведьму? Кто играет с нами в ведьму?»
Сквозь кусты, росшие у забора, я их отлично видел. Это были смуглая девочка с длинными светлыми волосами, в голубом платье без рукавов, и маленький мальчик со старческим лицом и серыми глазами. Он ходил, прихрамывая.
Когда девочка проходила мимо того места, где я стоял, я пробрался сквозь кусты и сказал:
– Я очень хочу поиграть с вами, только не знаю, что надо делать.
– А ты кто такой? – спросили они.
– Я – Филип Эммануэль.
– Что за чудное имя, – сказал мальчик, подходя поближе, – и тебе нельзя с нами играть – у тебя девчачья прическа.
– Неправда, – сказал я, – потому что я мальчик.
– Нет, правда, – возразил он и запел, дразнясь:
Филип – девчонка
Филип – психочудик
Филипа не примут в игру.
– Кончай, – сказала девочка, – заткнись, пусть играет с нами.
– Нет, мы его не возьмем.
– Пошел вон, – сказала она, и мне: – Пошли?
– Куда? – спросил я, но она высоко подняла брови, так, что глаза у нее стали огромными, и ответила: – В Африку, разумеется.
– Но Африка страшно далеко.
– Что за идиот! – крикнул мальчик. – Африка совсем рядом – за углом – на соседней улице.
– Заткнись, – повторила девочка, – заткни свой дерьмовый рот. – Идем? – спросила она меня, я перелез через забор, и мы пошли на соседнюю улицу.
– Если ты возьмешь его, я с вами не пойду, – сердито закричал мальчик, – потому что у него девчачья прическа и он не знает, где Африка.
Я хотел сказать, что прическа у меня вовсе не девчачья и что я знаю, где Африка – за углом, на соседней улице, но девочка сказала:
– Он пойдет со мной.
И мы ушли вместе, а мальчик остался у забора и вдруг закричал:
– Филип с Ингрид по-дру-жились! Филип с Ингрид по-дру-жились!
Мы не оглядывались, и я спросил:
– Это правда?
– Я пока не знаю, – сказала она, – мне надо еще подумать. Африка здесь, за углом.
Африка оказалась пустырем, на котором собирались строить дома, там стоял огромный щит, а на нем – реклама:
Покупайте Дома
Которые Будут Здесь Построены
Ингрид плюнула в сторону доски.
– Дерьмовая доска, – сказала она.
На пустыре было полно ям и большой пруд, покрытый блестящей ряской. Там и тут попадались проплешины серого, спекшегося песка и маленькие холмики жирной желтой земли, похожей на глину, – но кое-где росли кустики, высокая острая трава, зверобой и лютики.
Ингрид шествовала впереди меня через Африку по узкой тропке и колотила палкой по сухим кустам, а оттуда с грозным жужжанием вылетали гигантские мухи.
Мы уселись на голом, открытом месте.
– Ты запасся провиантом? – спросила Ингрид. Но у меня, конечно, ничего не было. – Тогда мы должны сперва раздобыть провиант, – решила она, и мы пошли по другой дорожке в сторону домов.
– Зайдем в этот магазин, – сказала Ингрид, – они не торгуют конфетами, только шоколадом в плитках. А ты должен спросить: у вас конфеты есть?
– Зачем, – спросил я, – если у них все равно нет конфет?
– Не скажу, а то испугаешься.
– Меня ничем не испугать, – похвастался я. – Если я это сделаю, я стану твоим другом?
Она кивнула: да.
Мы вошли внутрь, звякнул колокольчик, и вышла толстая тетка в блестящем черном халате.
– Скажите, пожалуйста, у вас есть конфеты? – спросил я.
Нет, конфет у нее не было.
Мы вышли, и Ингрид побежала и бежала, пока мы не свернули за угол.
– Смотри, – она осторожно раскрыла сжатые кулачки, и я увидел, что в руках у нее полно изюма. Она аккуратно пересыпала добычу в карманы платья.
– Теперь я твой друг, – сказал я, подал своей подружке Ингрид руку, и мы пошли назад в Африку и съели весь изюм, сидя на желтом холме, с которого нам была видна вся Африка, до самых дальних ее границ.
Моя подружка Ингрид теперь молчала, только смотрела на меня.
Она повернула голову так, что волосы рассыпались у нее по плечам, но глаза ее оставались неподвижными. Я тоже смотрел на нее, потом указал рукой вбок и сказал:
– Вон те кусты называются дрок.
Но моя подружка Ингрид не ответила, она смотрела на меня. Потом мы услышали, что вдали зазвонил колокольчик. Ингрид вскочила, и я за ней.
– Это звонят у нас дома, – сказала она и добавила: – Я очень хочу дружить с тобой. – И, не закрывая рта, моя подружка Ингрид быстро поцеловала меня, так что губы мои стали мокрыми, а ее зубы коснулись моих. Потом она убежала. Мне нетрудно было найти дорогу назад; вдоль тропинки валялись осыпавшиеся с кустов сухие листья.
На прут ограды перед домом дядюшки Александра была наколота записка. Я развернул ее и прочел: «Твой дядя – жопочник». В это время на дорожке, ведущей в сад, появился дядюшка, и я сунул бумажку в карман.
– Где ты был? – спросил он.
– В Африке, дядя. С моей подружкой Ингрид.
– Тебе пора на поезд, – сказал он. – Вот твой чемоданчик.
И он исчез в саду.
***
Прошло ровно шесть лет – и я снова приехал к дядюшке Антонину Александру, чтобы пожить у него. Теперь мне нетрудно было дотянуться до звонка, но я подумал, что он, скорее всего, снова сидит на террасе, и обошел вокруг дома. Первое, что я увидел, были его руки.
– Ты тот самый Филип? – спросил он.
– Да, дядя, – ответил я.
– Ты принес мне что-нибудь?
Я подал ему рододендроны, которые только что срезал в соседнем саду.
– Твой подарок заслуживает самой высокой оценки, – сказал он и, не вставая – потому что за это время он постарел еще сильнее, – чуть-чуть поклонился, и голова его вышла из тени на свет.
– Садись, – сказал он, но на террасе больше не было стульев, и я сел у его ног, спиною к нему, на деревянные ступеньки.
– Мальчишка, который говорил, что у тебя девчачья прическа, был прав, – заговорил голос позади меня. – Мальчишка, который это сказал, просто защищался – ты должен его понять. Люди должны защищаться от чужих. – Он замолк, вечер и сад окружали нас. – Есть старая притча о рае. Мы все прекрасно ее знаем, и вот почему: весь смысл нашего существования – в надежде когда-нибудь вернуться в рай, хотя это и невозможно. – Он вздохнул. – Мы можем подойти к раю очень близко, Филип, гораздо ближе, чем люди думают. Но стоит кому-то приблизиться к этому несуществующему раю, люди набрасываются на него, потому что, как ни странно, глаза у них неправильно устроены; хрусталик в их глазах работает как бинокль – чем ближе я к невозможному райскому совершенству, то есть чем дальше ухожу от них, тем сильнее вырастаю в их глазах, и они считают, что должны от меня защититься, и нападают; люди всегда принимают неверные решения.
Вот я ношу кольца, – он поднял руки, унизанные кольцами, но теперь-то я знал, это были стекляшки в медной оправе, – а они говорят, что это суетность, я, мол, предался суете. Но такого не бывает, никто не может предаваться суете – бывает наоборот, человек устраняется от суеты, то есть от общества, становится отщепенцем. Я порвал с обществом и тем самым принес себя в жертву своей суетности, стал мельче. Для них я с этих пор чужак, я вырос в их глазах; но в своих собственных глазах я становлюсь все более обыкновенным, и уменьшаюсь, уменьшаюсь… Это как с островами. Чем меньше остров, тем замечательнее. Самый крошечный остров растворяется в море. И море – не люди, море – бог, с которым мы хотели бы слиться, которого мы перед собою видим и который носит имя, данное нами; море – вокруг, но мы живем вопреки божественному внутри нас. Помни об этом. Ты понимаешь, о чем я?
– Не совсем, дядя.
– Я ужасно устал, – сказал он и заговорил совсем медленно: – Мы рождены, чтобы стать богами и умереть; это – безумие. Второе для нас просто ужасно, потому что из-за этого нам никогда не достичь первого. Но для кого-то первое гораздо ужаснее. Божество ужасно, поскольку всемогуще. А человек больше всего боится чьего-то могущества, и это странно, не так ли: человек – отражение божества, бесконечной меры могущества, скрывающего за собою нечто ужасное. И хотя мы навечно этим повязаны, признать это трудно.
Он прервался, потому что не мог больше говорить, передохнул и сказал:
– И потом, существует еще такая штука – экстаз. Ты понял, что я сейчас сказал?
«Не знаю», – подумал я и сказал:
– Не все.
Он собрал цветы с коленей и поднялся.
– Пошли, – сказал он, – устроим себе праздник.
Я улегся на свой диван, а он – на свой.
И я слышал, как он бормочет:
– Черт побери, ты смертен и не имеешь права позволить себе, поверь мне, не смеешь позволить себе сойти с ума настолько, чтобы попытаться стать богом.
Я услышал его смех, а потом он тихонько запел:
– А теперь спроси меня, – крикнул он, – спроси.
И я запел:
Où allez vous?
И он быстро проговорил:
Au Paradis!
– Si vous allez au Paradis je vais aussi, —
ответил я, и тогда дядюшка Александр взял чемоданчик, и мы сели в автобус до Лунена и пересели в другой, до Лоосдрехта. В низине было тихо, как всегда по вечерам, и мы расстелили на траве парус, потому что было сыро, и выпили понемногу «Курвуазье», и ни о чем больше не говорили.
Позже, когда наступила ночь, мы пошли к автобусной остановке на дамбе, но на этот раз нам не встретилась девушка в красном пальто. В автобусе дядюшка Александр сел рядом со мной и сказал:
– Сегодня ее не было, той девчонки, которая целовала своего парня в губы, но я думаю, для нас она навсегда останется там – потому что все, что мы видим, навсегда остается в нашей памяти.
– И все-таки губы не так важны, как ее руки. Они были поистине прелестны.
На улице, когда мы вышли из автобуса, он сказал:
– Сейчас я для тебя поиграю.
Мы вошли в дом, он сел к клавесину и больше не казался усталым.
– Partita, номер второй, – провозгласил он, – симфония. – Руки его коснулись клавишей, словно крылья огромной встрепанной птицы, и он прошептал: – Grave adagio.
Я лег на свой диван, повернувшись к нему лицом, и слушал негромкие грустные звуки, которые рождали клавиши, касаясь струн, и как аккомпанемент – посапывание дядюшки Александра.
– Allemande, – объявил он, – allemande, courante, sarabande… видишь, как они танцуют… прелестно, прелестно.
Я смотрел, как он играл рондо, и думал, что никто на свете не любил меня так сильно, как дядюшка Александр, когда, на миг подняв голову, он поглядел на меня широко раскрытыми зелеными глазами и прошептал:
– Vivace, понимаешь? О-ох.
Доиграв последнюю часть, бурный caprice, он остался сидеть, уронив руки.
– Я хотел бы играть еще и еще, но больше не могу, – сказал он. Немного погодя он поднялся, и я тоже встал с дивана. Глаза его светились и были глубокими, как вода, когда он произнес: – Перед тобою господин Бах, Иоганн Себастьян Бах.
Я поклонился и сделал вид, что пожимаю невидимую руку.
– А вот – Вивальди, – сообщил дядюшка пустой комнате, – Антонио Вивальди, Доминико Скарлатти. – Он называл и называл имена: – Джеминиани, Бонпорти, Корелли…
А я кланялся и говорил:
– Sono tanto felice… Филип, Филип Эммануэль Фандерлей. Это большая честь. Очень приятно.
После того как я всем пожал руку, я спросил дядюшку Александра, можно ли мне идти спать.
– Да, – сказал дядюшка, – пора спать. Должно быть, уже поздно, раз они все явились. Иди наверх; четвертая дверь по коридору.
Комната оказалась та же, что в прошлый раз, – проснувшись утром, я увидел книги, стоявшие в том же порядке, что и в прошлый раз, и рододендроны у моей постели и представил себе, как дядюшка Александр заходил и смотрел на меня, спящего, и понял, что мальчик с портрета смотрел на меня всю ночь.
Он все еще был здесь, на стене, только, кажется, стал еще красивее. И лицо его изменилось, казалось, он хотел сказать: «У меня есть свои тайны».
Я подождал немного, но он уходил от меня все дальше – и мне показалось, что он взъерошил себе волосы.
Я открыл крышку граммофона и вытащил ручку. Потом завел граммофон, поставил пластинку, подошел к двери и прислушался. Быстрый топот ног дядюшки Александра вверх по лестнице прорвался сквозь фальшивые вопли тенора и резкий стук иглы, подскакивающей на царапине.
Он оставил дверь открытой. Лицо его было в красных пятнах, а ладони – я это видел – вспотели. Да, еще рот у него был открыт, и в уголках губ – слюна.
Но все-таки дядюшка Александр не кричал, а когда я снял пластинку, он сказал:
– Я должен тебе все объяснить.
Губы мальчика на портрете шевельнулись – но, может быть, мне это только показалось; мы спустились вниз, в сад, и сели на скамейку среди высокой сырой травы.
– Его звали Паул Свейлоо, – начал дядюшка Александр, – и он жил здесь со своим отцом, они приехали из Индонезии и получили вид на жительство в Голландии. Мать у него была индонезийка, кажется, она умерла – по крайней мере, здесь ее не было, и Паул никогда о ней не говорил. Он жил в этом доме, только сад был намного больше и граничил с моим – я жил там, где теперь построили новые дома. Я часто видел, как он играл в саду. Он думал, что вокруг никого нет, и громко разговаривал сам с собою – я все равно ничего не мог расслышать, он играл слишком далеко от забора. Но я мог видеть, что он никогда не смеется и всегда разламывает что-то руками или рвет листья. Я не осмеливался позвать его – но однажды он подошел так близко к решетке, отгораживавшей мой сад, что я расслышал его слова. «Там никого нет, – сказал он, – совсем никого».
Дядюшка Александр переменил позу, и трава закачалась и зашелестела, потревоженная его ногами.
– Да, – продолжал он, – может быть, из-за того, что я тогда подал голос, я и сижу теперь здесь, на его скамейке; я сказал: «Неправда. Я здесь». Мальчик вздрогнул, и я увидел, что глаза у него – черные и дикие, как у хищного зверя; раз уж он нашел меня в саду, то не позволит вырваться. Он пошевелил губами и дикарским движением вздернул голову.
«Кто ты такой? – сказал он и подошел поближе. – Я тебя не знаю».
«Я живу в соседнем доме», – ответил я и стал перелезать через решетку. Он помог мне спуститься на землю, потому что я не слишком хорошо лазаю.
«Ты совсем старый, – сказал он, – у тебя полно седых волос. Зачем ты со мной разговариваешь?»
«Не ходи босиком, – сказал я, – трава мокрая».
«Ну и что? Смотри, – он поднял ногу и показал мне подошву, – в Индонезии я всегда ходил босиком. – Он топнул ногой. – Уходи сейчас же из моего сада, ты – старик!» Это все случилось лет сорок назад, но ему было десять, и я, конечно, был намного старше.
«Помоги мне перелезть через решетку», – попросил я.
«Ничего, и сам справишься». Но это была высокая решетка, и я боялся, что упаду, а он будет надо мной смеяться, – и поэтому сказал: «У меня что-то не в порядке с ногой».
Он подошел поближе, чтобы помочь мне, и я почувствовал, какой он сильный, когда он подставил руки, чтобы я мог на них встать ногой.
«Я испачкаю тебе руки ботинками».
«Почему тебе не снять их, – сказал он нетерпеливо, – ножки промочить боишься?»
Но я боялся только того, что мои ноги покажутся ему смешными – слишком белыми и старыми по сравнению с его ногами.
«Ладно, – сказал я. – Сам справлюсь». Конечно, я свалился с забора – на своей стороне. Но когда я оглянулся, чтобы посмотреть, не смеется ли он, его нигде не было видно. «Эй, – крикнул я, – выходи, я все равно тебя вижу».
«Я буду тут стоять, пока ты не выйдешь, – снова крикнул я. – Я всегда буду тут стоять».
– Да, – продолжал дядюшка Александр, – я стоял и думал, каким смешным, должно быть, кажусь ему, притаившемуся в кустах, следящему за мною, как охотник. Брюки мои порвались, потом пошел мелкий дождик, я замерз и промок. Вдруг – я решил, что подул ветер, – дерево, под которым я стоял, закачалось, стряхивая на меня капли воды. Но другие деревья в его саду не шевелились, я оглянулся и увидел, что и в моем саду деревья стоят неподвижно, окутанные вуалью мелкого дождя, – а он засмеялся у меня над головой и стал еще сильнее раскачивать ветви.
«Спускайся, – крикнул я, – а то свалишься».
«Я никогда не свалюсь, – откликнулся он и ловко, как гибкий дикий зверь, соскользнул вниз. – Тебе пора есть, – сказал он. – Я слышал, в твоем доме звонили к обеду».
«Хочешь пообедать со мной? – спросил я и подумал, что он вряд ли согласится, но он сказал: «Почему бы нет?» – и мы пошли ко мне домой обедать. За столом он молчал, а я не очень-то понимал, о чем с ним говорить. И вдруг он, не доев, вскочил и сказал: «Теперь мне пора домой, обедать, пока». И вышел из комнаты, и закрыл за собой дверь. Весь следующий день я просидел в беседке, на краю сада, но не видел его, и на другой день – тоже, и я подумал, что, может быть, он вернулся к себе в Индонезию. Но через неделю он вдруг появился. Я сидел в беседке и вдруг услыхал, как он зовет. «Ого-го, – кричал он прерывающимся голосом, как дети, когда зовут друг друга. – Эй, э-гей, где ты?»







