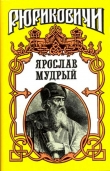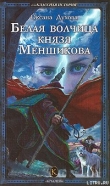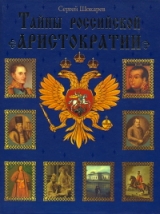
Текст книги "Тайны российской аристократии"
Автор книги: Сергей Шокарев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
Усадебная жизнь
Усадебная жизнь была подчинена распорядку сельскохозяйственных работ. Большинство помещиков, находясь в усадьбе, сами «вели хозяйство». Результаты такого хозяйствования были различны, однако в большинстве случаев агрономические новшества помещиков не приживались на российской почве. В то же время стремление приложить свои силы в развитие сельского хозяйства, равно как и опыт иностранных агрономов, было сильно распространено среди помещиков, особенно во второй половине XVIII в. Одним из выдающихся российских агрономов был тульский помещик Андрей Болотов – активный участник деятельности Вольного экономического общества, издатель первого в России частного сельскохозяйственного журнала «Сельский житель», редактор издания «Экономический магазин». В круг его интересов входила не только агрономия, но и лесоводство, селекция, садоводство. Своими трудами и трудами коллег по Вольному экономическому обществу Болотов способствовал распространению новых сельскохозяйственных орудий и методов, активно привлекал и развивал на российской почве зарубежный, в основном английский, опыт. Однако даже удачливому Болотову далеко не всегда удавалось преодолеть сопротивление крестьян, с недоверием относившихся к подобным барским причудам и предпочитавшим пахать и сеять по старинке.
Другой заботой землевладельца было управление имением – сбор оброка и барщины, организация крепостного производства. Здесь успехи у сельских хозяев напрямую зависели от их административных талантов. Впрочем, полное отсутствие умения управлять никогда не останавливало помещика, в большинстве случаев уверенного в обратном. Русская литература знает много подобных примеров.
Широко распространен был и противоположный тип управления, который лишь условно можно назвать этим словом. Отец Онегина не мог понять новомодных экономических теорий, исповедовавшихся сыном, и «земли отдавал в залог». С появлением Дворянского заемного банка (1754) и подобных ему кредитных учреждений многие помещики отдавали земли и крепостных под залог и спокойно тратили полученные ссуды, не заботясь о будущем своих детей и внуков. Широкое распространение этой практики привело к кризису дворянского землевладения в первой половине XIX в. Если в начале XIX в. в залоге находилось всего 5 % крепостных крестьян, то к 1830-м гг. эта цифра увеличилась до 42 %, а к 1859 г. – до 65 %. Долги дворян, заложивших свои имения, только в государственных кредитных организациях достигли астрономической величины – 425 млн. руб., что в два раза превышало годовой бюджет России.
И все же большинство землевладельцев выбирало средний путь между личным управлением и залогом имения, которое в конечном счете вело к его потере. Управление имением передавалось приказчику, а владельцы довольствовались отчетами и приездами в летнее время. Приказчик – особенная фигура в усадьбе. Воровство и плутни приказчиков вошли чуть ли не в поговорку. Основой «политической системы» горюхинского приказчика была следующая аксиома: «Чем мужик богаче, тем он избалованней, чем беднее, тем смирнее» (А. С. Пушкин. «История села Горюхина»), а ее результатом то, что «в три года Горюхино совершенно обнищало».
Традиционно считалось, что иностранное происхождение управляющего гарантирует (хотя бы на некоторое время) его честность. Однако, во-первых, на практике это происходило далеко не всегда, а во-вторых, огромная разница мировоззрения приказчика-немца и русских крепостных сводила на нет все усилия даже самых добросовестных управляющих. Иллюстрацией тому служит анекдот о «преподобном Шершне», родившийся в XIX в. Вот его содержание. В некую деревню был прислан приказчик-немец. Как-то в церковный праздник он отправляет крестьян на барщину. «Нельзя работать, батюшка, сегодня же Спас Нерукотворный», – отвечают те. «Что такое „Спас Нерукотворный“? Не знаю». Крестьяне приносят приказчику икону. «Да это что, – немец постучал по иконе, – деревяшка. Ни мне ни вам ничего не сделает, работайте давайте». На Николин день – то же непонимание, конфликт и та же реакция немца. В третий раз крестьяне приходят и объявляют, что не могут работать в день «преподобного Шершня». Немец опять интересуется – кто это? Тогда крестьяне ведут его к дуплу с осиным гнездом. Финал ясен – приказчику пришлось все-таки признать превосходство православных обрядов над протестантской логикой.
К слову о церковных праздниках. Одним из важнейших событий в жизни села и усадьбы, моментом единения между господами и крестьянами был местный храмовый праздник. «Как я любил этот день! – вспоминает о престольном празднике в имении своего детства Ахтырке философ князь Е. Н. Трубецкой. – С утра появлялись на лугу между домом и церковью палатки, торговавшие семечками, пряниками и другими гостинцами для народа. Потом мы отправлялись к обедне, в церковь, где стояли в особом княжеском месте, обнесенном балюстрадой. Весь день водились хороводы с песнями, а к вечеру народ приходил к большому парадному крыльцу, открытой террасе со ступеньками, где совершался торжественный выход дедушки к народу, своего рода высочайший выход…» В такие моменты четко демонстрировался «отеческий» характер взаимоотношений барина и крепостных. «Я собрала всех крестьян, – пишет княгиня Е. Р. Дашкова, – приказала им надеть праздничное платье с разными украшениями… и заставила их плясать на лугу и петь наши народные песни… Чтобы вполне завершить нашу пирушку, нас угощали русскими яствами». В ответ Дашкова поднесла крестьянам хлеб-соль – не без намека на то, кто истинный хозяин на празднике.
В богатых усадьбах, в основном вблизи обеих столиц, празднования приобретали огромный размах и характер публичных гуляний. Такие гулянья регулярно проходили в XVIII в. в Нескучном саду, Кускове, Останкине, на дачах под Петергофом. На них приглашались не только дворяне, но и представители других сословий – просветительские понятия общественной пользы и права каждого наслаждаться красотами природы пересиливали аристократическое чванство владельцев. Впрочем, одно дело – гулять в парке, а другое – быть приглашенным к столу. К принимавшему по несколько сотен человек графу Шереметеву никто и не посмел бы явиться не в офицерском или дворянском мундире. Господствовал также обычай угощения «по чинам» (по классам «Табели о рангах»). Как-то раз один из вельмож спросил у самого невзрачного из своих гостей, все пиршество просидевшего в дальнем углу и забытого лакеями – все ли тому понравилось. «Благодарю вас, ваше сиятельство, – отвечал гость, – мне было отлично видно». Однако на празднике, устроенном в 1778 г. знаменитым богачом, меценатом и чудаком П. А. Демидовым, более пятисот человек упились до смерти.
Аристократические пиршества с фейерверками, театральными и балетными представлениями, роговой музыкой и катанием на лодках – особая страница в истории не только усадебной культуры, но и отечественной традиции проведения праздников, в том числе и национальной кулинарии. В XVIII–XIX вв. гремели имена вельмож, которые в буквальном смысле, проедали миллионные состояния. Граф Завадовский, приказывавший квасить ананасы в кадушках, как капусту, с тем, чтобы из них потом варили борщ и щи, умер в нищете. У графа Мусина-Пушкина поросят к барскому столу ежедневно мыли и пеленали, как младенцев. «В Орловской губернии, – пишет Пыляев, – жила генеральша Рагзина, обед которой длился по семи часов, и на стол подавалось до двадцати разных каш в небольших горшочках, приготовленных из незрелых зерен ржи, пшеницы и т. д., а маринадов и солений было бесчисленное множество… Генеральша эта была большая привередница и летом обыкновенно обедала на плоту своего пруда…» Число барских чудачеств в кулинарной области можно продолжать до бесконечности.
У среднего дворянства все было скромнее. Достаточно перечитать пушкинское описание именин Татьяны Лариной. Поэт описывает не только стол, но и весь церемониал праздника: угощение, поздравления, карточная игра и, наконец, – бал, основными элементами которого были лирический вальс и громогласная мазурка («припрыжки, каблуки, усы»). Ранее поэт упоминает и главные темы общения в помещичьем кругу: «О сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне…»
О псарне – одной из главных, наряду с хозяйством, забот помещика действительно говорили часто и с удовольствием. Вот типичный пример псарни богатого помещика: «Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят…» (А. С. Пушкин, «Дубровский»). Старик Дубровский был несомненно прав, заметив при этом: «Псарня чудная, вряд ли людям вашим житье такое ж, как вашим собакам…» Забота о собаках и лошадях и вправду часто превосходила у помещиков заботу о крепостных.
Охота занимала огромное место в жизни дворян. Свободные от сельских хлопот осень и зима были посвящены охоте, и главным образом псовой. В Древней Руси к собаке относились с опаской и пренебрежением. Василий III первым из русских государей ввел в обычай охотиться с собаками, у него была первоклассная свора, свои охотничьи угодья и даже заказники. Со второй половины XVIII в. псовая охота господствует в провинции. Вообще же дворяне, даже в XVI в., когда их основное время и силы уходили на ратную службу, находили возможность охотиться. В завещаниях аристократов той эпохи упоминаются «пищали зверовые», т. е. охотничьи ружья XVI в. Но подлинный расцвет дворянской охоты начался уже после Манифеста 1762 г.
Псовая охота со множеством ее участников и парадным церемониалом оказалась наиболее созвучна широкой натуре русских бар. «Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение», – пишет Л. Н. Толстой, оставивший красочные описания псовой охоты на волка и зайца. С середины XIX в., в связи с совершенствованием огнестрельного оружия и вместе с тем обнищанием дворянства, псовая охота постепенно исчезает. На смену ей приходит ружейная, воспетая С. Т. Аксаковым и И. С. Тургеневым.
Итак, хозяйство, обустройство усадьбы, празднества, приемы и охота составляли основу времяпровождения помещика в деревне. Несмотря на высокий уровень образованности среди дворян, далеко не каждый помещик предавался в деревенской тишине ученым или литературным трудам. И все же в тиши Остафьева творил бессмертную «Историю государства Российского» Н. М. Карамзин, писал стихи П. А. Вяземский. Михайловское и Болдино навечно вписаны в историю русской и мировой литературы благодаря творчеству А. С. Пушкина. Ясная Поляна овеяна гением Л. Н. Толстого.
Пушкин устами своего героя из «Романа в письмах» выражал заветную мысль: «Петербург прихожая, Москва девичья, деревня же наш кабинет. Порядочный человек по необходимости приходит через прихожую и редко заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем кабинете». «Приют уединенных муз» – как высокопарно именовали усадьбу в XVIII в. – дал русской и мировой культуре бессмертные произведения литературы и музыкального искусства.
Внебрачное потомство знаменитых фамилий
Средневековая Русь не знала понятия о бастардах. Конечно, внебрачные дети были, хотя бы у прославленного распутством Ивана Грозного, который хвастался, что «растлил тысячу дев», однако, в отличие от Западной Европы, их не принимали в приличное общество ни при каких условиях. Если во Франции XVI в. внебрачные дети получали герб со знаком бастарда и земли, которые изволил выделить им отец, то в России все было гораздо более жестко. «Соборное уложение» 1649 г. определяло взыскивать за бесчестье, если кого-либо обозвали «выблядком». Зато, если «в сыску скажут, что он прямой выблядок и прижит он у наложницы до законной жены, или и при законной жене, или после законной жены, и таким выблядкам в бесчестиях отказывать, и поместий и вотчин того, кто его незаконно прижил, ему не давать…».
Впрочем, как известно, на то и законы, чтобы фиксировать существующие правонарушения. Несомненно, как мы знаем и по более поздней практике, среди дворян XVI – XVII вв. бывали и такие, что родились до брака их отцов или вне церковного брака. О моральном облике русских мужчин той эпохи красноречиво свидетельствует австрийский посланник Августин Мейерберг, посетивший Россию в правление царя Алексея Михайловича. Мейерберг пишет, что один из его русских собеседников, «стараясь превосходство своей веры доказать строгостью устава, превозносил суровые и продолжительные покаянные условия, налагаемые исповедником на прелюбодея: я и сказал ему, что если так идет дело, то, должно быть, все вы, москвитяне, беспрестанно справляете наложенные на вас епитемьи, не получая никогда разрешения, потому, что мы знаем вашу частую повадку подбираться к чужим женам». – «Вот еще дураков нашли! – отвечал он. – Разве мы говорим когда об этом попу?»
Понятно дело, что и в Средние века, как и в другие эпохи, были люди разной нравственности, а глубокая религиозность и моральные законы того времени все же заставляли большинство соблюдать известные десять заповедей. Тем более примечательно, что первый известный внебрачный потомок царского рода был сыном благочестивого царя Алексея Михайловича. Это – Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, – впоследствии боярин и видный администратор при Петре I.
Среди многих стольников при царе Алексее служил и потомок старинного рода Алексей Богданович Мусин-Пушкин (ум. 1669). Он был просвещенным книжником, также как и его супруга, Ирина Ивановна (урожденная Полозова). Как считают историки древнерусской литературы, Алексей Богданович и его супруга Ирина Ивановна были авторами исторического сборника «Книга о великих князьях русских, отколь произыде корень их», содержавшего изложение древней русской и славянской истории, построенное не только на летописных известиях, но и на русских сказочных повестях и исторических преданиях. Оставшись после кончины супруга вдовой, Ирина внезапно стала героиней загадочного и угрожающего расследования.
В 1675 г. «для государева тайного дела и сыску» отправились в Ростов бояре князь Яков Никитич Одоевский и Артамон Сергеевич Матвеев. Царский наказ повелевал им расспросить вдову стольника Алексея Мусина-Пушкина Ирину и пытать ее «накрепко». Были приняты строгие меры для сохранения тайны. По дорогам разослали стрелецкие отряды, имевшие приказ допрашивать всех, кто едет из Москвы или в Москву и досматривать, нет ли каких писем. Розыск кончился тем, что несчастную Ирину под караулом из 50 стрельцов сослали в дальнюю деревню на Вологде, ее брата Изота Полозова и двух сестер сослали в другие деревни, а именья отписали на государя. Сын Мусиной-Пушкиной, четырнадцатилетний Иван Алексеевич, содержался под караулом в Москве, после чего был сослан в ростовское имение, где пробыл плоть до воцарения нового государя – Федора Алексеевича.
Чем же провинилась несчастная женщина, и почему именно Матвеева, человека доверенного и расторопного, отправил царь для розыска по этому странному делу? С определенной долей осторожности можно предполагать, что вся вина Ирины Мусиной-Пушкиной заключалась в том, что ее сын Иван был рожден от связи с царем Алексеем Михайловичем. Родился он в 1671 г. В это время царь вдовел после смерти первой супруги Марии Ильиничны, но еще не женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной.
Доказательством высокого происхождения Ивана Мусина-Пушкина служит отношение к нему Петра I. Император в своих письмах называл Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина «братцем». Когда в 1716 г. сын И. А. Мусина-Пушкина Платон был отправлен учиться в Голландию, царь рекомендовал его голландскому резиденту князю Б. И. Куракину: «Господин подполковник! Посылаем мы к вам для обучения политических дел племянника нашего Платона, которого вам яко свойственнику свойственника (Куракин был женат на сестре царицы Евдокии Федоровны Лопухиной. – С.Ш.) рекомендую. Петр».
Таким образом все становится на свои места. Слух о царском происхождении Мусина-Пушкина стал распространяться. Озабоченный этим, царь поручил Матвееву заставить замолчать Ирину Мусину-Пушкину и ее болтливую родню. К тому же, у Артамона Сергеевича была личная заинтересованность поддерживать тишину и спокойствие вокруг семейной жизни Алексея Михайловича: его воспитанница за несколько лет до этого стала второй супругой царя, и в 1675 г. уже подрастал трехлетний царевич Петр.
В пользу гипотезы о том, что И. А. Мусин-Пушкин был сыном царя свидетельствует и то, что она была впервые изложена князем Долгоруковым – знатоком сплетен и темных моментов в родословных знатных семейств. Таким образом, с достаточной долей уверенности можно считать, что эта линия Мусиных-Пушкиных является первой внебрачной ветвью царского рода Романовых.
О внебрачных детях Петра I известно немного, хотя иностранцы пишут, что император не стеснялся посещать Западную Европу, окружив себя толпой «метрес» и прижитых от них детей. Правда, называли и имена видных деятелей и вельмож XVIII в., с той или иной степенью вероятности бывших сыновьями Петра I. Один из них, возможно, великий русский полководец граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский, мать которого – графиня Мария Андреевна Матвеева (внучка Артамона) была давней привязанностью императора.
В отношении морали Петр I так же грубо ломал древнерусские устои, как и во всем остальном. Большинство его детей от Екатерины I родились еще до их брака. Это дало повод консерватору и аристократу князю сенатору Дмитрию Михайловичу Голицыну презрительно поименовать цесаревен Анну и Елизавету «выблядками Петра Великого». Впрочем, Голицын позднее поплатился за свое стремление вершить судьбами российского престола. Поставив в 1730 г. Во главе государства Анну Иоанновну, племянницу Петра I, Голицын и его товарищи попытались ограничить было ее самодержавные права, но проиграли и закончили жизнь кто на плахе, а кто в каземате.
Начиная с суровой Анны Иоанновны, большинство правителей Российской державы имели внебрачное потомство. Анна Иоанновна – детей от Эрнста Бирона, которые официально считались детьми Бирона и его супруги, также Анны, урожденной Готлиб фон Тротта-Трейден.
История несчастной княжны Таракановой, якобы дочери императрицы Елизаветы и графа Алексея Григорьевича Разумовского, воспета художником К. Флавицким. Бедная барышня, окруженная водой и крысами, неизменно вызывает общее сочувствие. Другое дело, что Тараканова, скончавшаяся в Петропавловской крепости, вовсе не утонула, да еще и к тому же не была дочерью Елизаветы. А вот загадочная инокиня московского Ивановского монастыря Досифея – скорее всего, действительно дочь веселой императрицы. Досифея долгие годы жила в уединении, но рассказывали, что на столе у инокини стоял портрет Елизаветы Петровны, с которым она имеет явное сходство. Когда же в 1810 г. инокиня Досифея скончалась, то на ее похоронах появилось неожиданно много высокопоставленных особ, которым вроде и не положено провожать в последний путь обычную монахиню. В их числе был и московский генерал-губернатор граф Иван Васильевич Гудович, родня Разумовским по супруге Наталье Кирилловне, племяннице Алексея Григорьевича. Похоронили Досифею в Новоспасском монастыре – родовой усыпальнице Романовых.
Петр III за недолгую жизнь так и не успел стать отцом внебрачных детей, зато здесь, как и во многом другом, его перещеголяла Екатерина II. Оставим в стороне версию происхождении Павла I от Сергея Васильевича Салтыкова. Единственным ее источником являются записки самой Екатерины II. Есть все основания считать, что «матушка-императрица» настолько хотела насолить нелюбимому сыну, что оболгала себя, обвинив в несуществовавшем адюльтере. За родство Петра III и Павла I говорит и внешнее сходство, и сходство характеров.
Зато уже вторая дочь Екатерины II, Анна, родившаяся в 1757 г. и умершая в младенчестве, появилась от связи великой княгини с польским посланником, красавцем Станиславом Понятовским. Впоследствии Екатерина добыла для своего бывшего любовника трон Речи Посполи-той, ставший для Понятовского Голгофой. Из любви к Екатерине он пошел на поглощение своей страны Российской империей, чем заслужил всеобщую ненависть поляков. Однако Понятовскому это было безразлично. Он хотел лишь видеть предмет своего обожания, рвался в Петербург к ногам своей повелительницы, но все безуспешно – для Екатерины роман с королем остался в прошлом, а волновать себя сценами ревности она не хотела. В 1787 г. постаревшие любовники встретились во время путешествия Екатерины II по Днепру. Вскоре после этого государственность Речи Посполитой была окончательно разрушена, а ее территорию поделили между собой Россия, Пруссия и Австрия. Несчастный король-романтик переехал в Петербург, где и окончил свои дни.
Преемником Понятовского в сердце Екатерины стал богатырь, гвардеец граф Григорий Григорьевич Орлов. В 1762 г. родился их сын Алексей, впоследствии получивший титул графа Бобринского и ставший родоначальником известного рода, продолжающегося и поныне.
Наконец, последним ребенком Екатерины стала ее дочь от Григория Александровича Потемкина, Елизавета, родившаяся в июле 1775 г. В отличие от других мужчин Екатерины, Потемкин был ее законным мужем. Как установил на основе тщательного анализа отрывочных свидетельств В. С. Лопатин, тайное венчание Екатерины II и Потемкина состоялось в июле 1774 г. Среди немногочисленных свидетелей этого таинства находился Александр Николаевич Самойлов, адъютант и племянник Потемкина. Впоследствии в его семье выросла Елизавета Темкина, которую выдали за генерала Калагеорги, грека на русской службе.
Павел I оставил обширное потомство. От второй супруги, Марии Федоровны (первая, Наталья Алексеевна, умерла при родах), у него было четыре сына и шесть дочерей. Но еще до брака Екатерина (вероятно, для того, чтобы дать наследнику необходимый опыт) свела его с княгиней Софьей Степановной Чарторижской. Их сын Семен, родившийся в 1772 г., получил громкую фамилию Великий. Семен Великий был морским офицером. В 1796 г. во время стажировки на английском флоте он неожиданно умер.
На этом амурные приключения Павла I не закончились. Он избрал дамой сердца фрейлину Екатерину Ивановну Нелидову, ставшую с годами едва ли не членом семьи. Вслед за этим император увлекся молоденькой Анной Петровной Лопухиной. Нелидова покинула двор, удалившись в Смольный монастырь. Анну Лопухину Павел обожал и даже учредил в честь нее орден Святой Анны. Комната Лопухиной соединялась со спальней Павла потайным ходом. Однако Анна довольно скоро взбунтовалась и запросилась замуж за предмет своей страсти – князя Павла Гаврииловича Гагарина. Рыцарски благородный император благословил этот брак, но потайной ход остался по-прежнему. Видимо, устав от сановных дам с их капризами, Павел нашел утешение с одной из дворцовых служительниц, и она, незадолго до кончины императора, подарила ему дочь, которую специальным указом предписывалось именовать Мусиной-Юрьевой. Правда, девочка прожила недолго и умерла в детстве.
Сыновья Павла I не отставали от отца. Про Александра I говорили, что он любил всех хорошеньких женщин, исключая свою супругу, императрицу Елизавету Алексеевну. Наиболее длительным был роман Александра с графиней Софьей Антоновной Нарышкиной, урожденной княжной Святополк-Четвертинской. Из ее общих детей с императором дожил до зрелого возраста сын Эммануил, носивший фамилию Нарышкин. Он родился в 1813 г., прожил долгую жизнь, служил при дворе, прославился благотворительностью и умер в 1902 г.
По слухам, другим сыном Александра I был Николай Васильевич Исаков (1821– 1891) – видный государственный деятель, генерал от инфантерии, активный участник проведения военной реформы, организатор Румянцевского музея и Румянцевской библиотеки в Москве.
Николай I был человеком более основательным, чем Александр I. Он предпочитал длительные, проверенные связи, хотя иногда его любвеобильность приводила к скандалам. Многолетней фавориткой императора являлась Варвара Аркадьевна Нелидова, племянница Екатерины Ивановны. Другая длительная связь существовала между Николаем и Еленой Андреевной Цвиленевой, внебрачной дочерью графа А. Г. Орлова-Чесменского и двоюродной сестрой первого графа Бобринского. Елена Цвиленева родила императору восемь детей, носивших фамилию Николаевы. Их потомство существует и в настоящее время.
По сравнению с братьями великий князь Константин Павлович выглядит скромно – всего трое внебрачных детей: Павел Константинович Александров (1808–1857), впоследствии генерал, от Жозефины Лемерстье; Константин Иванович Константинов (1818–1871), также генерал и видный ученый конструктор в области баллистики и порохового дела, именем которого назван кратер на Луне, и Констанция Ивановна Лишина (1814– 1872) – оба от связи с Кларой-Анной Лоран.
Александр II оказался самым совестливым из императоров: он узаконил своих внебрачных детей и женился на их матери княжне Екатерине Михайловне Долгоруковой после кончины своей супруги императрицы Марии Александровны. Екатерина Михайловна и ее дети – сын Георгий (1872–1913) и дочери Екатерина (1878–1959) и Ольга (1873–1925) получили титул князей Юрьевских.
Брак императора и княжны Долгоруковой состоялся в 1880 г. и был встречен злобным ропотом при дворе. Многие за глаза обвиняли Александра II в безнравственном поведении, забыв о еще более развратном поведении его предшественников. Ходили и зловещие слухи о неминуемой беде: якобы членам рода Романовых нельзя жениться на представительницах рода Долгоруковых. Первый брак – царя Михаила Федоровича и княжны Марии Владимировны Долгоруковой в 1624 г. завершился скорой смертью невесты. А сватовство Петра II к княжне Екатерине Алексеевне Долгоруковой оказалось трагичным для жениха – накануне свадьбы он скончался (в ночь с 18 на 19 января 1730 г.). Предсказание оказалось пророческим – не прошло и года со дня свадьбы Александра II и Екатерины Долгоруковой, как император погиб от взрыва бомбы, организованного революционерами-террористами.
Помимо князей Юрьевских внебрачным сыном Александра II считали видного военно-морского деятеля начала XX в. – адмирала Евгения Ивановича Алексеева (1843–1918). Наместник на Дальнем Востоке, он стал одним из инициаторов провальной для России войны с Японией. Кроме того, туманные намеки о своем происхождении от Александра II сообщает в своих мемуарах княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1863/1864–1928), прославившаяся как благотворительница, собирательница, художница, искусствовед и этнограф, создавшая музей «Русская старина» в Смоленске и рисовальные школы в Петербурге и Смоленске.
В отличие от предков, два последних императора – Александр III и Николай, – являлись образцовыми супругами. Зато прегрешения против супружеской верности и Закона о престолонаследиии позволяли себе другие другие члены рода. В первую очередь, это братья Александра II – великие князья Константин и Николай Николаевичи. Унаследовав от отца страсть к балетным танцовщицам, оба великих князя завели на стороне вторую семью. Константин Николаевич – с Анной Васильевной Князевой (1844– 1922) (их дети носили фамилию Князевых), а Николай Николаевич – с Екатериной Гавриловной Числовой (1845– 1889). Их детям была пожалована фамилия Николаевых.
Не отставали от старших и представители следующего поколения – вопреки запрету, в морганатический брак вступили великие князья Алексей Александрович, сын Александра II (родоначальник графов Белевских-Жуковских от связи с Александрой Жуковской, дочерью поэта), его брат Павел Александрович, Михаил Михайлович, внук Николая I (он женился на внучке А. С. Пушкина графине Софье Николаевне Меренберг, а их потомки получили от английской королевы титул графов де Торби), Михаил Александрович, сын Александра III, а после революции и многие другие.
На рубеже XIX – XX столетий как будто какая-то эпидемия морганатических связей охватила дом Романовых. Александр III силой своего авторитета еще кое-как удерживал родню в рамках закона о престолонаследии. Когда великий князь Николай Николаевич (Младший, сын Николая Николаевича Старшего и внук Николая I) обратился к государю с просьбой дозволить ему брак с некоей петербургской купчихой, в каковую он был без памяти влюблен, император произнес: «Со многими дворами я в родстве, но с Гостиным пока еще не был» – и отказал великому князю. Тот смирился и позднее женился на дочери черногорского правителя. Зато при Николае II его родня прямо-таки разбушевалась. Нарушил запрет даже родной брат императора Михаил Александрович, женившийся в 1912 г. на Наталье Брасовой, урожденной Шереметевской, в браке Вульферт, которую великий князь увел от своего полкового товарища. К несчастью, их сын Георгий (1910–1931) прожил недолгую жизнь и погиб в автокатастрофе во Франции.
Пожалуй, самой примечательной оказалась судьба потомства великого князя Николай Константиновича, первенца Константина Николаевича и внука Николая I. Но прежде следует сказать о судьбе самого великого князя – человека яркого и неординарного, как и многие из Романовых, но оказавшегося в императорской семье отщепенцем.
Высокий и широкоплечий красавец, блестящий офицер, Николай Константинович (в семейном кругу – Никола), погубил свою жизнь неосторожным поступком ради прелестной иностранки. Влюбившись без памяти в американку Фанни Лир, Никола потратил на нее огромные суммы, для получения которых вынес из дворца немало драгоценных вещей. Самой громкой стала пропажа бриллианта с оклада иконы великой княгини Александры Иосифовны, матери Николая. Виновный вскоре нашелся и разгорелся страшный скандал. Многие склонялись к тому, что причиной воровства стала психическая неуравновешенность великого князя; возможно, он не сознавал, что делает. Но император Александр II был суров – вору не место среди императорской семьи. Предлагали разжаловать великого князя в солдаты, однако государь отвечал: «Не хочу позорить имя русского солдата». Николая Константиновича объявили душевнобольным и принялись довольно жестоко и своеобразно лечить. Так, когда несчастный влюбился в одну из светских дам – Александру Демидову, – и как казалось, успокоился, светила тогдашней психиатрии «положительным образом высказались против мысли об установлении постоянных сношений больного великого князя с одной женщиной», предлагая, ради его же душевного здоровья, организовать что-то вроде постоянно обновляющегося гарема (!). Демидову отослали от Николая Константиновича, а тот впал неистовство. К этому времени у них уже было двое детей – Николай и Ольга.