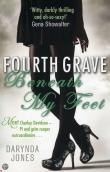Текст книги "Невинные дела (Худ. Е. Капустин)"
Автор книги: Сергей Розвал
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
Сергей Яковлевич Розвал
Hевинные дела



Часть I. Мозговой трест
1. Секрет профессора Уайтхэча
Мы работаем совсем не беспристрастно… Беспристрастный ум – это бесплодный ум.
М.Уилсон. «Живи с молнией»
Профессор Герберт Уайтхэч недовольно поморщился, когда секретарь лаборатории доложила ему, что у телефона господин президент республики. Секретарь была до того миловидна, что даже на лице профессора Уайтхэча, навеки окаменевшем в брезгливо-кислой маске, иногда пробивался отдаленный намек на улыбку. Но на этот раз лицо его стало еще кислее (хотя это и казалось уже абсолютно невозможным). Он очень хорошо предвидел содержание беседы. Конечно, произойдет она не сейчас – телефон для этого не годится, – но ясно, времени, чтобы подготовиться к встрече с президентом, немного. Да и как готовиться? Им нужны не слова…
В самом деле, господин Бурман приглашал явиться сегодня же. "Очень хорошо, господин президент", – проскрипел в трубку профессор Уайтхэч, хотя ему было совсем не хорошо. Сидя за письменным столом, он раздумывал, как выйти из щекотливого положения. Высокий (это было видно даже, когда он сидел), худощавый, совершенно лысый старик со сверлящим взглядом, он у каждого, видевшего его впервые, оставлял какое-то смутно-неприятное и тревожное ощущение: что-то инквизиторское сквозило во взгляде, в колючей фигуре, и надо было сделать усилие, чтобы согласиться, что это ученый.
Профессор Уайтхэч действительно был крупным ученым, в свое время прославившимся рядом выдающихся открытий и изобретений. Но уже много лет, как он принял руководство секретной государственной лабораторией лучистой энергии; естественно, работы его теперь не публиковались, его стали забывать. И вот тут-то, в этой секретной лаборатории, и появился у профессора Уайтхэча свой особый секрет. Он почувствовал, что на карту поставлена его научная судьба. Вне лаборатории он мог бы сделать еще ряд открытий и войти в науку тем ученым второго ранга, которого почитают и награждают при жизни, в надгробной речи клянутся не забыть вовеки и забывают прежде, чем успевает осесть земля на могиле. Нет, участь чернорабочего в науке не прельщала Уайтхэча. Он уже давно постиг ту истину, что крупные научные открытия в наше время вряд ли увидят свет: они могут изменить всю жизнь человечества – разве допустят это те, кто наверху? Зато наука сейчас плодотворна, как никогда, для войны. Мысль эта казалась профессору Уайтхэчу до того простой и ясной, что он с жалостливым презрением смотрел на ребячью возню идеалистов-ученых, которые по инерции все еще продолжали веровать в спасительную силу науки. Впрочем, пусть их забавляются – для себя он твердо выбрал путь: только у военной науки блестящие перспективы! Что же касается чувствительной болтовни не в меру стыдливых профессоров о том, что наука-де должна не уничтожать, а благодетельствовать человека, то профессор Уайтхэч полагал, что всем этим слезливым теориям прекрасно противостоят теория руководящей роли Великании и теория спасения от коммунизма. Да и вообще – победителей не судят! Кто станет слушать в наши дни обвинительную речь по адресу изобретателя пороха? А атомная бомба – это порох XX века. Таким образом, с моральной стороны у профессора Уайтхэча все обстояло благополучно. Неблагополучие было в другом, и это-то и составляло секрет Уайтхэча.
В научную душу профессора Уайтхэча начинало закрадываться сомнение: суждено ли ему быть победителем? Вложена ли в него та искра, из которой только и может разгореться пламя? Проще говоря – ученый ли он? Впрочем, он убедился, что его теория блестяще подтверждена трагикомической историей изобретения Чьюза.
Этот мечтатель хотел своими лучами облагодетельствовать человечество – ему не позволили; ему предложили использовать их для войны – он отказался; и вот результат: вся огромная научная работа погибла. Нет, он, Уайтхэч, не настолько наивен, он давно выбрал иной путь. Ему даже было несколько жалко этого ученого младенца. И все-таки… И все-таки Чьюз – ученый, большой ученый, это несомненно… А он, Уайтхэч, ученый ли? Вот вопрос, который мучил Уайтхэча.
Он очень хорошо знал Чьюза. Двадцать лет назад тот работал с ним в университете. Чьюз не думал ни о славе, ни о премиях Докпуллера и Нобеля (о чем втайне мечтал Уайтхэч – самому себе можно было в этом признаться), и все же Чьюз достиг того, что так не давалось Уайтхэчу. В чем же дело?
Что ж, он, Уайтхэч, все-таки не ученый? Неправда, тысячу раз неправда! Был же он уверен в себе раньше, что же случилось теперь? В чем, в конце концов, разница между ним и Чьюзом? Только в том, что в Чьюзе так наивно слились вера в науку и вера в ее спасительность для человечества? "Для меня наука – только то, что служит благу человечества", – так он сказал, когда Уайтхэч посетил его. Но ведь это наивно, фантастически наивно! Наука – это просто наука, ей решительно все равно, для чего ее применяют. Вопрос: для чего? – просто бессмыслен. И неужели все-таки эта наивная вера помогла Чьюзу? Так что же, он, Уайтхэч, ошибся? Разве не стоит он обеими ногами на твердой почве фактов? Так он сказал тогда Чьюзу, и он, черт возьми, докажет это! Он найдет те самые лучи! Чистая случайность, что Чьюзу удалось это раньше.
Он вспоминал свое посещение Чьюза. Это был неприятный визит. Признаться в том, что он отстал от Чьюза, просить его о сотрудничестве, о помощи?.. Даже сейчас вспоминая разговор с Чьюзом, Уайтхэч болезненно морщился.
Он никогда не пошел бы к Чьюзу. Он слишком хорошо помнил его, чтобы поверить, будто Чьюз согласится отдать свое изобретение для войны. Глупец Бурман заставил его пойти на это бессмысленное унижение. А сейчас он же требует: деньги получили – подавайте лучи! Ему кажется, что лучи так же просто купить, как голоса на выборах.
Вот какие мысли мучили Уайтхэча. Но никому – даже своим ближайшим помощникам – он не решился бы их высказать. Впрочем, и помощники причиняли ему немало забот. Инженер Флойд Ундрич просто раздражал его. Задумываться тут, правда, не приходилось: Ундрич прозрачен, как стекляшка, и так же бесцветен. Давным-давно Уайтхэч убедился в своей ошибке: раньше он ждал чего-то большого от Ундрича потому, что тот работал у Чьюза. Но Ундрич ничего не сумел взять от своего учителя, своего же у него не было ничего, – только удивительная для пятидесяти лет, несокрушимая трудоспособность – свойство, необходимое для науки, но, не подкрепленное талантом, бесплодное, как мельница без жерновов.
Зато инженер Чарльз Грехам, ближайший помощник и любимый ученик, все чаще заставлял Уайтхэча задумываться. Он талантлив, чертовски талантлив! А ведь он молод: и сорока нет. Если пойдет так дальше, то ему, Уайтхэчу, ничего другого не останется, как уйти на покой: он действительно не ученый. Да, да, расписаться в своей несостоятельности, передать руководство лабораторией Грехэму и добровольно живым лечь в могилу забвения. Но сможет ли Грехэм руководить именно этой лабораторией? Он талантлив – это он, честно говоря, открыл большую часть тех лучей, которые составляют секретный фонд лаборатории, – но почему его всегда тянет в сторону? Сколько раз Уайтхэч останавливал своего пылкого ученика:
– Все, что вы предлагаете, Чарли, очень хорошо, но, согласитесь, для наших целей не пригодится! К чему же уклоняться?
– Ах, боже мой, учитель, неужели только на войну работать? – возражал Грехэм. – А если мы побочно дадим что-нибудь полезное и для гражданской жизни? Неужели наука…
– При чем тут наука?.. – строго перебивал Уайтхэч. – Речь идет не о науке, а о нашей лаборатории. Наука может работать на что угодно. Но в нашей лаборатории она должна работать только на военные цели – вот и все.
Чарльз умолкал, но Уайтхэч видел, что он не удовлетворен. Более того, его пыл вдруг охладевал; Уайтхэч подозревал, что Чарльз работал бы куда горячее, если бы ему позволили свернуть на свой "побочный" путь.
Вот почему Уайтхэч все-таки попробовал поговорить с учеником вполне откровенно, до самого конца. Надо было предохранить его от пустых мечтаний, вредных для работы. Он долго раздумывал над тем, как искусней подойти к щекотливой теме, и, в конце концов, решил никакого предварительного плана беседы не строить – для таких натур, как Чарли, откровенность и искренность важнее всего, а потому пусть разговор течет сам собой.
– Послушайте, Чарли, – сказал Уайтхэч, – я вижу, что-то в последнее время вас угнетает. Мне бы хотелось поговорить с вами откровенно. Не забывайте: я почти вдвое старше вас – значит, прошел не только через ваш возраст, но, возможно, и через свойственные ему сомнения и колебания. Может быть, я помог бы вам…
– Да нет, учитель, вам показалось… – неуверенно возразил Грехэм.
– Грустно, если мы будем играть в прятки, – сказал Уайтхэч, и грусть прозвучала вполне искренне: Чарльз был его единственный ученик, и он любил его. Любил ли он еще кого-нибудь? Но кого же? Семьи у него не было, а, видимо, природа даже для таких высушенных экземпляров, как Уайтхэч, отпускает какую-то минимальную потребность любви. Больше не, на кого было пролить ее.
– Да, грустно… – повторил старик тем тоном, каким подводят печальный итог всей своей жизни. И в самом деле, разве не печально, что любимый ученик пытается спрятать свои мысли от учителя?
– Что ж, я буду смелее вас, Чарли, – снова заговорил Уайтхэч. – Только условимся: если я ошибаюсь, вы прямо так и скажите – на том разговор обещаю покончить. Но, если я угадал, имейте мужество не вилять.
Уайтхэч испытующе посмотрел на ученика. Тот молча кивнул головой.
– Так вот, Чарли, мне кажется, что у вас в мозгу завелся червячок. Этакий червячок сомнения: на правильном ли мы пути? Целесообразна ли наша работа?.. Постойте, постойте, выслушайте до конца! – Уайтхэч отвел протестующий жест ученика. – Я говорю даже не о наших исканиях, а о чем-то более широком. Вы понимаете?
Уайтхэч помолчал.
– Как будто бы начинаю понимать… – тихо ответил ученик.
– Отлично! Теперь, когда вы решились заговорить, пойдет легче. Итак, вы, Чарльз Грехэм, ученый, крупный ученый – я имею право это сказать, – усомнились: на правильном ли пути наука? Имеет ли она право работать на войну?
– Пожалуй, вы слишком резко формулируете… – попробовал возразить Грехэм.
– Не будем спорить о формуле… Если вы вступили на путь сомнений, завтра это уже перестанет вам казаться резким…
– Да нет, просто мне кажется странным, что наша наука, охотно удовлетворяя нужды войны, совершенно игнорирует нужды мирной жизни. Ну хорошо, если уж признать неизбежной и необходимой войну, то почему также не признать иногда неизбежной и мирную жизнь?
– Послушайте, Чарли, вы не задумывались над тем, почему прежние ученые не терзали себя гамлетовскими сомнениями? Они просто изобретали порох, пушки, пулеметы…
– О учитель, очень большая разница! Они открывали также пар, электричество – и это не были военные изобретения. Конечно, и это использовалось для войны, но побочно. А атомная энергия? Ведь она предстала перед нами только как военное открытие. И разве что-нибудь от нее используется для мирной жизни? То же мы хотим сделать и с лучистой энергией. Вы же сами отказываетесь использовать открытые нами виды лучистой энергии только потому, что возможно лишь мирное использование их, а нам нужны лучи военные…
– Чарли, вы же не ребенок!.. Разве я против мирного использования?.. Но вы же понимаете: использовать для мирной жизни – это значит открыть секрет… Секрет не только того, что мы имеем, но, быть может, и того, что еще предстоит найти…
– Ага! В том-то и дело! Пар и электричество никогда не были тайной, а атомная и лучистая энергия – только тайна. Разве это не ужасно? Наука стала тайной.
– Но что же делать? Мы – ученые, только ученые, Чарли, не больше. Мы делаем науку, а не историю. Наука дает истории то, что та от нее требует. Не надо преувеличивать роли ученых, надо быть реалистом, Чарли!
– Трагическая реальность! – горячо воскликнул Грехэм. – Наша зрелая наука призвана уничтожить то, что создала младенческая наука наших предков. Сын, разрушающий одним ударом кулака дом, по кирпичикам сложенный отцом… Разрушающий только потому, что у сына оказался здоровый кулак…
– Не дом отца, а крепость врага, откуда грозят нам нападением… Не забывайте об этом, Чарли! – воскликнул Уайтхэч, пуская в ход последний козырь и одновременно сознавая, что он сползает с того пути искренности, на котором только и можно договориться с Грехэмом.
– Забываю? – иронически воскликнул Грехэм, и Уайтхэч снова пожалел о своей тираде. – Забываю! Да разве в нашей стране кто-нибудь может забыть о коммунистах! Забыть, когда о них напоминают каждую минуту! Только знаете, учитель, для меня, ученого, даже дети коммунистов – это все-таки дети, и построенные коммунистами города – все-таки города. Мне как-то неприятно, когда наука убивает детей и разрушает города.
– Вы предпочитаете, чтобы уничтожались не их города, а наши?
– Я предпочитаю, чтобы люди, у которых хватило ума открыть атомную и лучистую энергию, оказались достаточно умны и для того, чтобы договориться не пускать ее в ход друг против друга. И я верю, что они достаточно умны для этого, а делают их безумными те, кто…
– Довольно, Чарли! – багровея, крикнул Уайтхэч. – Вы уже сказали больше, чем нужно. Недоставало только, чтобы вы подписали воззвание о запрещении атомной бомбы. Самое подходящее для работника секретной государственной военной лаборатории…
– Вы сами вызвали меня на этот разговор, – сухо ответил Грехэм.
– Я не подозревал, что мой ученик не больше, чем мечтатель чьюзовского типа.
– Чьюз? – переспросил Грехэм. – Много чести для меня!.. Он не только ученый, но и герой. А какой я герой!
Это было слишком! Уайтхэч резко встал из кресла и вышел из кабинета. Он уже жалел, что затеял разговор.
И вдруг он понял, что этот разговор нужен был и ему. Разве, разбивая колебания и сомнения Чарли, не хотел он рассеять этим и свои сомнения? Правда, они были совсем не те, что у Грехэма. Этические соображения о роли науки – должна ли она созидать или разрушать? – были глубоко безразличны и неинтересны Уайтхэчу. Не в них дело! Но где тот стимул, который помогает ученому преодолевать все препятствия? У Чьюза он был ясен, Уайтхэчу – не годился. У Грехэма возникают сомнения, стимул исчезает. Уайтхэч понимал, что теперь надежда на Грехэма слаба: он будет плохим помощником. А есть ли этот стимул у него, у Уайтхэча? Чистая наука? Но он должен был честно признаться себе, что не так уж он хочет постичь природу этих искомых лучей, как стать самому их открывателем, чтобы почувствовать себя великим ученым… ничуть не меньшим, чем, например, Чьюз. А вдруг для этого и нужно как раз то, что для Уайтхэча исключено: наивная вера Чьюза?
Нет, он, Уайтхэч, слишком стар, чтобы быть наивным. Стар… Может быть, в этом все дело? В последнее время он все чаще ощущает свою дряхлость, все чаще спрашивает себя: успею ли? А когда человек начинает замечать свою старость – кончено! Он попадает на свои собственные похороны…
2. Наука и дипломатия
Цели буржуазной дипломатии неизменно сводятся к двум основным: к маскировке истинных намерений и к симуляции намерений, которых на самом деле не существует.
Акад. Е.Тарле. «Наша дипломатия»
Профессор Уайтхэч был крайне раздражен разговором с президентом Бурманом. Встреча оказалась еще неприятнее, чем он ожидал. Особенно неприятно было участие в ней нового военного министра Реминдола, с которым Уайтхэчу пришлось встретиться впервые. Реминдол был груб, неприлично груб. Он посмел разговаривать с Уайтхэчем так, как будто бы перед ним был не крупный ученый, директор государственного института, а какой-нибудь лейтенант или капрал. Удивительно еще, как он не потребовал, чтобы ученый стоял перед ним навытяжку. И туда же: берется рассуждать об атомной и лучистой энергии, как будто бы что-то понимает, а у самого познания в науке вряд ли пошли дальше сложных процентов – это генерал-банкир, конечно, изучил на практике.
– Надеюсь, профессор, вы можете порадовать нас результатами своей работы, – так начал президент после взаимных приветствий и представлений.
– Лично я удовлетворен результатами, – ответил Уайтхэч. – Убежден, что и любой ученый на моем месте был бы удовлетворен…
– Вы хотите сказать, что мы не ученые, а потому вы не совсем уверены, что будете нами поняты? – любезно улыбнулся Бурман.
И тут в разговор ворвался Реминдол.
– Любой ученый на вашем месте? – иронически переспросил он. – Чьюз, например? Он, кажется, вашими результатами не удовлетворился.
Удар пришелся по больному месту.
– Что ж, посадите на мое место Чьюза, – резко ответил Уайтхэч. – Вам это просто. Командовать легче, чем заниматься наукой.
– Господа, господа, оставим пререкания! – президент поспешил вступить в свои права председателя. – Ни к чему это не приведет. Все-таки, профессор, я хотел бы знать, что мешало вам довести работу до конца.
– Ничто. Нужно время. Боюсь, господин министр не совсем ясно представляет себе дело, когда говорит о Чьюзе. Мы все знаем, что там произошло: когда злоумышленник пытался принудить Чьюза отдать свое изобретение, Чьюз, защищаясь, сразил его своими лучами. Но лабораторная обстановка – это далеко не то, что полевая обстановка войны…
– Можно подумать, что мы не имеем представления о войне… – усмехнулся Реминдол.
"А откуда тебе знать? Разве ты на войне был?" – подумал Уайтхэч, со скрытой ненавистью глядя на генерала-банкира, так оскорбившего его. Он сдержал себя и внешне спокойно продолжал:
– Я это говорю к тому, чтобы вы поняли, что даже изобретение Чьюза потребовало бы много времени, прежде чем удалось бы применить его на войне.
– Э, профессор, неужели вы не понимаете? – с досадой перебил Реминдол. – Изобретение Чьюза уже сегодня можно показать. Понимаете: по-ка-зать! О нем уже можно говорить как о факте. К черту лабораторную обстановку! Убитый человек – это факт, какая б там обстановка ни была. А у вас что? Уравнения, формулы? Кого этим убьешь?
– Не одни формулы. Нашей лабораторией открыт целый ряд видов лучистой энергии.
– Так почему вы их маринуете?
– Они были бы полезны только в мирной деятельности.
– Это неинтересно. Когда у вас будут настоящие лучи?
– Думаю, еще год потребуется.
– Ну, а пока разве нельзя как-нибудь эффектно показать открытые вами лучи?
– Я уже докладывал: можно применить в мирной жизни.
– К черту мирную жизнь! Что вы мне ее тычете? – рассердился Реминдол. Он совершенно не умел сдерживать себя. – Как вы не хотите понять меня! Хотя бы только показать, но показать эффектно.
– Не понимаю… – растерялся Уайтхэч.
– Боже мой… – На этот раз Реминдол сдержался, но Уайтхэч почувствовал себя окончательно оскорбленным. Он яростно ненавидел этого грубияна в генеральской форме.
Воцарилось неловкое молчание. Уайтхэч бросил взгляд на президента, как бы прося о помощи. Но Бурман молчал. Лицо его приобрело непроницаемо-достойное выражение; с таким лицом высоко порядочный и нравственный человек вынужден выслушивать не совсем пристойные вещи, неизбежные в грубой действительности; однако даже соглашаясь по необходимости на них, он остается выше их, во всяком случае, избегает называть их по имени. И, глядя на эту величественную маску, Уайтхэч начинал понимать.
– Показать? – почти пролепетал он. – Эффектно показать? То есть вы хотите, чтобы показной эффект был выше действительных результатов?
Реминдол одобряюще улыбнулся.
– Но ведь это… это… – Уайтхэч никак не мог подобрать слова, которое бы звучало прилично в столь высоком обществе.
– Дипломатия… – осторожно подсказал Бурман. – Для того и дипломатия, чтобы вводить в заблуждение противника. А иногда и припугнуть…
– Я ученый, а не дипломат… Не представляю себе, как вводить в заблуждение наукой…
– Заметьте, вы заняты не просто наукой, а военной наукой, – внушительно сказал Реминдол. – А военная тактика предусматривает отвлекающие диверсии.
Уайтхэч молчал.
– Господа ученые безнадежно отстали от жизни! – пренебрежительно бросил Реминдол.
Собственно, на этом беседа и кончилась. Бурман лишь на прощание попросил, чтобы обещанный годовой срок был по возможности сокращен.
Уайтхэч чувствовал себя оплеванным. Он гордился тем, что стоял выше сентиментальных профессоров, носившихся с идеями спасения мира наукой, а тут его отстегали, как неразумного ребенка. Он, видите ли, безнадежно отстал от жизни! И кто это посмел сказать? Какой-то банкир, ростовщик, денежный мешок, возомнивший себя научным, военным и философским гением!
Уайтхэч был так раздосадован, что, возмущаясь и негодуя, довольно подробно рассказал обо всей беседе обоим помощникам. Ундрич промолчал, а Грехэм с горечью заметил:
– Что ж, с волками жить – по-волчьи выть! История требует! Так, учитель, недавно вы объясняли мне?.. Интересно, чего еще потребует от нас история?