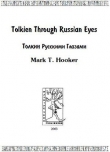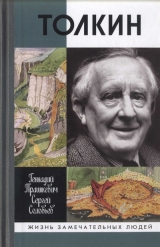
Текст книги "Толкин"
Автор книги: Сергей Соловьев
Соавторы: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
Мэйбл и дети с нетерпением ждали Артура. Но осенью из Южной Африки стали приходить тревожные вести. В Блумфонтейне Артур Толкин подхватил инфекционный ревмокардит, и, хотя состояние его вскоре вроде бы начало улучшаться, все же до весны о переезде в Англию нечего было и думать. Встревоженная Мэйбл решила сама поехать в Блумфонтейн помочь мужу, маленький Рональд даже продиктовал для отца письмо:
«Кингз-Хит, Эшфилд-роуд, 9,
14 февраля 1896 года.
Дорогой папочка!
Я так рад что приеду и увижу тебя мы так давно уехали я надеюсь пароход привезет нас всех обратно к тебе маму малыша и меня. Я знаю ты будешь так рад получить письмо от своего маленького Рональда я так давно тебе не писал я стал такой большой потому что у меня пальто как у большого и курточка тоже мамочка говорит ты не узнаешь ни меня ни малыша такие мы стали большие мы получили уйму подарков на Рождество мы тебе покажем приходила тетя Грейси в гости я каждый день хожу гулять, а в коляске почти не езжу. Хилари шлет тебе привет и много-много поцелуев и любящий тебя Рональд»[19].
К сожалению, это милое письмо не было даже отправлено, потому что из Блумфонтейна пришла телеграмма, в которой сообщалось, что Мэйбл должна готовиться к худшему. Худшее и случилось: 15 февраля 1896 года Артур Толкин скончался. Похоронили его там же, в Блумфонтейне – на англиканском кладбище.
В биографии, написанной Хэмфри Карпентером, говорится, что Артур Толкин скончался от осложнений инфекционного ревмокардита. Современному исследователю Б. Горелику удалось найти в блумфонтейнской газете «The Friend» некролог[20], из которого следует, что истинной причиной кончины Артура Толкина послужило осложнение брюшного тифа. Возможно, это расхождение объясняется типичным викторианским желанием облагородить болезнь, и именно в таком виде информация дошла до Мэйбл, а через нее до Рональда…
6
«Собственно говоря, родился я в Блумфонтейне, – писал Толкин в июне 1955 года своему бывшему студенту – знаменитому поэту Уистену Хью Одену (1907–1973), – так что все глубоко вживленные впечатления и укоренившиеся образы раннего детства, – эти яркие картинки, до сих пор доступные для изучения, – для меня это жаркая, выжженная солнцем страна. Мои первые рождественские воспоминания – это палящее солнце, задернутые занавески и жухлый эвкалипт»[21].
С годами интерес к Южной Африке у Толкина возрастал. «Твой рассказ о путешествии в Йо-бург в Великий четверг ужасно меня позабавил, – писал он своему сыну Кристоферу, который в конце Второй мировой войны служил в английских ВВС в Южной Африке. – Если окажешься в Блумфонтейне – я вот гадаю, стоит ли еще то маленькое старое каменное здание банка (Южноафриканский банк), где я родился. И сохранилась ли могила отца. Я так ничего и не предпринял на этот счет, но, сдается мне, матушка распорядилась поставить там каменный крест или отсюда его выслала. Если нет, так могилу уже, возможно, и не найдешь, разве что остались какие-нибудь записи…»[22]
Кое-что из раннего смутного периода южноафриканской жизни позже отразилось в фантастических картах, которые Толкин очень любил рисовать, дополняя ими свои литературные произведения. Оранжевая республика… Трансвааль… Капская колония… От всех от них теперь осталось следов ненамного больше, чем от государств, так хорошо описанных в волшебном эпосе Толкина: от Арнора, северного королевства дунаданцев, или Ангмара, располагавшегося на северных отрогах Мглистых гор…
Глава вторая
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ
Зеленый, тихий уголок в холмах,
Укромный, тихий дол! Безмолвней края
Не оглашала жаворонка песнь.
Повсюду вереск, лишь один откос
Одет, как радостной и пышной ризой,
Всегда цветущим золотистым дроком,
Что распустился буйно; но долина,
Омытая туманами, свежа,
Как поле ржи весной иль юный лен,
Когда сквозь шелк его стеблей прозрачных
Косое солнце льет зеленый свет.
Здесь мирный, благодатный уголок,
Любезный всем, особенно тому,
Кто сердцем прост, кто в юности изведал
Довольно безрассудства, чтобы стать
Для зрелых лет спокойно умудренным!
С. Т. Кольридж[23]
1
Доходов с капитала, оставленного Артуром в банке, едва хватало на жизнь. Впрочем, вопрос, экономить ли средства на образовании детей, перед Мэйбл Толкин попросту не стоял: экономить можно и нужно на чем угодно, только не на их здоровье и обучении.
Все же на первых порах молодая вдова сама занималась с Рональдом и Хилари. Она умела говорить с детьми, любила их, к тому же неплохо владела французским, латинским, немецким языками, рисовала, играла на фортепьяно. Ей повезло с жильем: летом 1896 года она сняла небольшой домик, концевой в длинном ряду домов, в деревушке Сэрхоул, расположенной на Стрэтфордской дороге. Сейчас это место вошло в черту города, само название исчезло из адресной книги Бирмингема, однако кое-что там сохранилось до наших дней, например мельница. Ее и старой-то назвать трудно – просто древняя. Ее построили в 1542 году на месте другой, еще более древней мельницы. Рональду с его воображением мельница казалась каким-то важным знаком, тайным посланием из неведомого прошлого. По крайней мере, впоследствии он не раз вспоминал это древнее сооружение, описывая свою Хоббитанию.
Может, родина хоббитов с той самой мельницы и началась.
Переход от экзотической колониальной жизни к сельской, так же как глубокая религиозность матери, конечно, повлияли на сыновей. Сельский уклад прост – все эти неторопливые разговоры, наивные рассуждения, невероятные слухи, передаваемые от одного к другому. Через много лет Толкин писал поэту Уистену X. Одену (1907–1973): «По происхождению я – уроженец Западного Мидлендса»[24]. По смыслу уже получается «средьземелье».
Короче, старая сельская Англия.
Тесный зеленый чудесный рай.
Мы сказали – сельская, это понятно. Но мы еще сказали – тесная, а это потому, что, скажем, у обитателей соседней Скандинавии никогда не было, да и сейчас нет никаких преград в общении с природой, а вот в Англии общественных лесов, полей, парков всегда было мало, а на частных землях не сильно разгуляешься. Правда, в Англии существовали и существуют свои любопытные исключения. Так, скажем, если прохожие долго (не менее года) пользуются какой-то полевой тропинкой или дорожкой в частном лесу, а хозяин не обращает на это внимания, не огораживает, не перекрывает проход, то такая тропинка общественной и остается.
Были, конечно, овраги, болотистые берега рек, холмы.
Но все равно вокруг Сэрхоула лежали в основном частные земли.
Те, кто внимательно читал роман «Властелин Колец», помнят, наверное, как Фродо с детства боялся некоего фермера по прозвищу Бирюк, не раз ловившего его в своем частном лесу на чудесной грибной охоте.
2
В Сэрхоуле Толкины поселились по адресу – улица Грейсвелл, 5. Это был кирпичный коттедж, один из длинного ряда таких же коттеджей. Англичане любят отдельные дома, предпочитая их любым квартирам, но и отдельные дома у них делятся по разным категориям. Скажем, дом, построенный впритык к двум соседним, котируется ниже того, который касается соседней постройки только одной стеной. По сохранившимся фотографиям мы знаем, что сразу за воротами дома, который сняла Мэйбл, дорога поднималась на пологий холм к скучноватой деревеньке Моузли и уже от нее шла в Бирмингем. По другую сторону та же дорога вела в шекспировский Стрэтфорд-на-Эйвоне. Движение тогда было небольшим: время от времени скрипел фургон торговца, поднимала серую пыль фермерская телега, ну и, возможно, мелькала двуколка доктора или священника.
На старой мельнице во времена Толкина перемалывали уже не зерно, а кости животных – для удобрений. Работали там два человека, отец и сын. Отец отличался страшной черной бородой, его так и звали – «Черный Людоед», но все равно Рональд и Хилари больше боялись его сына. Из-за густой мучной пыли, всегда плотным слоем осыпавшей его одежду, из-за цепкого сердитого взгляда он казался им «Белым Людоедом». Когда мельник замечал братьев, они как можно быстрее мчались от него за мельницу к тихому пруду с темной водой. Там были лебеди и шлюз, через который вода, казавшаяся такой спокойной, внезапно устремлялась к мельничному колесу. Дальше на пути к деревеньке Моузли находился давно заброшенный, окруженный деревьями песчаный карьер – тоже место загадочное и притягательное. Через много лет Хилари вспоминал: «Мы чудесно проводили лето – просто собирали цветы и шастали по чужим участкам. Черный Людоед имел обыкновение забирать ботинки и чулки, которые мы оставляли на берегу, чтобы походить босиком по воде, и приходилось догонять его и выпрашивать обувь обратно. Ух, и влетало же нам от него! Белый Людоед был не такой опасный. Но для того чтобы попасть в то место, где мы собирали ежевику (оно называлось Лощина), надо было пройти через земли Белого, а он нас не особо жаловал, потому что узкая тропинка шла через его поле, и мы по дороге украдкой рвали куколи и другие красивые цветы»[25].
Два ряда домов – вот и весь Сэрхоул. Дальше по дороге лежала деревня Холл-Грин. Там в лавке у беззубой старухи можно было купить совсем дешево какие-нибудь нехитрые сладости, и там, в деревне, у братьев через какое-то время появились друзья среди местных детей. Завести друзей, кстати, было не так уж просто. Дети среднего класса, к которому относились Толкины, говорили с другим акцентом, одевались иначе да еще и носили длинные волосы, что, понятно, вызывало всяческие насмешки у деревенских.
В те годы Рональд часто видел один и тот же пугавший его сон. Огромная темная волна угрожающе нависала над знакомыми деревьями и зелеными полями. Она грозила все смыть, все уничтожить. Этот страшный сон возвращался к мальчику так часто и так мучил его, что позже со свойственным ему юмором он назвал его «комплексом Атлантиды», продолжая одновременно (что тоже было характерно для Толкина) относиться к нему очень серьезно. В уже упоминавшемся письме У. X. Одену 63-летний Толкин писал:
«Хотя, в придачу, в сердце своем он (житель северо-запада Старого Света. – Г. П., С. С.) может помнить… распространенные по всему побережью слухи о Людях из-за Моря… Я заговорил про „сердце“, поскольку есть у меня так называемый „комплекс Атлантиды“, возможно, унаследованный, хотя родители мои умерли слишком рано, чтобы я успел узнать от них такие вещи, и слишком рано, чтобы передать все эти сведения на словах. В свою очередь унаследованный от меня (как мне кажется) лишь одним из моих детей…»[26]
В Сэрхоуле Мэйбл с детьми прожила четыре года.
Деревенская жизнь текла мирно, но в ней для Рональда было все – близость к природе, чувство опасности, тайны, переплетающиеся с этой опасностью, праздники, да еще какие! В июне 1897 года, например, по всей Британской империи праздновали бриллиантовый юбилей королевы Виктории: 20 июня во всех церквях исполнялась специально написанная по этому случаю песнь Артура Салливена (больше известного как автор оперетт) со словами О King of Kings, а 22 июня даже колледж на холме в Моузли был украшен цветными огоньками. А еще в октябре 1899-го в Южной Африке началась Англо-бурская война – вряд ли Мэйбл обошла молчанием это важное событие.
«Всего четыре года… – писал Рональд Толкин в старости, оглядываясь на прошлое. – Но сейчас мне кажется, что это была самая долгая часть моей жизни, оказавшая наибольшее влияние на формирование моей личности»[27].
И еще, про страну хоббитов: «На самом-то деле Шир – это в некотором роде уорикширская деревенька времен приблизительно Бриллиантового юбилея»[28].
3
Несмотря на домашние уроки, осенью 1899 года Рональд, к сожалению, не смог сдать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда; только в следующем году – в сентябре 1900 года он справился с испытаниями.
Школа короля Эдуарда VI тоже была очень древняя. Основанная в 1552 году, она находилась в самом центре Бирмингема – длинное кирпичное здание рядом с железнодорожным вокзалом. Печи в основном топили углем, в туманную погоду сизый дым стлался по улицам, дома стояли закопченные, на всем лежала угольная пыль, зато преподавание в школе велось на должной высоте. Правда, братьям трудно было каждый день добираться до школы пешком (денег на проезд в поезде у них не было), так что Мэйбл пришлось подыскивать новую квартиру.
Мать обучила Рональда начаткам латыни, а затем и французского. Это здорово помогало ему в школьных занятиях. Еще Мэйбл пыталась приохотить сына к игре на фортепьяно, но это гораздо лучше получалось у Хилари, зато Рональд хорошо рисовал и неплохо разбирался в растениях. Он вообще любил деревья, особенно большие. Он лазил по ним, любил гулять под ними, переживал за них. «Над мельничным прудом, – вспоминал он позже, – росла ива, и я научился залезать на нее. Ива принадлежала, кажется, мяснику, жившему на Стратфорд-роуд. И в один прекрасный день ее спилили. С ней ничего не сделали: просто спилили и оставили валяться. Я этого никак не мог забыть…»[29]
В романе «Властелин Колец» деревья живут своей жизнью. Они занимают там очень много места, они огромны, зелены, величественны.
«На плечи хоббитам легли долгопалые корявые ручищи, бережно и властно повернули их кругом и подняли к глазам четырнадцатифутового человека, если не тролля. Длинная его голова плотно вросла в кряжистый торс. То ли его серо-зеленое облачение было под цвет древесной коры, то ли это кора и была – трудно сказать, однако на руках ни складок, ни морщин, только гладкая коричневая кожа. На ногах по семи пальцев. А лицо необыкновеннейшее, в длинной окладистой бороде, у подбородка чуть только не ветвившейся, книзу мохнатой и пышной.
Но поначалу хоббиты приметили одни лишь глаза, оглядывавшие их медленно, степенно и очень проницательно. Огромные глаза, карие с прозеленью. Пин потом часто пытался припомнить их заново: „Вроде как заглянул в бездонный колодезь, переполненный памятью несчетных веков“.
– Хррум, хуум, – прогудел голос, густой и низкий, словно контрабас. – Чудные, чудные дела! Торопиться не будем, спешка нам ни к чему. Но если бы я вас увидел прежде, чем услышал… а голосочки у вас ничего, милые голосочки… я бы вас раздавил, подумал бы, что вы из мелких орков, а уж потом бы, наверное, огорчался… Да-а, чудные, чудные вы малыши. Прямо скажу, корни-веточки, очень вы чудные.
По-прежнему изумленный Пин бояться вдруг перестал. Любопытно было глядеть в эти глаза и вовсе не страшно.
– А можно спросить, кто ты такой и как тебя зовут?
Глубокие глаза словно заволокло, они блеснули хитроватой искринкой.
– Хррум, ну и ну, – пробасил голос. – Так сразу тебе и скажи, кто я. Ладно уж, ладно, скажу. Я – онт, так меня называют. Так вот и называют – онт. По-вашему если говорить, то даже не онт, а главный Онт. У одних мое имя – Фангорн, у других – Древень. Для вас пусть будет Древень…»[30]
4
Похоже, в то время реальный мир казался Рональду всего лишь еще одним миром. Даже книги, которые он читал, отличались от обычного мальчишеского чтива. Он, например, прочел Стивенсона, но даже «Остров сокровищ» оставил его равнодушным. Приключенческие и фантастические романы в большинстве своем тоже его не привлекали, – даже Луи Буссенар, так хорошо написавший о Южной Африке в романе «Капитан Сорви-голова». Правда, ему понравилась «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла и чем-то – возможно, попытками заглянуть в глубину времен – заинтересовал Генри Райдер Хаггард, тоже немало написавший о Южной Африке («Копи царя Соломона», «Аэша», «Она»). Еще он обожал старинные скандинавские легенды и народные сказания. Это многим казалось странным. Да и кто из читателей этой книги вспомнит хоть одного своего одноклассника, который бы в школьные годы по собственному желанию зачитывался русскими былинами? А Толкин зачитывался – и не только скандинавскими легендами. Он не мог оторваться от книг шотландского священника Джорджа Макдональда (1824–1905) – «Принцесса и гоблин», «Возвращение Северного Ветра», «Лилит». Макдональд, кстати, оказал большое влияние на разных писателей того времени: на Г. К. Честертона, на К. С. Льюиса, на самого Толкина.
Еще больше нравились Рональду «Цветные книги сказок» Эндрю Лэнга (1844–1912) – знаменитого шотландского писателя, переводчика, историка, собирателя фольклора и этнографа. Он написал дюжину небольших книжек, которые так и назывались по цвету обложек: «Синяя книга сказок», «Красная» и т. д. В «Красной книге сказок», к слову, содержался вариант сказки про Кощея Бессмертного, но больше всего эта книга нравилась Рональду потому, что в нее была включена история о храбром Сигурде, который не на жизнь, а на смерть сражался со страшным драконом по имени Фафнир. «Я всей душой мечтал о драконах, – вспоминал Толкин позже. – Нет, конечно, я со своими скромными силенками вовсе не жаждал, чтобы они жили где-нибудь по соседству. Но мир, в котором существовал Фафнир, хотя бы воображаемый, казался богаче и прекраснее, несмотря на опасность…»[31]
Даже страх смерти, которым глубоко пронизаны многие истории Лэнга и особенно романы Макдональда, не отталкивал мальчика. Напротив, этот страх тоже захватывал его.
«„Теперь ты попробовала, что такое смерть, – сказал Морской Старец. – Тебе понравилось?“
„Очень, – призналась Мшинка. – Смерть лучше жизни“.
„Нет, – отозвался Старец. – Она всего лишь следующая жизнь“».
В семь лет юный Рональд Толкин сам начал сочинять такие истории.
«Впервые я попытался написать историю в возрасте лет семи. Причем про дракона, – вспоминал позже Толкин. – Я ничего о ней не помню, за исключением одного-единственного филологического факта. Моя матушка насчет дракона ни слова не сказала, зато обратила мое внимание на то, что говорить следует не „зеленый огромный дракон“, а „огромный зеленый дракон“. Я еще недоумевал, почему; недоумеваю и по сей день…»[32]
Все эти книги оставили глубокий след в душе Рональда. К тому же он получил их из рук матери, а это много для него значило.
5
С каждым годом (после смерти мужа) религия играла в жизни Мэйбл Толкин все большую роль. Каждое воскресенье она вела детей в церковь, не считаясь с расстоянием. Выбор церкви для нее много значил, но поначалу она готова была удовлетвориться «высокой» англиканской церковью.
Как известно, англиканская церковь отделилась от римско-католической еще в 1534 году. Поначалу был принят отказ от признания верховного авторитета римского папы, но в дальнейшем выявились более сложные тенденции. Их внутренняя борьба и выделила в итоге:
«высокую» церковь, сохранившую тесную связь с римско-католической традицией:
евангелическую, подвергшуюся сильному влиянию протестантства;
«широкую», либерально-конформистскую;
и, наконец, «низкую», терпимо относившуюся даже к пуританам.
Помимо этих течений, организационно считающихся частями единой англиканской церкви, в Великобритании существовало множество других направлений протестантизма – пресвитериане, методисты, баптисты, веслианцы, квакеры и т. д.
Прекрасно зная дорогу в церковь, Рональд и Хилари в одно из воскресений вдруг обнаружили, что мать ведет их куда-то не туда. Да и церковь, в которую они пришли, оказалась вовсе не той, которую они посещали раньше, – это был собор Святой Анны на Элстер-стрит, чуть ли не в самых трущобах Бирмингема. Он принадлежал римско-католической церкви, и привела сюда своих детей Мэйбл не случайно. Ведь католики в основном сохранили тот древний, не уклоняющийся от разговора о страданиях и смерти канон, который хорошо знаком нам в его православном изводе:
«Верую, яко приидеши судити живых и мертвых, и вси во своем чину станут, стари и младии, владыки и князи, девы и священницы; где обрящуся аз? Сего ради вопию: даждь ми, Господи, прежде конца покаяние».
Мэйбл это было ближе, это накрепко входило в сознание, как и другие пронзительные слова: «Пречистая Богородице, приими недостойную молитву мою и сохрани мя от наглыя смерти, и даруй мне прежде конца покаяние».
Протестанты от всего этого давно избавились, как от недостаточно «рационального», а вот католики внимательно прислушивались к очистительной музыке покаянного канона. В итоге, мучимая размышлениями, ища участия, хоть какой-то опоры в жизни, Мэйбл задумала перейти в католичество.
Против ожидания, она оказалась в этом не одинока. К католицизму клонилась и ее сестра Мэй Инклдон. Она недавно вернулась из Южной Африки – и тоже с двумя детьми. Уолтер, ее муж, должен был вернуться позже. Не известив мужа о своих религиозных сомнениях (а может, спонтанно, под влиянием сестры), Мэй вдруг тоже решила перейти в католицизм. В те годы таких «отщепенцев» в Англии становилось все больше. С 1570 по 1766 год папство вообще не признавало английскую монархию, поэтому католики, как «пятая колонна», были ограничены в правах. Только в 1829 году парламент Соединенного Королевства одобрил так называемый Акт об облегчении положения католиков, формально уравнивавший их с другими христианскими вероисповеданиями. Тогда обратились в католичество многие англичане, среди них будущие кардиналы Джон Генри Ньюмен (1801–1890) и Генри Мэннинг (1808–1892), ставший архиепископом Вестминстера. Обратилось в католичество и немало деятелей культуры, к примеру, писатель Гилберт Кит Честертон.
Но неожиданное обращение в католическую веру бедной вдовы и ее сестры – совсем другая история. На сестер немедленно обрушился ничем не сдерживаемый гнев родственников. Их отец Джон Саффилд учился когда-то в методистской школе, а теперь принадлежал к унитарианцам, поэтому неожиданное решение дочерей стать папистками, было им воспринято как немыслимое личное оскорбление. А муж Мэй Уолтер Инклдон, активный член англиканской общины, сразу понял, что под угрозой может оказаться его общественное положение, и связь своей жены с римской церковью даже не захотел обсуждать. Какие тут могут быть обсуждения? Вернувшись из Южной Африки, он категорически запретил Мэй появляться в католической церкви. Конечно, ей пришлось подчиниться, но в отместку она увлеклась модным тогда спиритизмом.
Уолтер Инклдон после смерти Артура пусть нерегулярно, но оказывал Мэйбл некоторую финансовую помощь, теперь же доброжелательность родственника сменилась откровенной враждебностью. Так же резко изменилось отношение к Мэйбл и со стороны Толкинов, ведь многие из них были активными баптистами, непримиримыми противниками католичества. Несмотря на все это и даже на постоянно ухудшающиеся условия жизни, Мэйбл не только утвердилась в католической вере, но и вовлекла в нее своих сыновей.
6
После Сэрхоула Мэйбл сняла дом в пригороде Бирмингема – Моузли. Места там были скучные, даже унылые. Ни зеленых деревьев, ни мягкой травы, только трамваи с лязгом поднимались на холм, да мелькали серые лица прохожих. «Черные толпы в буром тумане зимнего утра»[33] – и, конечно, бесчисленные кирпичные дымящие трубы.
К счастью, в Моузли Толкины долго не задержались. Дом подлежал сносу, на его месте собирались строить пожарную станцию. Мэйбл терпеливо занималась поисками нового дома и, наконец, нашла «виллу» в ряду домов, построенных стенка в стенку за железнодорожной станцией Кингз-Хит. Неподалеку жили ее родители, но она с ними практически не общалась; гораздо важнее для нее была близость католической церкви Святого Дунстана. Несколько позже, в начале 1902 года, Мэйбл отыскала еще более дешевый дом в пригороде Бирмингема – Эгбастоне.
Дом этот стоял рядом с Бирмингемским ораторием – так называлась молельня, принадлежавшая ордену ораторианцев и управлявшаяся ассоциацией священников. Ораторианцы имели свой устав и обладали достаточным доходом, чтобы содержать молельню. Английскую ветвь ораторианцев создал кардинал Генри Ньюмен еще в 1847 году. Обратившись в католицизм, он посетил Рим и после недолгого послушничества в Санта-Кроче вернулся в Англию с папским письмом, разрешающим создание в Бирмингеме самостоятельного отделения ордена ораторианцев. Мэйбл верила, что именно здесь найдет дружески настроенного исповедника, и не ошиблась; к тому же ее привлекало то, что при оратории под управлением той же ассоциации священников находилась начальная школа Святого Филиппа, в которой ее сыновья могли продолжить учебу.
Чувствительному Рональду оказались близкими настроения, царившие в маленькой римско-католической общине при оратории. Позже, описывая сомнения и тревоги хоббита Фродо, направляющегося со своей почти безнадежной миссией в Мордор, Толкин, несомненно, вспоминал свои собственные сомнения и тревоги:
Веди, о тихий Свет, сквозь тьму, веди вперед!
Пусть ночь темна, и дом далек; веди вперед!
Храни мой путь; видение и знак
Мне не нужны; один бы сделать шаг…
Свет, что досель хранил меня, веди меня и впредь
Сквозь хлад и зной, сквозь бури вой – и ночь начнет редеть,
Улыбки ангелов блеснут мне утренней зарей,
Я их любил, но позабыл, идя иной тропой…
[34]
Другом и духовником семьи Толкинов стал отец Фрэнсис Морган (1857–1934), католический священник из Бирмингемского оратория[35] – громогласный, шумный, всегда доброжелательный. К Мэйбл и ее детям он отнесся с большим вниманием; без него ей пришлось бы совсем плохо.
Школа теперь находилась буквально в нескольких шагах от дома. Рональд скоро обогнал в обучении всех своих одноклассников, но, к сожалению, это объяснялось не столько его рвением, сколько тем, что в школе Святого Филиппа готовили самых обыкновенных рабочих для местных фабрик. Поняв это, Мэйбл забрала сыновей из школы и снова начала заниматься с ними на дому. В итоге через несколько месяцев Рональд смог все же сдать экзамен на стипендию (Foundation Scholarship) от школы короля Эдуарда и осенью 1903 года снова туда вернулся.
Несмотря на все эти утомительные переезды, Толкин не раз говорил позже: «Мое детство никак нельзя считать несчастливым. Возможно, оно было трагичным, да, но несчастливым не было…»
7
В 1901 году умерла английская королева Виктория. Она провела на троне 63 года – больше, чем любой другой британский монарх. Родилась она в Лондоне в 1819 году. Воспитывала будущую королеву Великобритании мать-немка, поэтому первые годы жизни принцесса говорила только на немецком языке. Впрочем, это не помешало ей быстро освоить французский, итальянский и, естественно, английский. После двадцати одного года совместной супружеской жизни с Альбертом, герцогом Саксен-Кобург-Готским (1819–1861), королева Виктория овдовела. Всю оставшуюся жизнь она носила только черные платья, и в народе и армии ее прозвали Вдовой.
За годы ее правления Британская империя распространилась чуть ли не на весь мир. В конце Викторианской эпохи англичанам принадлежали в Европе – Ирландия, Гибралтар, Мальта и множество островов помельче. В Азии – Индия, Цейлон, Малайя, Бирма, Аден, Оман, Саравак, Гонконг, Кувейт, Бахрейн, Федеративные Малайские княжества, Кипр, Борнео, Кокосовые и Мальдивские острова, остров Рождества, Бруней, Джохор. В Африке – Египет, Судан, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Британская Восточная Африка, Гамбия, Золотой Берег, Капская колония, остров Маврикий, Наталь, Британское Сомали, Занзибар и Пемба, Нигерия, Трансвааль, Оранжевая республика, Родезия, Уганда, Бечуаналенд, Басутоленд и Свазиленд. В Америке – Канада, Наветренные острова, Ньюфаундленд, Багамские острова, Подветренные острова, Фолклендские острова, Ямайка, Барбадос, Бермудские острова, Британская Гвиана, Тринидад и Тобаго. В Австралии и Океании – Австралия, Новая Зеландия, острова Фаннинг, острова Токелау, острова Фиджи, остров Норфолк, остров Питкерн, Соломоновы острова, острова Кука, острова Гилберта и Эллис, острова Тонга.
Лучше всего выразили политику викторианской эпохи известные стихи Редьярда Киплинга.
Несите бремя белых, —
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей;
На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть – чертям!
<…>
Несите бремя белых, —
Восставьте мир войной,
Насытьте самый голод,
Покончите с чумой;
Когда ж стремлений ваших
Приблизится конец,
Ваш тяжкий труд разрушит
Лентяй или глупец…
[36]
Впрочем, в те годы о будущих разрушителях в Британской империи всерьез еще не задумывались.
Но Викторианская эпоха – это не только промышленный расцвет Великобритании, не только ее широчайшая экспансия – это еще и чрезвычайное усиление «бытового пуританства». Нельзя сказать, чтобы оно в самом деле сопровождалось усилением религиозности; нет, скорее укреплялся и превращался в непререкаемую догму моральный кодекс «строителя империи».
Британия – превыше всего! Долг и семья священны!
Понятия «леди» и «джентльмен» стали в те годы синонимами женщин и мужчин, безупречных во всех отношениях. При этом множество англичанок среднего класса могли всю жизнь оставаться незамужними только из-за сложившейся в Викторианскую эпоху жесткой системы моральных условностей и предубеждений. Заключение, кто кому может быть достойной парой, делались обществом на основании невероятного количества самых разных, порой просто нелепых обстоятельств, а понятие социального статуса выводилось из признаков, поражающих своей условностью. Преуспевающий сельский лавочник, к примеру, не мог выдать свою дочь за сына дворецкого, служащего у местного лендлорда, потому что на социальной лестнице сын дворецкого стоял неизмеримо выше лавочника. А вот дочь дворецкого, напротив, могла выйти замуж за сына лавочника, но ни в коем случае не за простого крестьянского парня. Такую «отступницу» перестали бы принимать в приличных домах.
Открытые проявления симпатии и приязни между мужчинами и женщинами категорически осуждались. Верхом неприличия и развязности считалась любая попытка заговорить с незнакомым человеком – требовалось предварительное представление собеседников друг другу третьим лицом. Ухаживания должны были носить исключительно публичный характер и состояли из неких раз и навсегда принятых бесед и жестов. Скажем, знаком особого расположения, предназначенным специально для посторонних глаз, могло быть разрешение молодому человеку нести молитвенник, принадлежащий девушке, по возвращении с воскресного богослужения. Девушка, хотя бы на минуту оставшаяся в помещении наедине с мужчиной, не имевшим по отношению к ней официально объявленных намерений, считалась скомпрометированной. Понятно, конечно, что молодому человеку вовсе не обязательно было добиваться согласия родителей на брак, но каждый при этом знал, что отец имеет право лишить его наследства.
Женские платья шились глухими, закрытыми, скрадывавшими фигуру – с кружевными воротничками до ушей, с бесчисленными оборками, рюшами и буфами. Беременные женщины ни в коем случае не должны были появляться на людях. В светском разговоре нельзя было сказать о женщине, ждущей ребенка, что она беременна – только in amazing state (в интересном положении) или in hilarious expectation (в счастливом ожидании). Все врачи того времени были мужчинами, это вызывало множество проблем, а иногда приводило к настоящим трагедиям. Даже в столице считалось, что заболевшей женщине лучше умереть, чем позволить врачу-мужчине произвести необходимый медицинский осмотр. Часто врач не мог поставить пациентке толковый диагноз просто потому, что не имел права задавать ей «неприличные» вопросы…