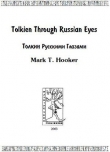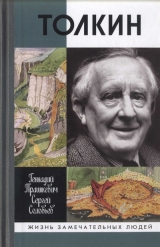
Текст книги "Толкин"
Автор книги: Сергей Соловьев
Соавторы: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Вызывает сомнение, что Уилсон вообще прочитал книгу до конца, поскольку он утверждает, что читатель с интересом ждет, что в конце Фродо чудом избежит опасности попытаться самому завладеть Кольцом и превратиться в чудовище – и якобы оказывается разочарован.
В пример Толкину Уилсон ставит писателя Дж. Б. Кэбелла (1879–1958), автора довольно-таки манерных сочинений в жанре фэнтези с примесью социальной сатиры, модных в 1920-е годы. «Что касается меня, – писал Уилсон, – если нам необходимо читать о воображаемых королевствах, дайте мне „Poictesme“ Джемса Брэнча Кэбелла. Он, по крайней мере, пишет для взрослых».
Вот отрывок из рассказа «Тонкая королева Эльфхейма», входившего в упомянутое сочинение Кэбелла, который сразу многое скажет о стиле Кэбелла, а также и о предпочтениях Уилсона, хотя, конечно, следует помнить, что слишком часто рецензии являются лишь оружием в литературной борьбе:
«Сколько нежных дам (убедившись, что их не слышат мужья) возрыдали, когда учтивый Анавальт покинул двор графа Эммерика, – того сказать невозможно. Во всяком случае, число их оказалось велико. Были, однако, – гласит повесть, – три женщины, чья скорбь оказалась неутешна; и они не плакали. Тем временем – тайные печали остались за спиной Анавальта, мертвая лошадь лежала у его ног, а сам рыцарь стоял на распутье и с некоторым сомнением разглядывал внушительных размеров дракона»[439].
20
Все же передышки, подобные поездке в Италию, были редким исключением. Никто не собирался освобождать Толкина от груза повседневных обязанностей. Публикация «Властелина Колец» нисколько не улучшила ситуацию в университете, скорее, наоборот. Толкин писал своим американским издателям: «Я тону с головой не только в проблемах с „В. К.“ (без секретаря), но еще и в делах профессиональных. Один из способов заставить нас, профессоров, „тихо уйти“ практически без всякой пенсии, это сделать для нас последние два-три года пребывания на должности невыносимо тяжкими – в то время как с выходом „В. К.“ меня просто-таки взяли в клещи. Большинство моих коллег-филологов шокированы тем, что филолог опустился до „банальной беллетристики“. В любом случае молва трубит: „Вот теперь-то мы знаем, на что Вы разбазаривали свое время двадцать лет кряду!“ И ныне гайки закручиваются в том, что касается множества всяческих работ более профессионального плана, давным-давно просроченных. Увы! Мне нравится и то и другое, однако времени-то мне отпущено на одного человека»[440].
Толкин старался, как мог, выполнять накопившиеся обязательства.
Зная о тщательности, с какой он подходил к любому делу, можно себе представить, каких трудов ему это стоило. Публичную лекцию о кельтских элементах английского языка под названием «Английский и валлийский» он прочитал только на следующий день после выхода в свет третьей части «Властелина Колец», – на несколько месяцев позже назначенного ему срока. А были и другие академические обязательства, некоторые из них запоздавшие на много лет, а не на какие-то месяцы, как, например, подготовка к изданию перевода Ancrene Wisse (средневекового женского монашеского устава) с обширными комментариями.
21
Зато популярность «Властелина Колец» росла.
В 1955–1956 годах Би-би-си осуществила радиопостановку трилогии и, хотя Толкину не нравились попытки «драматизации» его произведений, росту популярности это, конечно, способствовало. Вместе с популярностью росли продажи, до такой степени, что к началу 1956 года Толкин начал получать доход по своему контракту «с участием в прибылях». Первый чек из «Аллен энд Анвин» был на 3500 фунтов – больше чем годовая профессорская зарплата в Оксфорде того времени. Разумеется, увеличились и налоги.
Кстати, в конце 1930-х, когда вышел в свет «Хоббит», налоги в Англии взимались с британцев значительно меньшие. Подоходный брали только с доходов, превышающих средний по стране, и был он гораздо скромнее – в процентном отношении. В 1950-е годы порог, до которого налог не взимался, достигал уже только половины среднего дохода[441]. Для Толкина, любившего оглядываться на прошлое, это служило лишним подтверждением того, что от прогресса никогда не следует ожидать ничего хорошего. Он даже начал жалеть, что не согласился на ранний выход на пенсию. Ранним в Оксфорде считался выход в 65 лет, а Толкин дал согласие работать до шестидесяти семи лет, что тогда считалось нормой. Правда, бывали и приятные неожиданности. В 1957 году католический университет Маркетт, основанный иезуитами в американском «средиземье» на берегу озера Мичиган к северу от Чикаго, по инициативе своего библиотекаря Уильяма Б. Реди предложил Толкину купить у него рукописи всех опубликованных произведений. Толкин за свой архив не держался, и рукописи за 1250 фунтов отправились за океан[442].

Залы Манве. Иллюстрация Дж. Р. Р. Толкина
22
Конечно, жизнь менялась.
Менялось и университетское окружение.
К. С. Льюис, к примеру, еще в декабре 1954 года перебрался в Кембридж, где наконец получил должность профессора. А Толкин… Трудно детально проанализировать, что именно в нем менялось, но к нему, несомненно, можно отнести слова философа Анри Бергсона («Творческая эволюция»):
«Вот готовый портрет. Он находит свое объяснение в модели, в характере художника, в красках, нанесенных на палитру. Но, обладая знанием всего, что дает ему объяснение, никто, даже сам художник, не мог бы точно предсказать, чем будет этот портрет, ибо предсказать это – значило бы создать его прежде, чем он был создан: нелепая, сама себя разрушающая гипотеза. Так и с моментами нашей жизни, строителями которых мы являемся. Каждый из них есть род творческого акта. И подобно тому, как талант художника развивается или деформируется, во всяком случае, изменяется под влиянием самих создаваемых им произведений, так и каждое наше состояние, исходя от нас, в то же время меняет нашу личность, ибо является новой, только что принятой нами формой. С полным основанием можно сказать: то, что мы делаем, зависит от того, что мы суть: но следует прибавить, что, в известной мере, мы суть то, что мы делаем и что мы творим себя непрерывно»[443].
Все чаще и чаще в эти годы Толкин обращается в своих письмах к обсуждению уже написанного или, точнее, к обсуждению уже созданного им «вторичного мира». Конечно, и поводов стало больше – ему пишут читатели, о нем делаются передачи, с вопросами обращаются издатели и даже рецензенты:
«Прежде чем написать рецензию на книгу „Властелин Колец“, Майкл Стрейт, редактор „Нью рипаблик“ задал Толкину ряд вопросов: во-первых, есть ли некий „смысл“ в роли Голлума во всей этой истории и в нравственном провале Фродо в решающий момент; во-вторых, имеет ли глава „Освобождение Шира“ прямое отношение к современной Англии; и, в-третьих, отчего в конце книги вместе с Фродо из Серых Гаваней отправляются и другие путешественники. Уж не по той же ли самой причине, что победителям порою не дано воспользоваться плодами своей победы?»[444]
Ответ Толкина (по каким-то причинам не отправленный) оказался обстоятельным:
«Уважаемый мистер Стрейт!
Спасибо Вам за письмо. Надеюсь, „Властелин Колец“ Вам понравился. Понравился – вот ключевое слово. Ибо писалась книга для того, чтобы развлечь (в высшем смысле этого слова): чтобы ее приятно было читать. Ровным счетом никакой аллегории в ней не содержится: ни нравственной, ни политической, ни современной. Это „волшебная сказка“, однако написанная, – согласно убеждению, которое я некогда высказал в пространном эссе „О волшебных сказках“, что именно они – аудитория наиболее подходящая, – для взрослых. Потому что, мне кажется, волшебная сказка отражает „истину“ по-своему, иначе, нежели аллегория или (развернутая) сатира, или „реализм“, причем в определенном смысле куда более действенно. Но прежде всего она должна состояться просто как история (курсив наш. – Г. П., С. С.), увлечь, понравиться и даже в определенных случаях растрогать, и в пределах своего собственного вымышленного мира обрести (литературную) убедительность. В этом и состояла моя первоначальная цель.
Но, конечно же, если собираешься обратиться к „взрослым“ (духовно зрелым людям, по крайней мере), их не удастся порадовать, увлечь или растрогать, если только все в целом или отдельные эпизоды не окажутся посвящены чему-то достойному рассмотрения, – более, например, нежели просто опасность и бегство: должна быть некая соотнесенность с „участью человеческой“ (всех времен). Так что нечто от собственных размышлений и „ценностей“ рассказчика в повествование неизбежно проникнет. И это не то же самое, что аллегория. Мы все, группами или индивидуально, иллюстрируем некие общие принципы, но мы их не олицетворяем. Хоббиты – ничуть не более „аллегория“, нежели (скажем) пигмеи африканских лесов. Голлум для меня – просто-напросто „персонаж“, вымышленная личность, которая, оказавшись в такой-то ситуации, повела себя так-то и так-то под давлением обстоятельств, поскольку такое представлялось вполне вероятным (в любой личности, реальной или вымышленной, есть элемент непредсказуемости; в противном случае он/она представляли бы собою не индивидуальность, но „типаж“).
Попытаюсь ответить на Ваши конкретные вопросы.
Финальная сцена Квеста оформлена так просто потому, что применительно к ситуации и к „характерам“ Фродо, Сэма и Голлума данные события показались мне и технически, и нравственно, и психологически убедительными. Но, конечно же, если Вам требуются дополнительные соображения, скажу что в плане данной истории „катастрофа“ служит примером (одного из аспектов) знакомых слов: „Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого“.
<…>
В контексте моей книги предполагается, что, хотя у каждого события или ситуации есть (по меньшей мере) два аспекта: история и развитие индивидуума (нечто такое, откуда он может почерпнуть добро, добро наивысшее, для себя самого, или потерпеть в этом неудачу) и история мира (которая зависит от его действия самого по себе) – есть тем не менее исключительные ситуации, в которых можно оказаться. „Жертвенные“ ситуации, сказал бы я: то есть положения, в которых „благополучие“ мира зависит от поведения индивидуума в обстоятельствах, которые требуют от него страдания и стойкости, далеко выходящих за обычные рамки. И может даже случиться так (или показаться, с человеческой точки зрения), что потребуется сила тела и духа, которой он не обладает; он в определенном смысле обречен на провал, обречен поддаться искушению или сломаться под давлением вопреки его „воле“: то есть вопреки любому выбору, который он мог бы совершить или совершил бы, не будучи ничем стеснен, не под принуждением.
Фродо оказался именно в таком положении: по всей видимости, в безвыходной ловушке; персонаж, наделенный большей врожденной силой, возможно, не смог бы противиться соблазну власти Кольца так долго; персонаж более слабый не мог бы надеяться противостоять Кольцу в миг финального решения. <…> След., Квест был обречен на неудачу как часть мирского замысла и был обречен закончиться катастрофой как история „облагораживания“ смиренного Фродо, его „освящения“. Неудачей он и обернулся бы; так оно и вышло с отдельно взятым Фродо. Он „оступился“ – и я даже получил одно яростное письмо, в котором утверждалось, что его надо было не чествовать, а казнить как предателя. Поверьте, до того, как я его прочел, я и сам не догадывался, насколько эта ситуация „актуальна“. Она естественным образом возникла из „сюжета“, в общих чертах набросанного в 1936 году. Я даже не подозревал, что еще до того, как книга увидит свет, все мы вступим в темную эпоху, в которой методы пыток и ломки личности успешно посостязаются с Мордором и Кольцом и поставят перед нами практическую проблему того, как честные люди доброй воли, будучи сломлены, превращаются в отступников и предателей.
Но в этот самый миг „спасение“ мира и самого Фродо осуществляется благодаря проявленной им прежде жалости и прощению обиды. В любой момент всякий, кто наделен благоразумием, сказал бы Фродо, что Голлум непременно его предаст и, в конце концов, чего доброго, ограбит. „Пожалеть“ его и не убить было сущим безрассудством – или проявлением мистической веры в абсолютную самоценность жалости и великодушия, даже если во временном мире они пагубны. И Голлум в самом деле ограбил Фродо и причинил ему зло в финале; но, благодаря „благодати“, это последнее предательство произошло в тот самый момент, когда завершающий злой поступок обернулся высшим благодеянием, какое только возможно было совершить для Фродо! Через ситуацию, созданную его „прощением“, он спасся сам и освободился от своего бремени. И высочайшие почести ему оказали по справедливости: ведь ясно, что они с Сэмом и не подумали скрывать истинного хода событий. Что до итогового приговора Голлуму, об этом мне бы задумываться не хотелось. Это означало бы пытать „Goddes privitee“[445], как говорили в Средние века. Голлум жалок, однако он погиб, упорствуя во злобе, и тот факт, что это послужило добру, – не его заслуга. Его потрясающие храбрость и выносливость – здесь он не уступал Фродо с Сэмом, а может, и превосходил их, – поставленные на службу злу, изумительны, но чести ему не делают. Боюсь, во что бы мы ни верили, мы вынуждены взглянуть в лицо тому факту, что есть на свете субъекты, которые уступают искушению, отказываются от своего шанса на благородство или спасение и кажутся „проклятыми“. Их „проклятость“ не измеряется в терминах макрокосма (где может привести и к добру). Но мы, все, кто находится „в той же лодке“, не должны узурпировать место Судии. Подчиняющая власть Кольца оказалась чересчур сильна для подлой душонки Смеагола. Однако он никогда не подпал бы под нее, если бы не стал подлым воришкой еще до того, как Кольцо оказалось у него на пути. А надо ли ему было вообще оказываться у него на пути? А надо ли вообще опасностям возникать на пути у любого из нас? Попытавшись вообразить, как Голлум преодолевает искушение, мы получим своего рода ответ. История сложилась бы совсем по-другому!
<…>
„Шир“ никаких таких особых отсылок к Англии в себе не заключает – кроме того, конечно же, что, как англичанин, выросший в „почти сельской“ местности в уорикширской деревушке на окраине процветающего буржуазного Бирмингема (примерно во времена Бриллиантового юбилея!), я свои „модели“ заимствую, как любой другой, из той жизни, которую знаю сам. Но никаких таких намеков на послевоенный период в книге нет. <…> Хотя дух „Айзенгарда“, если не Мордора, конечно же, вечно о себе заявляет. Взять вот хоть нынешний проект уничтожить Оксфорд, чтобы открыть путь автомобилям.
<…>
Да: я считаю, что „победители“ никогда не могут воспользоваться „победой“ – во всяком случае, так, как они себе это представляли; и чем более сражались они за что-то, чем бы хотели воспользоваться сами (будь то приобретение или просто сохранение), тем менее удовлетворительной покажется „победа“. Но уход Хранителей Колец заключает в себе и совсем иной аспект в том, что касается Трех. Разумеется, за всей этой историей стоит определенная мифология. <…> Должен сказать, что это „монотеистическая“, но „вторично-творческая“ мифология. Там нет воплощения Единого, Господа, который остается вдали за пределами Мира и напрямую доступен лишь для Валар, или Управителей. Они-то и занимают место „богов“, будучи при этом сотворенными духами, созданиями первичного творения, что по собственной своей воле вступили в мир. Но Единый сохраняет за собою всю полноту верховной власти и оставляет за собою право внедрять в историю перст Божий, то есть производить явления, которые невозможно вывести даже из полного представления о предшествующем прошлом, но которые, будучи реальными, становятся частью неотъемлемого прошлого для всех последующих времен… Согласно преданию, эльфы и люди явились первым из таких „внедрений“, будучи созданы еще когда „повествование“ было только повествованием – повествованием „неосуществленным“. Поэтому они не были задуманы и созданы богами и звались эрухини или „Дети Господни“ и для Валар оказались непредсказуемым элементом. То есть они были разумными созданиями, наделенными по отношению к Господу свободной волей, принадлежали к той же исторической категории, что и Валар, только обладали значительно меньшей духовной и интеллектуальной силой.
Разумеется, на самом-то деле вне моей истории эльфы и люди – это всего лишь разные аспекты Человечности и символизируют проблему Смерти с точки зрения личности конечной, однако обладающей самосознанием и свободной волей. В данном мифологическом мире эльфы и люди в своих воплощенных обличьях приходятся друг другу родней, но в том, что касается отношения их „духа“ к миру во времени, представляют собою различные „эксперименты“, каждый из которых наделен своей собственной врожденной направленностью, а также и слабостью. Эльфы воплощают, так сказать, художественный, эстетический и чисто научный аспект человеческой натуры, только возведенный на более высокий уровень. То есть они самозабвенно любят физический мир и желают наблюдать его и понимать ради него же самого и как „нечто иное“ – то есть как реальность, исходящую от Господа в той же степени, что и они сами, – а вовсе не как материал для использования или как платформу для власти. А еще они наделены непревзойденной способностью к художеству или „вторичному творчеству“. Потому они „бессмертны“. Не „навечно“; им суждено существовать вместе с сотворенным миром и в его пределах, пока длится его история. Будучи „убиты“ путем повреждения или разрушения их воплощенной оболочки, они не вырываются из-под власти времени, но остаются в мире, либо развоплощенными, либо возрождаясь заново. По мере того как длятся века, это становится тяжким бременем, тем более в мире, где существуют злоба и разрушение (мифологическую форму, в которую облеклась Злоба или Падение Ангелов в этом предании, я опустил). Сами перемены как таковые не представлены как „зло“: перемены – это развертывание истории, и отказываться принять их, конечно же, означает – противиться замыслу Божьему. Однако эльфийская слабость в этом контексте, естественно, состоит в том, чтобы жалеть о прошлом и не желать иметь дело с переменами: как если бы человек возненавидел очень длинную книгу, которая все никак не кончается, и захотел остановиться на любимой главе. Таким образом, эльфы в определенной степени поддались Сауроновым обольщениям: они пожелали „власти“ над явлениями как таковыми (которая от искусства разительно отлична), чтобы реализовать свое стремление к сохранению: остановить перемены и сберечь все вокруг себя навечно прекрасным и свежим. „Три Кольца“ оставались „неоскверненными“, поскольку эта цель в ограниченном смысле являлась благой, ведь она включала в себя исцеление подлинного вреда, причиненного злобой, а не только замедление перемен; и эльфы не желали подчинять себе чужую волю, не говоря уже о том, чтобы узурпировать весь мир собственного удовольствия ради. Но с ниспровержением „Власти“ их собственные слабые попытки сохранить прошлое пошли прахом. В Средиземье для них ничего не осталось, только усталость. Потому-то Элронд и Галадриэль уходят. Гэндальф – случай особый. Он не ковал Кольца́, и изначально не он им владел: Кольцо передал ему Кирдан, дабы помочь в его миссии.
Гэндальф возвращался, завершив свои труды и исполнив поручение, домой, в землю Валар.
Уход за Море – это не Смерть. Данная „мифология“ эльфоцентрична. Согласно ей, изначально подлинный Земной Рай, дом и королевство Валар, существовал как физическая составляющая земли.
Ни в этой истории, ни в мифологии в целом „воплощения“ Творца нет. Гэндальф – это „сотворенное“ существо; хотя возможно, что и дух, существовавший прежде в физическом мире. Его функция как „мага“ – angelos, или посланника Валар или Управителей, – содействовать разумным созданиям Средиземья в их сопротивлении Саурону, чья власть оказалась слишком велика, чтобы справиться с ней без помощи свыше. Но поскольку в контексте данного предания и мифологии Власть, – когда она подчиняет или стремится подчинить чужую волю и умы (кроме как с их осознанного согласия), – есть зло, эти „маги“ приняли облик обитателей Средиземья и потому испытывали боль как физическую, так и душевную. Они также, по той же причине, тем самым подвергались опасности существ воплощенных: возможность „падения“, греха, если угодно. В их случае опасность главным образом облекалась в форму нетерпения, что вело к желанию принудить других поступать во благо им же самим, и так, неизбежно, под конец – к просто-напросто желанию утверждать свою волю любыми средствами. Этому злу и предался Саруман. А Гэндальф – нет. Однако с падением Сарумана положение настолько ухудшилось, что от стороны „добра“ потребовалось больше усилий и жертв. Так Гэндальф встретил и принял смерть; и вернулся или был послан назад, как говорит он сам, обретя еще большую силу. Но хотя это отчасти напоминает Евангелие, на самом деле это – совсем не то же самое. Воплощение Господа – явление бесконечно более великое, нежели всё, о чем я дерзнул бы написать. Здесь меня интересует только Смерть как составляющая природы Человека, как физической, так и духовной, и Надежды без каких-либо гарантий. Вот почему я считаю повесть об Арвен и Арагорне наиболее важной из Приложений. Это – часть ключевой истории, и помещена она в Приложения лишь потому, что невозможно было включить ее в основное повествование, не нарушив его структуры: оно задумано было как „хоббитоцентричное“, то есть в первую очередь как рассказ об облагораживании (или освящении) смиренных и малых»[446].
23
Однажды Толкину пришло письмо от настоящего Сэма Гэмджи (Скромби в одном из наиболее известных русских переводов). Этот Сэм даже не читал книгу, просто не раз слышал от знакомых, что там упоминается его имя. «Надеюсь, Вы не возражаете, – писал он, – что я обращаюсь к Вам касательно „Властелина Колец“, транслируемого по радио по частям… Мне стало интересно, откуда Вы взяли имя Сэм Гэмджи, потому что меня тоже так зовут. Сам я постановки не слышал по причине отсутствия радио, зато слышал от моих знакомых…»
«Уважаемый мистер Гэмджи! – ответил Толкин. —
С Вашей стороны очень любезно было мне написать.
Можете представить себе мое изумление, когда я увидел подпись!
Могу лишь сказать Вам в утешение, что надеюсь, что этот самый „Сэм Гэмджи“ из моей истории – персонаж весьма героический и его от души полюбили многие читатели, даже несмотря на его деревенское происхождение. Так что, возможно, Вы не рассердитесь, что имя вымышленного персонажа (жившего, как предполагается, много веков назад) совпадает с Вашим.
А воспользовался я этим именем вот по какой причине.
В детстве я жил неподалеку от Бирмингема, и мы называли словом „гэмджи“ вату; так что в моей истории семейства Коттон и Гэмджи связаны между собой. В детстве я этого не знал, но сейчас знаю, что „гэмджи“ – это сокращение от „повязки Гэмджи“, названной так в честь изобретателя (хирурга, если не ошибаюсь), который жил между 1828 и 1886 годами. Возможно, тот Гэмджи, что умер в этом году 1 марта в возрасте 88 лет и на протяжении многих лет занимал должность профессора хирургии в Бирмингемском университете, приходился ему сыном. По всей видимости, имя „Сэм“ или что-то вроде этого часто встречается в этом семействе – хотя узнал я об этом не далее как несколько дней назад, когда мне на глаза попался некролог профессора Гэмджи и я обнаружил, что он – сын Сэмпсона Гэмджи, и, заглянув в словарь, выяснил, что изобретатель звался С. Гэмджи (1828–1896) и, значит, возможно, это он и есть…
А нет ли у Вас какого-нибудь семейного предания касательно истинного происхождения Вашего прославленного и редкого имени? – заканчивал письмо Толкин. – Поскольку у меня у самого имя редкое (порой от него масса беспокойства!), мне это тем более интересно»[447].
24
Выйдя в свет и попав в руки многочисленных читателей, книга Толкина («Властелин Колец») обрела, наконец, свою собственную судьбу, которая теперь все меньше и меньше зависела от автора. Одновременно издательство «Аллен энд Анвин» начало вести переговоры с иностранными издательствами. В результате в 1956 году «Властелин Колец» вышел в Голландии. Перевод этот Толкину не понравился, особенно попытки переводчика по-своему переиначивать имена.
«Я со всей категоричностью, – писал Толкин Стэнли Анвину, – возражаю против „перевода“ имен собственных (даже компетентным специалистом). Удивляюсь, с какой это стати переводчик считает себя призванным это делать. То, что речь идет о „воображаемом“ мире, не дает ему никаких прав перекраивать его по своему капризу, даже будь он способен в течение нескольких месяцев воссоздать согласованную систему, над которой сам я трудился долгие годы.
Я так полагаю, что, если бы мои хоббиты разговаривали по-итальянски, по-русски, по-китайски или как угодно, он оставил бы их имена в покое. Или если бы я сделал вид, что „Шир“ – это какой-нибудь там вымышленный Ломшир в реально существующей Англии. Однако на самом деле в вымышленной стране и в вымышленный период со своей внутренней логикой, как в данном случае, система имен и названий – элемент более важный, нежели в „историческом“ романе. Конечно, если опустить „вымысел“ далекого прошлого, „Шир“ основан на сельской Англии и ни на какой иной стране мира – и из всех европейских стран здесь, пожалуй, менее всего уместна Голландия, ландшафт которой не имеет ничего общего с ландшафтом Шира. (По правде сказать, они настолько разные, что, невзирая на родство языков и во многом – идиоматики, что должно бы отчасти облегчить труд переводчику, ее топонимика крайне не подходит для этой цели.) Топонимы Шира – взять хоть первый список – это „пародия“ на названия сельской Англии, почти в той же степени, что и его обитатели; они нераздельны, и так оно и было задумано. В конце концов, книга написана по-английски и англичанином; и, по всей видимости, даже те, кто хотел бы переложить повествование и диалог на понятный им язык, не станут требовать от переводчика, чтобы он сознательно попытался уничтожить местный колорит. Вот и я от переводчика этого не требую, хотя, возможно, порадовался бы глоссарию в тех случаях, когда (очень редко) значение топонима играет важную роль. Мне бы не хотелось в книге, где в первых главах дается картина вымышленной Голландии, встретить „Плетень“, „Герцогс’куст“, „Орлодом“ или „Яблонев-шип“, даже будь они „переводом“ названий „sGravenHage“, „Hertogen-bosch“, „Arnhem“ или „Apeldoom“! Эти „кальки“ вообще не английские – они просто безродные…
Разумеется, здесь еще упущена вот какая ключевая мысль: даже когда носители языка способны понять смысл топонима (случай нечастый), как правило, они все равно над ним не задумываются. Если в воображаемой стране используются настоящие названия или названия, тщательно составленные так, чтобы соответствовать знакомым образцам, они становятся неотъемлемой составляющей, „звучат как настоящие“, и переводить их, разлагая по смыслу, вовсе не следует. Нидерландские названия этого голландца должны звучать по-нидерландски и не иначе. Конечно, в нидерландском я не специалист, однако не думаю, что в большинстве случаев дело обстоит именно так, как у переводчика. На мой взгляд, большинство названий тут – сущая бессмыслица или вообще ошибочны; все равно как если бы в тексте встретились такие названия, как Цветково, Новоград, озеро Как, Документы, Ветчинбери и Румянник, а потом оказалось, что автор-то писал: Флоренция, Неаполь, Комо, Шартр, Гамбург и Флашинг-Флиссинген!
Вкладываю, в подтверждение моих придирок, свой подробный комментарий к спискам. Уверен: правильный (равно как и более экономичный как для издателя, так и для переводчика) подход – это по возможности оставить карты и имена собственные в покое, а вместо нескольких наименее важных приложений поместить глоссарий названий (где бы давались значения, но без ссылок). Я могу такой список предоставить – для перевода. И да позволено мне будет заявить сейчас и немедленно, что я не потерплю подобной халтуры в отношении имен. Равно как и в отношении названия/слова „хоббит“. Избавьте меня от новшеств вроде „Hompen“ или „Hobbel“ или что угодно. Эльфы, гномы (при любом написании: Dwarfs/ves), тролли – да; это всего лишь современные эквиваленты правильных терминов. Но хоббит (и орк) принадлежат к тому миру, который я построил, и таковыми должны остаться, независимо от того, насколько по-нидерландски звучат эти слова…
Если вы сочтете, что я веду себя нелепо, я глубоко огорчусь; но, боюсь, мнения своего не изменю. Должен признаться, те немногие люди, с которыми мне удалось посоветоваться, высказываются не менее резко…»
И в заключение: «Я – не лингвист, однако в именах и топонимах мало-мальски разбираюсь, специально их изучал и, если честно, зол просто ужасно»[448].
25
Возмущение Толкина вызвало и шведское издание, отчасти из-за качества перевода, отчасти из-за предисловия, в котором переводчик представлял «Властелина Колец» как аллегорию современной политики, к тому же описывал домашнюю жизнь Толкина, о которой не имел никакого представления. Предисловие в дальнейшем было снято, но шведский переводчик Оке Ольмаркс решительно отказывался от внесения каких-либо поправок в текст. Кроме того, он использовал свое влияние, чтобы помешать публикации других переводов, в силу чего его перевод оставался в Швеции единственным до 2004 года. К слову, когда в доме переводчика в 1982 году случился пожар, он обвинил в этом последователей Толкина, которые якобы подожгли дом при помощи черной магии[449].
В 1961–1963 годах вышел польский перевод Марии Скибневской[450].
В связи с растущей известностью Толкина за границей он стал получать множество приглашений, но принял только одно. Весной 1958 года он побывал в Голландии, где был принят поистине по-королевски. Центральным событием стал там «ужин хоббитов», организованный владельцем крупного книжного магазина в Роттердаме. Толкин даже произнес пародийную речь, подражая выступлению Бильбо на прощальном ужине в начале «Властелина Колец». В этой речи он специально смешал английские, голландские и эльфийские языки и закончил ее тостом:
«Прошло ровно двадцать лет с тех пор, как я всерьез принялся составлять историю наших досточтимых предков, хоббитов Третьей эпохи. Я смотрю на Восток, на Запад, на Север, на Юг – и Саурона нигде не видать; однако у Сарумана развелось множество потомков. У нас, хоббитов, нет против них никакого волшебного оружия. Однако, господа мои хоббиты, я предлагаю вам такой тост: за хоббитов! Пусть они переживут всех Саруманов и снова увидят деревья, распускающиеся по весне!»[451]