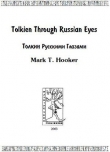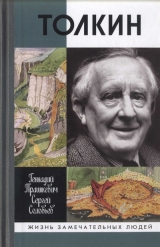
Текст книги "Толкин"
Автор книги: Сергей Соловьев
Соавторы: Геннадий Прашкевич
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
13
В отличие от Уильяма Реди Хэмфри Карпентер бывал в гостях у Толкина гораздо чаще, впервые явившись к нему еще весной 1967 года. В биографии Толкина (авторизованной, как уже не раз нами подчеркивалось) Карпентер подробно описал свой самый первый визит и портрет, оставленный Карпентера, несомненно, один из лучших литературных портретов писателя.
«Весеннее утро – так начал Хэмфри Карпентер. – Я выехал из центра Оксфорда через мост Магдалины, по лондонскому шоссе, поднялся на холм – и очутился в респектабельном, но унылом пригороде – Хедингтоне. У женской частной школы сворачиваю налево – на Сэндфилд-роуд, улицу, застроенную двухэтажными кирпичными коттеджами, перед каждым из которых разбит аккуратный палисадничек. Стены дома номер семьдесят шесть выбелены, и с улицы его почти не видно: его заслоняют высокий забор, зеленая изгородь и разросшиеся деревья. Ставлю машину у обочины, открываю калитку под небольшой аркой, и дорожка, вьющаяся меж роз, приводит меня к дверям. Я звоню. Довольно долго стоит тишина, доносится только шум машин с шоссе. Я уже начинаю прикидывать – позвонить мне еще раз или просто уйти, когда дверь открывается.
Меня встречает профессор Толкин.
В своих книгах Толкин придает большое значение росту, и я слегка удивлен, обнаружив, что сам он – несколько ниже среднего, не намного, но достаточно, чтобы это было заметно. Я представляюсь. О моем визите было договорено заранее, меня ждали, а потому вопросительный и немного настороженный взгляд, которым меня встретили, сменяется улыбкой. Мне протягивают руку и приветствуют крепким рукопожатием.
За спиной хозяина виднеется прихожая – маленькая, чистенькая, именно такая, какую ожидаешь увидеть в доме престарелой супружеской четы, принадлежащей к среднему классу. У. X. Оден однажды совершенно необдуманно назвал этот дом „кошмарным“ (его замечание потом цитировали в газетах), но это чепуха. Обыкновенный пригородный коттедж. Ненадолго появляется миссис Толкин поприветствовать меня. Она еще ниже мужа, аккуратная пожилая леди с гладко зачесанными седыми волосами и темными бровями. Мы обмениваемся любезностями, а потом профессор выходит на улицу и ведет меня в „кабинет“, расположенный рядом с домом.
Кабинет этот оказывается не чем иным, как бывшим гаражом. Но, конечно, машины нет и в помине – хозяин поясняет, что не держит машину с начала Второй мировой войны, а когда вышел на пенсию, вообще переоборудовал гараж под кабинет и перенес сюда книги и бумаги, которые хранил дома и в колледже. Полки забиты словарями, книгами по этимологии, по филологии на самых разных языках, но больше всего здесь книг на староанглийском, среднеанглийском и древнеисландском, а несколько полок заставлены переводами „Властелина Колец“: польский, голландский, датский, шведский, японский; к подоконнику приколота кнопками карта выдуманного им „Средиземья“. На полу – старый-престарый чемодан, набитый письмами, на столе – чернильницы, металлические перья, перьевые ручки-вставочки и две пишущие машинки. Пахнет книгами и табачным дымом. То есть тут не особенно уютно, и профессор извиняется за то, что принимает меня в гараже. В комнате, служащей ему кабинетом и спальней, объясняет он, чересчур тесно. Впрочем, говорит он, это все временно: он надеется вскоре завершить хотя бы основную часть большого труда, обещанного издателям, и тогда они с миссис Толкин смогут позволить себе переехать в дом поуютнее, в более приятной местности, подальше от докучливых посетителей. Говоря это, он несколько смущается.
Я пробираюсь мимо электрокамина и по приглашению хозяина усаживаюсь в старинное кресло. Он достает трубку из кармана твидового пиджака и принимается объяснять, почему может уделить мне не более десяти минут. В другом углу комнаты громко тикает блестящий голубой будильник, как бы подчеркивая, что время дорого. Толкин сообщает, что ему нужно ликвидировать вопиющее противоречие в одном месте „Властелина Колец“, на которое указал в письме кто-то из читателей, – дело срочное, потому что исправленное издание вот-вот пойдет в печать. Он объясняет все это очень подробно и говорит о своей книге так, будто это вовсе не что-то придуманное им, а хроника реальных событий. Такое впечатление, что он воспринимает себя не как автора, сделавшего малозначительную ошибку, которую надо либо просто ликвидировать, либо просто разъяснить, а как историка, которому предстоит пролить свет на весьма темное место в каком-то историческом документе. Похоже, при этом он думает, что я знаю книгу так же хорошо, как он сам. Это несколько выбивает меня из колеи. Нет, конечно, я книгу читал, и даже несколько раз, – но профессор говорит о деталях, о которых я не имею никакого представления или весьма смутное. Я побаиваюсь, что он вот-вот задаст мне какой-нибудь каверзный вопрос, который раскроет всю глубину моего невежества. И такой вопрос действительно задан; по счастью, он чисто риторический и не требует ничего, кроме подтверждения. Но я нервничаю. А вдруг за первым вопросом последуют другие, куда более сложные? Нервозность усиливается и оттого, что я разбираю далеко не все сказанное профессором. Голос у него странный – низкий, глухой; произношение чисто английское, но с необычным оттенком, а с каким – трудно сказать. Такое впечатление, что этот человек принадлежит иному веку или иной культуре. Он горячится, выпаливает слова залпами. Целые фразы съедаются, комкаются, теряются в спешке. Время от времени хозяин теребит губы рукой, отчего речь его становится еще менее разборчивой. Он изъясняется длинными сложноподчиненными предложениями, почти не запинаясь, – но внезапно останавливается. Следует длительная пауза. Видимо, от меня ждут ответа. Ответа на что? Если прозвучал вопрос, я его не расслышал. Но пауза кончается, профессор снова начинает рассуждать (так и не закончив предыдущего предложения) и с пафосом завершает речь. На последних словах он даже сует в рот трубку, договаривает сквозь стиснутые зубы и, поставив точку, чиркает спичкой.
Я лихорадочно пытаюсь придумать, что бы такого умного сказать.
Но профессор снова принимается говорить. По какой-то тонкой, одному ему понятной ассоциации он начинает обсуждать замечание в некоей газете, которое его разгневало. Тут я, наконец, вижу возможность поучаствовать в разговоре и вставляю что-то, что, как я надеюсь, звучит достаточно умно. Профессор выслушивает меня с вежливым интересом, но отвечает весьма пространно, подхватывая мое высказывание (на самом деле довольно тривиальное) и развивая так, что, в конце концов, мне начинает казаться, будто я и впрямь сказал что-то стоящее. Потом перескакивает на какую-то новую тему, и я снова теряюсь. Я могу лишь односложно поддакивать тут и там; однако мне приходит в голову, что, возможно, мною дорожат не только как собеседником, но и как слушателем. Во время разговора Толкин непрерывно двигается, расхаживает взад-вперед по темной комнатушке, с энергичностью, смахивающей на непоседливость. Он жестикулирует трубкой, выколачивает ее о край пепельницы, снова набивает, чиркает спичкой, раскуривает, но делает не больше нескольких затяжек. У него небольшие, аккуратные, морщинистые руки, на среднем пальце левой руки – простенькое обручальное кольцо. Одежда помята, но сидит хорошо. Ему семьдесят шестой год, под пуговицами яркого жилета – лишь намек на брюшко. Я почти все время, не отрываясь, смотрю ему в глаза. Временами профессор рассеянно обводит глазами комнату или смотрит в окно, но то и дело оборачивается – то искоса глянет в мою сторону, то, сказав что-то важное, опять вопьется в меня взглядом. Вокруг глаз – тонкие морщинки, которые непрестанно двигаются, подчеркивая любую перемену настроения.
Потом поток слов ненадолго иссякает – профессор раскуривает трубку.
Я улучаю момент и сообщаю, наконец, зачем пришел, хотя теперь цель визита кажется мне уже не столь важной. Однако Толкин реагирует на мои слова с большим энтузиазмом и внимательно меня выслушивает. Завершив эту часть разговора, я поднимаюсь, чтобы уйти, – но, очевидно, хозяин не рассчитывает, что я отбуду прямо сейчас, потому что снова начинает говорить. Теперь он рассуждает о своей мифологии. Его взгляд завороженно устремлен вдаль. Похоже, хозяин забыл о моем присутствии – он сунул трубку в рот и говорит сквозь зубы, не отпуская мундштука. Мне приходит в голову, что со стороны Толкин – вылитый оксфордский дон, рассеянный профессор, какими их изображают в комедиях. Но на самом деле он совсем не такой! Скорее, это какой-то неведомый дух прикинулся пожилым оксфордским профессором. Тело может расхаживать по тесной комнатенке в пригороде Оксфорда, но мысль – далеко отсюда, возможно, бродит по равнинам и горам Средиземья…
А потом беседа заканчивается. Меня выпускают из гаража и торжественно провожают к калитке напротив входной двери, объясняя, что ворота приходится держать запертыми на амбарный замок, чтобы болельщики, приехавшие смотреть футбол на местный стадион, не ставили машины на дорожке, ведущей к дому. К моему немалому удивлению, меня приглашают заходить еще. Правда, не в ближайшее время: они с миссис Толкин приболели, уезжают отдохнуть в Борнмут, и работа стоит вот уже несколько лет, и скопилась куча писем, на которые надо ответить. „Но вы все равно заходите!“
Профессор пожимает мне руку и потерянно удаляется в дом…»[534]
14
«Теперь он рассуждает о своей мифологии…»
Действительно, жизнь Толкина была отдана «Сильмариллиону».
Со студенческих лет длилась эта нескончаемая (и так и не законченная работа).
АЗАГХАЛ – царь гномов Белегоста; в Нирнаэф Арноэдиад ранил Глаурунга и был убит им.
Придуманная это личность, придуманный эпизод?
Да нет, конечно. Азагхал существовал. В воображении Толкина.
И то, что во время Нирнаэф Арноэдиад (битвы бессчетных слез) он ранил дракона, и все последующее за этим, конечно, вовсе не придуманный эпизод, а самая настоящая (для Толкина) жизнь, пусть и параллельная. Таков парадокс.
Но, работая над «Сильмариллионом», Толкин оставался типичным оксфордским доном. Он, как всегда, читал лекции, принимал экзамены, выполнял самые разные административные обязанности, с удовольствием составлял комментарии к новому изданию «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря», готовил к публикации (для Общества по изданию древних английских текстов) всякие темные рукописи, вроде упоминающейся «Ancrene Wisse» и т. д. Но главной для Толкина – всегда! – всегда оставалась работа над «Сильмариллионом».
АКАЛЛАБЕТ – «Падшая Земля», название Нуменора после его гибели, а также название рассказа о гибели Нуменора.
АМОН РУД – одинокая гора в землях к югу от Брефиля; там жил карлик Мим и скрывалась шайка Турина.
ГОНД – «камень» в ГОНДОЛИН, ГОНДОР, ГОННХИРРИМ, АРГОНАФ, СЕРЕ ГОН. Название для потаенного города Тургон первоначально взял из квенийского наречия (ОНДО – ГОНД и ЛИНДЭ – «петь») – ОНДОЛИНДЭ; но в легендах была более известна синдаринская форма названия – ГОНДОЛИН (ГОНДДОЛЕН – «Потаенный Камень»).
Толкин помнил письмо своего давнего друга Дж. Б. Смита. В этом письме, полученном еще в июле 1916 года, Смит сообщал о гибели Роберта Гилсона, и это означало не просто потерю близкого друга, но потерю многих надежд на будущие достижения Великой четверки.
Толкин тогда ответил, признаться, несколько странно:
«Не могу избавиться от твердой уверенности, что не следует ставить знак равенства между тем величием, что снискал себе Роб (своей гибелью. – Г. П., С. С.), и тем величием, в котором сам он не раз сомневался. Робу отлично было ведомо, что я никоим образом не предаю свою любовь к нему, говоря, что если величие, которое со всей отчетливостью подразумевали мы трое, и в самом деле – удел ЧКБО, то смерть одного из членов клуба – это не более чем просто жестокий отсев тех, кто для этого величия не предназначен (курсив наш. – Г. П., С. С.). Дай Господи, чтобы это не прозвучало самонадеянностью. Воистину смирения у меня поприбавилось: сейчас я ощущаю себя куда более слабым и жалким, чем раньше. Величие, о котором я говорю, – это величие могучего орудия в руках Господних: величие вдохновителя, деятеля, свершителя великих замыслов или хотя бы зачинателя деяний крупных и значимых…»
И далее: «Да, ЧКБО, возможно, воплощало все наши мечты – и в итоге труды ЧКБО закончат трое или двое уцелевших или даже один (курсив наш. – Г. П., С. С.), а роль прочих Господь отведет тому вдохновению, которое, как мы отлично знаем, мы обретали и продолжаем обретать друг в друге. На это возлагаю я ныне все свои надежды и молю Господа, чтобы избранников, призванных продолжить дело ЧКБО, оказалось не меньше, чем трое».
Теперь мы знаем, что на самом деле их оказалось меньше.
Даже не двое (после смерти Гилсона и Смита), а один – Толкин.
Потому что четвертый, Кристофер Уайзмен, к сожалению, ничем особенным не обозначил свой след в истории[535].
15
В последние годы жизни, после выхода на пенсию, работа над «Сильмариллионом» стала для Толкина жизненной необходимостью – даже, можно сказать, долгом. Правда, в письмах, выдержки из которых приводятся ниже, чувствуется и многое другое, например, сомнения в том, что его работа будет завершена, а главное – сможет ли, успеет ли он передать другим то, ради чего работал всю жизнь.
В 1959 году Толкин писал Рейнеру Анвину:
«Я задержался с ответом на Ваше письмо от 3 декабря главным образом потому, что вновь с головой ушел в работу, в которой Вы заинтересованы. Боюсь, что Вас скорее встревожит, нежели удивит (Вам ли не знать авторских причуд – или, по меньшей мере, моих), если я скажу, что идет она не в той последовательности. С помощью моей секретарши я стремительно продвигался с переделкой „Сильмариллиона“ и т. д., и Ваше письмо сработало примерно, как если бы поводья натянули – очень вовремя, хотя и некстати. Конечно, что мне следует немедленно взяться за „Гавейна“»[536].
В 1963 году (ему же):
«Да, „Сильмариллион“ вновь разрастается в моих мыслях. (Я не имею в виду – становится больше, но – опять одевается листвой и надеюсь, что цветами.) Однако я до сих пор не закончил с „Гавейном“ и т. д. Тяжким выдался этот год, бесконечно приходилось отвлекаться, устал невероятно, и теперь этот завершающий удар – смерть К. С. Л. (Льюиса. – Г. П., С. С.)»[537].
Снова Рейнеру (1965):
«Боюсь, что среди завалов моих бумаг не найдется ничего похожего и сопоставимого по объему с этой рукописью. Неопубликованных материалов там полным-полно, но все это отчетливо принадлежит к „Сильмариллиону“ или всему тому миру»[538].
Клайду С. Килби, – который предлагал приехать в 1966 году, чтобы оказать помощь в подготовке «Сильмариллиона» для печати:
«Я никогда не был особо уверен в моем собственном труде – и даже сейчас, когда меня убеждают (не перестаю этому с благодарностью изумляться), что он имеет ценность в глазах других людей, я робею, так сказать, выставить мой воображаемый мир на суд чужих глаз и ушей – вероятно, презрительный. Если бы не поддержка К. С. Л., не думаю, что я когда-нибудь закончил бы или предложил к публикации книгу „Властелин Колец“. „Сильмариллион“ совсем другой; и, если хоть сколько-нибудь хорош, то хорош совершенно по-иному; и я, на самом деле, не знаю, как с ним быть. Я начал его в госпитале и во время отпуска по болезни (1916–1917); и с тех пор с ним не разлучался, а сейчас он в жутком беспорядке, поскольку в промежуток времени между тогда и теперь я его всячески переделывал, дописывал и перерабатывал. При содействии ученого, одновременно сочувственно и критически настроенного, как Вы, я, наверное, сумел бы подготовить часть этих материалов к публикации. Мне требуется живое присутствие рядом друга и советчика – именно то, что Вы предлагаете. Как мне представляется, вскорости я освобожусь и смогу вернуться к „Сильмариллиону“; так что июнь, июль и август в нашем распоряжении»[539].
Майклу Толкину (1970):
«С „Сильмариллионом“ я продвигаюсь отнюдь не быстро.
Домашняя ситуация, мамина доблестная, но обреченная на поражение битва со старостью и бессилием (и болью), и мои собственные годы, и необходимость прерываться из-за всяких „дел“ времени особо не оставляют. По правде, до сих пор я занимался главным образом тем, что пытался скоординировать систему имен самых ранних и более поздних фрагментов „Сильмариллиона“ с раскладом „Властелина Колец“. В моем сознании имена по-прежнему разрастаются в „истории“, но это – задача крайне сложная и запутанная»[540].
Уильяму Кейтеру (1971):
«Что до моей работы, сейчас все выглядит более обнадеживающе, нежели в последнее время; очень возможно, что уже в этом году я смогу отослать в „Аллен энд Анвин“ часть „Сильмариллиона“»[541].
Майклу Салмону (1972):
«Спасибо за Ваше письмо, такое сердечное, и за Ваш интерес к моим произведениям в целом. Однако ж ныне я – старик, что изо всех сил тщится закончить хотя бы некоторые из своих трудов. Любая дополнительная работа, пусть и пустяковая, уменьшает мои шансы когда-либо опубликовать „Сильмариллион“. Так что, надеюсь, вы поймете, отчего для меня никак невозможно тратить время на комментарии о себе самом или своих книгах»[542].
Лорду Халсбери (1973):
«Как только Вы сами выйдете на пенсию, я непременно воззову к Вам о помощи. Начинаю думать, что без нее мне не суждено произвести хотя бы часть „Сильмариллиона“»[543].
16
Весной 1966 года Толкин и Эдит отметили золотую свадьбу.
В Мертоновском колледже по случаю юбилея был устроен прием.
Праздновали пышно, с большим размахом. Исполнялся, в частности, цикл песен на стихи Толкина – The Road Goes Ever On. Музыку написал композитор Дональд Суон, пел баритон Уильям Элвин под аккомпанемент самого Суона. Постановка должна была напоминать праздники при дворе эльфийских королей, о которых не раз писал сам Толкин. И, кажется, это получилось.
Событием стало и чтение Толкином сказки «Кузнец из Большого Вуттона» – в зале Блэкфрайарз («Черных монахов») при Центре теологических исследований в Оксфорде.
«Я не предупредил тебя насчет моего выступления в среду вечером, – писал Толкин своему внуку Майклу Джорджу Толкину, в это время аспиранту в Оксфорде. – Думал, ты будешь слишком занят. На самом деле я не с лекцией выступил, а прочел небольшое произведение, написанное недавно и пока не опубликованное; ты его тоже сможешь прочесть, когда время будет, – „Кузнец из Большого Вуттона“, если я тебе его еще не всучил. Это мероприятие поразило меня до глубины души, равно как и устроителей всего цикла лекций – настоятеля Блэкфрайарз и главы Пьюзи-Хауса. Вечер выдался дождливым и мерзким. Но при этом в Блэкфрайарз хлынула такая толпа, что пришлось освободить трапезную (длинный зал, никак не меньше церкви), и все равно все не поместились. На скорую руку обеспечили трансляцию в коридоры. Мне рассказывали, что пришло более 800 человек. Ужасно душно было…»[544]
17
«Толкин с Эдит по-прежнему оставались очень разными людьми, с очень разными интересами, – писал в своей книге Хэмфри Карпентер. – Даже теперь, через пятьдесят лет супружеской жизни, отношения между ними были далеко не идеальными. Случались минуты взаимного раздражения, обид, но и великая любовь и сильная привязанность никуда не делись, а возможно, даже возросли теперь, когда семейных забот поубавилось. У них, наконец, появилось время просто посидеть и поговорить; и они много разговаривали, особенно летними вечерами после ужина, устроившись на скамеечке на парадном крыльце или в саду среди роз. Он курил трубочку, она – сигарету (Эдит пристрастилась к курению уже в старости). Разумеется, беседовали они по большей части о семейных делах, которые неизменно интересовали обоих»[545].
Консервативность Толкинов резче всего проявлялась в быту.
Телевизор – зачем? Бытовая техника в передовом американском стиле? Справимся и без техники! Готовкой и большей частью домашнего хозяйства занималась Эдит, но здоровье ее, к сожалению, ухудшалось. Артрит оказался серьезной помехой даже для работы в саду. Конечно, приходила наемная домработница, но дом был недостаточно велик, чтобы обеспечить ее постоянной работой, а поселить экономку было негде. Впрочем, найти экономку в 1960-е, даже при наличии денег, тоже было непросто, не то что в Викторианскую эпоху. Конечно, кое-что по дому Толкин делал сам, но теперь он уже не мог двигаться так легко, как раньше. К тому же, как во всех типично английских домах, спальни на Сэндфилд-роуд располагались наверху и в них надо было подниматься по довольно крутой лестнице.
Толкины решили в очередной раз переехать. На этот раз – в типично пенсионерский городок Борнмут, пляжный курорт на берегу Ла-Манша, который они хорошо знали, поскольку Эдит не раз ездила туда отдыхать, а после выхода Толкина на пенсию он и сам не раз сопровождал туда жену. Останавливались Толкины в отеле «Мирамар» на берегу моря, в кирпичном здании с белыми наличниками и колоннами, выдержанном в стиле английской сельской усадьбы, – дорогом комфортабельном отеле, в котором селились в основном представители английского «высшего среднего класса». Эдит чувствовала себя в этой среде гораздо уютнее, чем в академическом Оксфорде[546]. Окружение, материально обеспеченное и без особых интеллектуальных претензий, напоминало ей годы, проведенные в Челтнеме перед замужеством. Многие из постояльцев отеля были титулованными и богатыми, но мировая слава Толкина вполне заменяла ему титулы. Несмотря на постоянные жалобы на чрезмерные и несправедливые налоги, недостатка денег Толкины не чувствовали. К тому же «Мирамар» избавлял Эдит от хлопот по дому.
Постепенно Толкины пришли к мысли совсем переехать в Борнмут. Возможно, какую-то роль в этом решении сыграли и слова Одена: этот знаменитый поэт в 1966 году, рассказывая о знаменитом оксфордском доне на заседании Толкиновского общества в Нью-Йорке, воскликнул: «Дом, в котором он живет, просто кошмарен! Я вам передать не могу, насколько он кошмарен, и картины на стенах тоже кошмарны»[547].
Газеты процитировали Одена, и, конечно, Толкин обиделся. В этом мимолетном столкновении можно (при желании) увидеть и просто конфликт двух эстетических концепций: Толкина, любовавшегося «хоббитской» домашностью, и модернистского «эстетизма» Одена. А возможно, Оден (он эмигрировал в США в 1939 году) просто уже ориентировался на чисто американскую публику, которой всегда было трудно понять и принять странную, на их взгляд, привязанность англичан к недостатку современного комфорта.
В конце концов, Толкины купили небольшой дом в Борнмуте по адресу Лейксайд-роуд, 19, недалеко от отеля «Мирамар». Летом 1968 года супруги переехали туда. В доме было центральное отопление – большое новшество для консервативной Англии. Еще удобно было то, что дом относился к типу «бунгало», то есть в нем не было никаких лестниц, а то незадолго до переезда Толкин упал с лестницы в старом доме и несколько недель провел в больнице.
Чтобы избежать наплыва назойливых поклонников, новый адрес Толкин решил держать в секрете. Клайду С. Килби он написал: «В конце апреля и в начале мая положение дел у меня дома дошло до того предела, когда необходимо было что-то предпринять, причем быстро. Я покидаю Оксфорд и переселяюсь на южное побережье. На данный момент предполагается, что перееду я в конце месяца или в самом начале следующего. Чтобы защитить себя, я изыму свой адрес из всех справочных изданий и прочих списков. Согласно договоренности, моим адресом станет: „Аллен энд Анвин“ – для передачи такому-то; а моего настоящего адреса запрашивающим сообщать не станут. Когда все, наконец, утрясется, я выдам свой адрес тем немногим избранным, кому могу доверять и кто не станет его обнародовать»[548].
18
Среди всех забот Толкина радовали дети.
Да и как можно было ими не гордиться?
Майкл во время войны был награжден медалью за службу в зенитных войсках, защищавших аэродромы во время авианалетов за Англию, а Джон стал католическим священником. Кристофер же постепенно превратился в ближайшего и незаменимого литературного помощника Толкина.
На Лейксайд-роуд, 19, у Толкинов появились наконец хорошо оборудованная кухня и, кроме гостиной, столовой и двух спален, еще и рабочий кабинет. Впрочем, и гараж не остался без дела: поскольку машину Толкины не держали, его переоборудовали под библиотеку, как на Сэндфилд-роуд. Дом отапливался. На веранде можно было спокойно выкурить вечером трубку или сигарету. Калитка в дальнем конце сада выводила прямо в заросший лесом овраг, известный как Бранксомское ущелье. Каждый день к Толкинам приходила домработница, да и отель «Мирамар» всегда был под рукой – там Эдит в любой момент могла отдохнуть от домашнего быта. Когда приезжал кто-то из членов семьи или близких друзей, их тоже можно было поселить в «Мирамаре». Гонорары от переизданий и переводов «Хоббита» и «Властелина Колец» на другие языки позволяли жить гораздо свободнее, чем раньше. Прогулки по торговым заведениям, ужины в дорогих (часто меняющихся) ресторанах, черный вельветовый пиджак и цветные жилеты, сшитые по заказу, – как писал Хэмфри Карпентер, – с возрастом писатель чувства юмора не потерял. Он легко заводил дружбу с таксистами, с полицейскими, соседями, хотя никогда не забывал о классовых различиях. Викторианец в Толкине вовсе не умер: «Я не „демократ“ хотя бы потому, что смирение и равенство – это те духовные принципы, которые при любой попытке механизировать и формализовать их безнадежно искажаются. В результате мы имеем не всеобщее умаление и смирение, а всеобщее возвеличивание и гордыню, пока какой-нибудь орк не завладеет кольцом власти; тогда мы получаем – рабство».
19
Еще в 1943 году Толкин писал Кристоферу:
«Мои политические убеждения все больше и больше склоняются к анархии (в философском смысле, конечно; разумею под этим отмену контроля, а не усатых заговорщиков с бомбами) или к „неконституционной“ монархии. Я арестовывал бы всех, кто употребляет слово „государство“ (в каком-либо ином значении, кроме как „неодушевленное королевство Англия и его жители“), и, дав им некоторый шанс отречься от своих заблуждений, казнил бы их, если бы они продолжали упорствовать! Правительство – это всего лишь абстрактное существительное, означающее искусство и сам процесс управления; писать это слово с большой буквы или использовать его по отношению к живым людям до́лжно объявить правонарушением. Если бы люди взяли за привычку говорить: „совет короля Георга… Уинстон и его банда…“ это бы сразу прояснило мысли и приостановило жуткую лавину, увлекающую нас в „кто-то-кратию“. Как бы то ни было, человеку до́лжно изучать все что угодно, кроме Человека; а уж самое неподобающее занятие для любого и даже святых (они-то, по крайней мере, соглашались на него с крайней неохотой) – это распоряжаться другими людьми. На миллион человек не найдется ни одного, кто бы подходил для такой роли, а уж менее всего те, кто к ней стремятся. По крайней мере, проделывается это очень небольшой группкой людей, отлично знающих, кто их хозяин. Люди Средневековья были абсолютно правы, когда лучшим доводом, какой только мог привести человек в пользу того, чтобы его избрали епископом, находили этот – nolo episcopari („не хочу быть епископом“). Дайте мне короля, который интересуется главным образом марками, железными дорогами или скачками! Который обладает властью уволить своего помощника, если тот явится в брюках не того покроя! Ну и так далее, в том же духе. Но весь мир валяет дурака старым, добрым, бездарным, давно привычным способом.
Тщеславные греки умудрились выстоять против Ксеркса, однако гнусные инженеры и химики вложили теперь такую силу в Ксерксовы руки и во все государства-муравейники, что у людей порядочных, похоже, никаких шансов не осталось. Все мы пытаемся уподобиться Александру, но именно Александр и его военачальники первыми набрались восточного духа. Бедный олух вообразил (или попытался внушить людям), что он – сын Диониса и умер от пьянства. Та Греция, которую стоило спасать от Персии, все равно погибла, превратилась в нечто вроде Эллады Виши, или Эллады Сражающейся (которая вовсе даже и не сражалась), рассуждающей об эллинской чести и эллинской культуре и богатеющей за счет продажи древнего эквивалента пошлых открыток. Но особый ужас современного мира состоит в том, что весь он, треклятый, – в одном мешке. И бежать некуда. Подозреваю, что даже несчастные северные самоеды питаются консервами, а деревенский репродуктор рассказывает им на ночь сталинские сказочки про демократию и гадких фашистов, которые едят младенцев и воруют упряжных собак. Есть во всем этом лишь одна светлая сторона, это – крепнущая привычка недовольных взрывать фабрики и электростанции; надеюсь, что этот обычай, ныне поощряемый как проявление „патриотизма“, со временем войдет в привычку…
Ну да ладно, всего тебе хорошего, дорогой мой сынок. В темную пору мы родились, в неподходящее (для нас с тобой) время. Утешение только одно: родись мы в другое время, мы не узнали бы и не полюбили так сильно все то, что на самом деле любим. Думается мне, что только рыба, вынутая из воды, имеет хоть какое-то представление о том, что такое вода. Кроме того, остались же у нас еще наши маленькие мечи. „Не сдамся пред Железною Короной, не отшвырну свой скипетр золоченый!“ Задай же оркам жару, забросай их крылатыми словами, острыми стрелами – но только, прежде чем стрелять, хорошенько прицелься»[549].
20
Конечно, в отличие от Эдит, с точки зрения привычного круга, Толкин постоянно чувствовал себя в Борнмуте в изоляции; больше, чем на Сэндфилд-роуд. «Я себя чувствую хорошо, – писал он Кристоферу через год после переезда в Борнмут. – И все-таки, все-таки… Я совсем не вижусь с людьми своего круга, мне не хватает Нормана (Дэвиса. – Г. П., С. С.). И в первую очередь не хватает тебя»[550].
Для Толкина переезд был сознательной жертвой. Он хотел сделать счастливыми хотя бы последние годы Эдит. И, в общем, исключая неизбежные в ее (и в его) возрасте болезни, ему это удалось.
21
Говоря о Толкине, всегда надо помнить о его глубокой религиозности.
Он был убежденным католиком. Он хорошо помнил мучения матери, сменившей (против воли близких) конфессию, но только теперь, с годами, по-настоящему понял ее терзания – от самых высоких до «низких», бытовых. Чуть ли не каждый воскресный день Толкина начинался с поездки к мессе в церковь. В Оксфорде это была церковь Святого Алоизия, принадлежавшая ораторианцам, в Хедингтоне – приходская церковь Святого Антония Падуанского. В Борнмуте ближайшей к дому Толкинов была церковь Святого Сердца. Как утверждал Хэмфри Карпентер, Толкин рано установил для себя жесткий свод правил. Он, например, никогда не причащался, не исповедовавшись (таково правило, идущее от раннего христианства, хотя в годы Толкина оно соблюдалось все менее строго. – Г. П., С. С.), а если исповедоваться по какой-то причине не удавалось, настроение Толкина сильно падало. Так же терзали его богослужения, которые велись на английском языке, а не на латыни. Он считал латынь единственным истинным языком церкви, по крайней мере католической. Какими-то странными нитями он связывал свою религиозность, прекрасный латинский язык и страдания своей матери – это, несомненно, было его личным чувством; он был убежден, что Мэйбл Саффилд погибла по вине окружения, не понимавшего, не желавшего понимать двигавших ею мотивов.