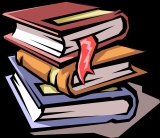
Текст книги "В круге последнем"
Автор книги: Сергей Михалков
Соавторы: Юрий Бондарев,Юрий Рытхэу,Александр Рекемчук,Евгений Долматовский,Иван Васильев,Галина Серебрякова,Борис Скворцов,И. Соловьев,Генрих Боровик,Наталья Решетовская
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Архипелаг лжи
Коротко о себе. Я – бывший сержант 62‑й армии, которой командовал генерал Василий Чуйков. Мне посчастливилось (я сознательно употребляю это слово, несмотря на нечеловеческую тяжесть пережитого) быть свидетелем и участником Сталинградской битвы. Вместе со своим отделением я находился в самом центре обороны Сталинграда. Гитлеровцы вели ожесточенные уличные бои, обрушивая шквал огня и железа на дом, который мы, горстка бойцов, занимали и который был ключевой позицией наших войск в самые напряженные минуты сражения. 58 дней и ночей держали мы здесь оборону, так и не пропустив немцев к Волге. Я горжусь, что этот легендарный дом вошел в историю войны под именем дома Павлова.
Кто же сражался рядом со мной? Такие же, как и я, рабочие, крестьяне, инженеры, учителя: русский Александров, украинцы Сабгайда и Гущенко, грузин Мосиашвили, узбек Тургунов, казах Мурзаев, абхазец Сукба, таджик Турдыев, татарин Рамазанов…
Я мог бы напомнить высказывания американской прессы тех лет. «Нью-Йорк геральд трибюн», которую никак не заподозришь в особых симпатиях к СССР, писала о Сталинграде: В невообразимом хаосе бушующих пожаров, густого дыма, разрывающихся бомб, разрушенных зданий, мертвых тел защитники города отстаивали его со страшной решимостью не только умереть, если потребуется, не только обороняться, где нужно, но и наступать, где нужно, не считаясь с жертвами для себя, своих друзей, своего города… Именно такими боями выигрывают войну…
Тогда, помню, крылатыми на Сталинградском фронте стали слова снайпера Василия Зайцева: «За Волгой для нас земли нет!» Зайцев был одним из 4.600 бойцов и командиров 62‑й армии, вступивших в Коммунистическую партию только за один месяц боев под Сталинградом осенью 1942 года.
Все это пытается перечеркнуть «литератор» Солженицын в опубликованном на Западе «Архипелаге Гулаг».
Я и мои старые боевые товарищи, не раз смотревшие смерти в глаза, не можем оставаться равнодушными, когда кто бы то ни было, тем более человек, считающий себя русским, глумится над подвигом Сталинграда, над памятью его героических защитников, которая священна для каждого советского человека. Солженицын превозносит штрафные роты, бессовестно, называя их «цементом фундамента Сталинградской битвы».
Для тех читателей за рубежом, которых писания Солженицына могут по незнанию ввести в заблуждение, несколько слов о штрафных ротах. Они состояли из тех, кто грубо нарушал воинскую дисциплину или проявлял трусость и малодушие. Хотя бы по этому можно себе представить, сколько таких людей могло быть в армии страны, выигравшей самую тяжелую из войн в истории.
Яков ПАВЛОВ, Герой Советского Союза, участник Сталинградской битвы, председатель Новгородского областного комитета защиты мира. г. Новгород. (АПН).
Правильное решение!
После того, как мы узнали об Указе Президиума Верховного Совета СССР о лишении Солженицына гражданства СССР и выдворении его за пределы Советского Союза, мы сказали, собравшись в цехе: «Правильное решение!»
Мы – молодые токари завода, выпускники профессионально-технического училища №38 города Москвы.
Солженицын в своих произведениях обливал грязью нашу страну, разоблачил себя как предателя. Не раз все мы задавали себе вопрос: «Да как он смеет возводить поклеп на наш строй?!» Взять, к примеру, любого из нас, молодых токарей. Судьбы наши схожи, к тому же часть ребят – земляки, родились в Рязани, где когда-то жил Солженицын. Мы читали его произведения, когда он описывал в них деревенскую жизнь, и возмущались ложью еще в то время.
Сам я из деревни, в семье у матери седьмой. Отец вернулся с войны инвалидом, без ноги, и вскоре умер. Но все мы сейчас, исключая младшего брата, который еще учится в школе, находимся при деле: старшая сестра – учительница, брат работает в промышленном городе Новомосковске (Тульская область), заочно учится на инженера. Остальные в колхозе. Имеют свои семьи. Свои дома. У них приличные заработки. Когда я окончил восемь классов, то поступил в ПТУ. Учился и получал стипендию. Сейчас – токарь на известном заводе, его продукция – станки – идет во многие страны мира.
С полной ответственностью заявляю: таким клеветникам, как Солженицын, не место среди советских людей, и правильно с ним поступили, выдворив из нашей страны.
Алексей Голубкин, Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе.
Размышления американца
Американец, находящийся в Москве, может испытывать лишь чувство гнева, слушая некоторые западные радиопередачи, изображающие возмущение по поводу высылки Солженицына. Я говорю это как один из тех, кто видел обожженных детей в Ханое и слушал те же самые радиостанции, чтобы услышать слова возмущения бомбардировками B‑52. Тщетно.
Они не признают того, что в действительности здесь происходит. Решение Верховного Совета о лишении Солженицына гражданства страны, которую он осквернил, одобряет весь народ. Это подобно волне национальных чувств. Рядовые граждане: заводские рабочие, художники, ученые, герои труда – все выражают глубокое удовлетворение, зачастую в самых резких словах, тем, что страна избавилась от этого человека, который самым мерзким образом нарушал все священные заповеди, которыми живет народ; оскорблял память его мучеников – юной партизанки Зои Космодемьянской, которую повесили нацисты за ее непоколебимый патриотизм; молодого пехотинца Александра Матросова, который грудью закрыл амбразуру фашистского дзота, чтобы спасти жизнь своих товарищей.
Больше всего люди выражают гнев по поводу ненависти Солженицына к ленинскому социально-политическому строю, который создал|стране высокий престиж на международной арене – стране, которую большая часть мира считает главной силой, защищающей мир, социальную справедливость, национальную независимость и международное братство.
Я читал многие письма в «Правду» и другие газеты, в которых выражается глубокое всенародное отвращение, вызванное действиями писателя, оскорбившего память двадцати миллионов человек, отдавших жизнь в войне против фашизма, и оказавшегося способным восхвалять генерала Власова, труса и предателя, перебежавшего к нацистам.
Я читал в «Правде» прочувствованные слова, которые, без сомнения, вызовут глубокий отклик во многих странах, например высказывание члена Академии медицинских наук д‑ра Ованеса Барьяна, который заявил:
«Только человек, лишенный совести, может оправдывать преступления власовцев и писать о прощении гитлеровцев. Какого прощения он просит? Не за то ли, что в одном только Освенциме фашисты замучили до смерти четыре с половиной миллиона людей? О каком прощении может идти речь, когда из кожи людей, уничтоженных в газовых камерах, делали перчатки и абажуры?» Ученый продолжает: «Я принимал участие в расследовании преступлений фашистов в Освенциме и Бухенвальде, и мне трудно представить, как низко должен пасть человек, чтобы говорить о прощении гитлеровских палачей».
По общему мнению, Солженицын оказался врагом, чуждым своей стране. Возникла настоятельная необходимость оформить этот факт принятием соответствующих мер. Как американец, стремящийся к дружбе между нашими двумя странами, я считаю указ Верховного Совета вполне оправданным.
Я думаю о мучительных моментах в моей стране, о случае с изменой Эзры Паунда. Этот американский поэт переметнулся к фашистским чернорубашечникам Италии, осудил свою страну и громогласно выступал за победу оси над своим народом. Он переложил на стихи гитлеровский антисемитизм и объявил о своей приверженности моральному кодексу Муссолини. Если Паунд избежал судьбы предателя, то лишь потому, что в американском обществе многие не находят ничего предосудительного в фашизме. Все же Паунд пробыл в психиатрической больнице с 1945 по 1958 год, после чего ему «разрешили вернуться» в Италию, которую он больше всего любил в период, когда она была партнером нацистской Германии.
Продолжаю американскую аналогию: Паунд изменил своей стране как гражданин, как писатель. Он предал демократическую этику, которой славились столь многие в нашем литературном мире.
Очевидно, что Солженицын, подобно Паунду, предатель как гражданин, как писатель, изменил гуманизму русской литературы, которая составляет славу мирового творчества. Она возбуждает умы и трогает сердца целых поколений. Она всегда – в первых рядах борьбы против угнетения, за принципы социальной справедливости.
Я считаю его таким же лживым писателем, каким он оказался лживым человеком. Он тщится представить облик Советского Союза как пустошь, где господствует террор. Мне приходилось бывать в этой стране десятки раз, и я довольно долго там жил. Я вижу, как осуществляется мечта Ленина. Я встречаю благородный народ, блестящее молодое поколение, жадно стремящееся овладеть высотами науки и техники, – не как технократы, а для того, чтобы покорить силы природы и повести свою страну к триумфу коммунизма и одновременно к царству дружбы и прочного мира между народами.
Я посетил большие города, возникшие там, где некогда были пустыни; я вижу электропоезда, где вчера прокладывали путь в песках верблюды; я вижу живущие полной жизнью города, выросшие на вечной мерзлоте. Я обошел огромные города, вставшие из руин, – Ленинград, Киев, Сталинград, я посещал дворцы, вставшие на месте прежних лачуг. Я беседовал с рабочими и крестьянами, ощущал их гордость творчества, познал их любовь к своей партии и своему правительству. Эти люди – строители, любящие свою родину, и когда одно время дела пошли неправильно, именно они и их партия устранили и исправили ошибки. Эти патриоты являются в то же время друзьями всего человечества.
Всего человечества… Я побывал на четырех войнах в этом веке ужасных войн: на войне Испании против Франко, на второй мировой войне против фашизма, на войне Кубы против наемников, на войне Вьетнама против летающих крематориев B‑52. Где бы я ни был, я видел свидетельства советской поддержки свободы и независимости, бескорыстной помощи народам средствами обороны в священной борьбе за свободу и независимость. Повсюду я видел своими глазами верность Советского Союза марксистским принципам международной солидарности.
Однако я не нашел этого эпоса на страницах произведений Солженицына и, как и миллионы людей во всем мире, не могу признать его глашатаем правды. Это не провидец, это лживый пророк. В литературе и раньше встречались ему подобные – писатели, продавшие душу. Тридцать сребреников выросли в наши дни сложных процентов в миллионы долларов, хранящихся в безмолвных сейфах Швейцарии.
Солженицын отправился туда, где ему место: в компанию тех, кто стремится навредить Стране Советов. Но эта компания вырождается. Некоторое время он будет бродить среди них, и они будут оказывать ему радушный прием, пока он им будет полезен. Теперь его с распростертыми объятиями приняли бы власти Чили или сторожа тигровых клеток Тхиеу. Но неизбежно наступит день, когда он станет живым призраком, человеком, испытавшим самую худшую судьбу – гражданскую смерть.
Джозеф НОРТ, американский публицист. (АПН).
Человек, который отказался переводить Солженицына
Имя Ганса-Иохима Шлегеля хорошо известно в кругах литературоведов и переводчиков Западной Германии. Несмотря на свою молодость – ему 31 год, – Шлегель считается в ФРГ видным славистом.
Среди молодого поколения литературных переводчиков с русского языка в ФРГ Шлегель считается одним из самых надежных. Он гарантирует качество перевода. Заказы от крупных издательств поступают к нему довольно часто. Но принимает он далеко не все. И не только из-за недостатка времени…
Недавно главный редактор мюнхенского издательства «Шерц» господин Вёрнер предложил Шлегелю перевести «один еще не известный на Западе текст Солженицына», который издательство «намеревается выпустить в свет вслед за „Архипелагом Гулаг“».
Шлегель выразил сомнение в целесообразности такого шага, заметив, что кампания, развернувшаяся вокруг последней книги Солженицына, играет на руку противникам международной разрядки, в необходимости которой он, Шлегель, твердо убежден.
– Если этого не сделаем мы, сделают другие, – ответил главный редактор. – Мы руководствуемся чисто деловыми принципами и не можем отказываться от столь доходного дела.
– Я придерживаюсь другого мнения, господин Вёрнер. Как вы относитесь, например, к тому, что Солженицын и другие советские диссиденты высказываются в поддержку чилийской хунты и прочих реакционеров?
– Чили, Чили! До Чили далеко, – отмахнулся Вёрнер. – Я пригласил вас не для политических диспутов. Господин Шлегель, вы известный переводчик с русского. Я предлагаю вам выгодный заказ: за гонораром дело не станет. Деньги здесь не вопрос. Заказ срочный, время не терпит. Если возьметесь, попрошу вас лишь сохранить все в строгой тайне.
– А если не возьмусь?
– Тогда я вынужден буду обратиться в отдел переводов радиостанции «Свобода». Будет не так качественно, зато безотказно. Но надеюсь, что тайну вы сохраните в любом случае.
Нет, Ганс-Иохим Шлегель не принял этот «выгодный заказ» и сохранять тайну тоже не стал. Напротив, он счел своим долгом предать эту неприглядную историю гласности.
На вопрос корреспондента АПН о том, что побудило Шлегеля решительно отклонить предложение издательства «Шерц», молодой литературовед ответил:
– Антисоветская кампания, развернувшаяся сейчас вокруг Солженицына, по моему твердому убеждению, представляет серьезную угрозу для разрядки напряженности. Опубликование текста Солженицына на руку лишь тем, кто хочет вернуться к недобрым временам «холодной войны». Одновременно инициаторы этой кампании стараются отвлечь внимание западногерманской общественности от происков внутренней реакции, от наших экономических трудностей, вызванных своекорыстной политикой монополии, от борьбы против злодеяний фашистской хунты в Чили. Вот почему я счел своим гражданским долгом проинформировать нашу общественность об этой истории, свидетельствующей, что беспринципное делячество и реакционное политиканство – две стороны одной и той же медали.
– Издательство «Шерц», – продолжил Шлегель, – выпуская тексты Солженицына, руководствуется не литературными и даже не коммерческими, а исключительно политическими соображениями. Оно само низводит себя до положения политического инструмента международной реакции, каким является нынче и бывший писатель Солженицын. Не случайно главный редактор Вёрнер говорил мне, что «деньги не имеют значения», и предлагал необычайно высокий гонорар. При этом надо учесть, что литературный труд переводчика оплачивается у нас весьма скромно.
– Высокая миссия литературного переводчика, по моему мнению, – сказал в заключение Шлегель, – заключается в том, чтобы способствовать взаимопониманию между народами. Как переводчик с русского, я стремлюсь ознакомить наш народ с теми произведениями советской литературы, которые играют подлинно важную роль в жизни страны и помогают здесь у нас преодолевать недоверие и предрассудки по отношению к СССР. То, что пишет сейчас Солженицын, не дает нам ни малейшего представления о том, как живут и о чем думают ныне советские люди. А мы должны об этом знать, если мы хотим понять друг друга, и навсегда покончить с войной как средством мировой политики.
Н. ПОРТУГАЛОВ, Бонн, соб. корр. (АПН).
Разрядка – не поле для диверсий
Наблюдая за ходом антисоветских и антикоммунистических кампаний, инспирируемых на Западе, невольно замечаешь синхронизацию их кульминационных моментов с определенными этапами в международной политике. Исходя из этого, нетрудно было предвидеть, что в день выдворения Солженицына из СССР на пульте управления идеологическими диверсиями будет нажата кнопка с надписью «Общеевропейское совещание». И вот пропагандисты антисоветского толка уже торопятся услужливо выдать по радио и в печати порцию лицемерных сетований насчет «негативного влияния советской акции» на ход женевских переговоров о безопасности и сотрудничестве в Европе.
Раздражение людей, сделавших для себя из антисоветизма профессию, понятно. Они лишились «опорной базы» внутри Советского Союза. Предприятие Солженицына стало в их глазах политически малоприбыльным в тот момент, когда вместе с его выдворением оборвал свою жизнь и «черный канал» «психологической войны», сконструированный в расчете на постоянный приток псевдосвидетельств из псевдосоветского источника в Москве.
Но это как раз и тот момент, когда искренние сторонники разрядки и сотрудничества, и прежде всего в Западной Европе, вправе задать вопрос: а не наступил ли предел манипулированию общественным мнением в угоду неизлечимой мании?
Отягощенные недугом антисоветизма и антисоциализма политики и пропагандисты не хотят расставаться со своей «слабостью» – навязчивой идеей продиктовать другим народам изменения в социальном строе, в образе жизни. Но мало сказать «лекарю» – исцелися сам! Пришло время обратить самое пристальное внимание на ущерб, наносимый тем самым делу сотрудничества между народами Европы, всему, что достигнуто на этом пути.
Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов то обстоятельство, что среди людей на Западе, позволивших увлечь себя эмоциями «протеста» или «симпатий» по поводу так называемой «проблемы инакомыслящих в СССР», есть немало искренне верящих в то, что они руководствуются собственными идеалами и убеждениями, а отнюдь не являются невольными орудиями политических манипуляторов. Это происходит от того, что современные контролеры массовых коммуникаций в капиталистическом мире благодаря их всеподавляющей монополии, ухитряются очень ловко маскировать порог между информацией и дезинформацией, между идеологической борьбой и «психологической войной». Широкому кругу людей внушается мысль, что они находятся в курсе внутренних дел Советского Союза или какой-либо другой социалистической страны. Фактически же они вынуждены довольствоваться отпускаемой им дозой «информации», привязанной исключительно к объектам или субъектам, вырванным из контекста жизни той или иной социалистической страны. Делается это с тем, чтобы явление отчужденное или отвергнутое, безвозвратно пройденное или чужеродное предстало в облике «типичного».
Метод отчуждения давно взят на вооружение практиками «психологической войны». Во многих западных руководствах по пропаганде, в частности, у американца М. Чоукаса, отмечается, что одно из главных средств в арсенале «психологической войны» – это умение добиться отчуждения индивидуумов и целых групп в лагере противника: отчуждения от общественных и групповых норм и ценностей, отчуждения от привычной социальной среды. Отчуждение, а затем изоляция с целью деморализации.
Но это, заметим, считалось ранее пригодным только для чрезвычайных ситуаций, для войны в буквальном смысле этого слова. Нынешних организаторов «психологической войны» вовсе не заботит вопрос, в каких приемлемых формах идеологическая борьба укладывается в рамки мирного сосуществования. В рамках их одержимости «крестовым походом против социализма» все средства объявляются пригодными, вплоть до отчуждения личности или группы людей в другой стране, культивирования их в роли источника «диссидентской информации», а проще говоря – дезинформации.
Потребитель западной массовой прессы может проверить сам себя. Скажем, что он знает о повседневной жизни миллионов советских людей на необъятных просторах, на потрясающих воображение стройках, на заводах и в научных институтах? Ничего! Это – терра инкогнита. Разве что – если говорить о научных институтах – есть представление о некоем физике Х., который, ничего не достигнув в науке, открылся группе западных корреспондентов в Москве в роли «диссидента» и добился приглашения на лекционное турне по заграницам.
Что знает рядовой человек на Западе о сотнях советских писателей, чьи романы, повести и пьесы раскрывают перед миллионами читателей проблемы жизни, труда, морали и нравственности сегодняшнего дня и дня наступающего? Ничего или почти ничего. Советская литература ста национальностей полностью сокрыта от него занавесом западной «свободной печати». Если бы не было Солженицына, то пришлось бы его придумать.
Таково подлинное положение с обменами, свободой информации. Дезинформация против информации. «Психологическая война» против подлинного обмена гуманитарными ценностями.
Интересы разрядки должны соответствовать правам человека. Но кто дал право западным инспираторам антисоветизма противопоставлять дело разрядки суверенному праву целого народа – 250‑миллионного народа СССР – праву быть хозяином своего настоящего и будущего? Самозванство всегда оказывалось на грани опасной самонадеянности.
Можно с уверенностью предположить, что ответственные политические руководители и общественные деятели стран Западной Европы в своем подавляющем большинстве рассматривают достигнутое в деле разрядки как политический капитал, растерять который было бы немыслимым транжирством с точки зрения интересов отдельных народов и правительств, всей Европы. Разрядка – это большое поле деятельности во имя будущего прочного мира. И тем более немыслимым было бы отдать его на произвол профессиональным проповедникам антикоммунизма, азартным поклонникам «психологической войны». Наступила пора оглянуться окрест себя и проверить: где этот порог между идейным спором и «психологической войной», не переступлен ли он теми, кому этого не следует делать? Разрядка – не поле для идеологических диверсий.
Язык доброй воли, избранный для переговоров представителей 35 государств, должен помочь им прийти к согласию о нормах общежития на нашем континенте, основанных на равновеликом уважении к законам и обычаям каждой страны и выражающих их общую волю к прочному миру и сотрудничеству.
Спартак БЕГЛОВ, политический обозреватель АПН.








