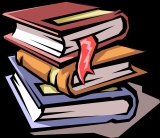
Текст книги "В круге последнем"
Автор книги: Сергей Михалков
Соавторы: Юрий Бондарев,Юрий Рытхэу,Александр Рекемчук,Евгений Долматовский,Иван Васильев,Галина Серебрякова,Борис Скворцов,И. Соловьев,Генрих Боровик,Наталья Решетовская
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
У Адольфа Гитлера
«Благословенны не победы в войнах, а поражения в них. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно». Это – Александр Солженицын. А вот – «Майн кампф»: «В вечной борьбе и страданиях человечество стало великим. И только от вечного мира оно может погибнуть».
В этом же источнике черпают свое вдохновение и противники разрядки международной напряженности.
У Альфреда Розенберга
Идеолог фашизма Альфред Розенберг настойчиво проповедовал положение о том, что русские – это варвары, что их характеризует «склонность к самобичеванию, скотская покорность и безволие». Об этом вы прочтете в его книге «Миф XX века».
В книге Солженицына «Архипелаг Гулаг» вы найдете почти дословно повторенную характеристику о «скотской покорности и безволии». Алекс развивает мысль Альфреда дальше: «Эта война нам открыла, что хуже всего на земле быть русским». «Мы – народ азиатский», – говорит Солженицын, подразумевая, что эпитет «азиатский» имеет оскорбительный смысл: низшая-де раса.
У Пьера Лаваля
Поведение и политические концепции Солженицына удивительно схожи с поведением и взглядами предателя французского народа Пьера Лаваля. Оба во имя «избавления» от существующего в государстве «зла» ратовали за поражение нации. И тот и другой – апологеты деревенской буржуазии, кулаков.
«Крепость – состоятельных крестьян в хозяйстве, – говорил Лаваль, – является крепостью политической. Мы должны их защитить и поддержать, чтобы на них опереться».
И для Солженицына кулаки составляли «суть деревни, ее энергию, ее смекалку и трудолюбие, ее сопротивление и совесть». «К 1930 году, – пишет он, – так звали уже вообще всех крепких крестьян – крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве крепость».
Как и Лаваль, он имеет в виду крепость политическую, и термин этот он позаимствовал у Лаваля.
У Роберта Пейна и Давида Шуба
Измышления Солженицына об Октябрьской социалистической революции, его клевета в адрес В. И. Ленина почти дословно повторяют писания некоторых «советологов». В первую очередь, Роберта Пейна и Давида Шуба. Заголовки глав книги меньшевика Шуба «Ленин» вы в развернутом виде найдете на страницах «Архипелага Гулаг». Вот некоторые из них: «Ленин захватывает власть», «Ленин закрывает рот Учредительному собранию», «Диктатура», «Завещание».
Трактовка Солженицыным Октябрьской революции и различных этапов советской истории почти не отличается от трактовки Шуба.
Солженицын утверждает, что Ленин безоговорочно выступал за террор. Не найдя подтверждения своим вымыслам в работах и выступлениях Ленина, он почерпнул их в книге Роберта Пейна «Жизнь и смерть В. И. Ленина». И использовал их почти дословно.
У него же он взял рассуждения о судьбе старой русской интеллигенции, о марксизме.
Кто автор «Архипелага Гулаг»?
Налицо идейный плагиат. Александр Солженицын не имеет единоличного права называться автором своего «опыта художественного исследования».
Иван ВАСИЛЬЕВ, (АПН)
Он оболгал даже штрафные роты
Я хотел бы сказать несколько слов относительно утверждения Солженицына о том, что битву под Сталинградом выиграли штрафные роты.
В этом, самом жестоком за всю историю сражении, принимали участие миллионы солдат, десятки тысяч орудий, танков, самолетов. Здесь дрались за каждый квадратный метр земли.
На Волге решалась судьба страны, судьба нашей победы. Именно поэтому туда были посланы самые лучшие, самые отборные силы нашей армии. Только люди, вооруженные, помимо военной техники, мужеством и великой любовью к своей Родине, могли выстоять в этом кровопролитном бою и победить.
И еще одно условие было необходимо для этой победы. Вся страна должна была выдержать нечеловеческое напряжение и дать сталинградцам такую военную технику, которая по количеству и качеству превосходила бы оружие врага, и это было сделано.
Солженицын надеется, что ему поверят, потому что рассчитывает на неведение зарубежных читателей.
Солженицын оболгал даже штрафные роты. Он противопоставил их всей остальной армии. Я со всей ответственностью могу сказать, что в подавляющем большинстве в этих ротах сражались советские люди, преданные своей стране. Почему же они оказались в штрафных ротах? Потому что в силу тех или иных причин они нарушили Устав или не выполнили приказ, как это случилось, например, со мной.
Я был командиром дивизионной разведки в одной из дивизий Ленинградского фронта. Передо мной была поставлена задача: взять в плен немецкого офицера и получить крайне важную для нас информацию о войсках противника. По моей вине приказ командования не был выполнен, и меня отправили в штрафную роту.
Это было 32 года назад, но и сегодня я считаю, что был наказан справедливо.
Кого же я встретил в штрафной роте? Главным образом, это были люди, так же, как и я, нарушившие приказ.
Срок службы в таких ротах был очень недолгим. Первый выигранный у немцев бой возвращал штрафникам воинскую честь, и они снова отправлялись к прежнему месту службы.
Неподалеку от Ленинграда, возле Шлиссельбурга, есть деревушка под названием Теткин Ручей. Трижды ходили наши части в атаку на немцев, укрепившихся там. В четвертую атаку послали нашу штрафную роту. Но в атакующую группу, куда отобрали самых сильных и выносливых, я не попал, и мне с несколькими товарищами пришлось упрашивать командира, чтобы и нас послали в бой.
Мы бросились в атаку и выбили немцев. В этом бою я был ранен. Не скрою, все мы хотели вернуть свою честь, но главным чувством была ненависть к врагу и еще мысль о близких, которые верили в нас. Невыносимо было думать, что вражеский сапог мог ступить на священные камни города Ленина.
Войну я закончил капитаном, имею пять правительственных наград. Жена – медик. Она тоже была на фронте. Родился и вырос в Иркутске, и после войны мы вернулись в мой родной сибирский город. Здесь выросли два наших сына. Один из них врач, другой – инженер. Оба получили высшее образование. Живем мы теперь в молодом сибирском городе Братске, работаем на строительстве крупнейшего в мире лесопромышленного комплекса. Часто вспоминаем нашу молодость, прошедшую на войне, моих братьев, погибших на фронте, товарищей и гордимся тем, что лучше свои годы отдали борьбе за свободу Родины.
Абрам РАБИНОВИЧ, Гор. Братск, (АПН)
Возрожденная фальшивка
Последняя книга А. Солженицына «Архипелаг Гулаг» – это, несомненно, самая циничная из всех написанных им ранее. Многое в ней возмущает, особенно кощунственные попытки автора найти смягчающие обстоятельства зверствам нацистов. По Солженицыну, в их отношении к советским военнопленным виноват сам Советский Союз. Что спрашивать с нацистов, рассуждает он, если СССР не присоединился ни к Гаагской конвенции 1907 года, ни к Женевской конвенции о содержании военнопленных 1929 года?
Солженицын не впервые прибегает к подобному приему. И в других своих книгах он, как правило, начинал с какой-то четвертьправды и один за другим нанизывал на нее домыслы.
По словам Солженицына, «СССР не признает русской подписи под Гаагской конвенцией о пленных, значит, не берет никаких обязательств по обращению с пленными и не претендует на защиту своих, попавших в плен… СССР не признает своих вчерашних солдат: нет ему расчета поддерживать их в плену».
Солженицын не мог не знать, что Советский Союз признавал Гаагскую конвенцию и неоднократно заявлял о ее признании.
17 июля 1941 года, например, четыре недели спустя после нападения нацистов на СССР, Народный комиссариат иностранных дел официально напомнил шведскому посольству (Швеция в годы войны представляла интересы СССР в Германии), что Советский Союз поддерживает Гаагскую конвенцию и на основах взаимности готов ее выполнять. 8 августа того же года послы и посланники стран, с которыми СССР имел тогда дипломатические отношения, получили циркулярную ноту Советского правительства. В ней вновь обращалось внимание, на то, что советская сторона признает Гаагскую конвенцию, и вновь выражалась надежда, что и другая сторона будет ее соблюдать.
Однако все было напрасно. Нацисты игнорировали призывы СССР. Бесчеловечное отношение к советским военнопленным с их стороны не прекращалось. 26 ноября 1941 года «Известия» опубликовали ноту Народного комиссариата иностранных дел СССР, врученную накануне всем дипломатическим представительствам. В ней говорилось: «Лагерный режим, установленный для советских военнопленных, является грубейшим и возмутительным нарушением самых элементарных требований, предъявляемых в отношении содержания военнопленных международным правом, и в частности, Гаагской конвенцией 1907 года, признанной как Советским Союзом, так и Германией».
Как же можно после этого ничтоже сумняшеся утверждать, что Родина отвернулась от своих военнопленных?
Знал Солженицын или не знал то, что такая трактовка международного права не является его изобретением, – не суть важно. Любопытно, что он повторяет лишь несколько интерпретированные слова Гитлера, который за три месяца до нападения на СССР заявлял, будто бы отношение к советским военнопленным не должно соответствовать положениям Женевской конвенции о содержании военнопленных 1929 года по той причине, что Советский Союз в ней не участвует.
Что касается Женевской конвенции 1929 года, то СССР действительно не поставил под ней своей подписи. Один из ее пунктов предусматривал размещение военнопленных в лагерях по расовому признаку. Признать конвенцию с таким пунктом означало бы в какой-то степени согласиться с расовой политикой нацистов. Пойти на это Советский Союз не мог. Намеренно извратив причину отказа в признании Женевской конвенции, Гитлер использовал этот факт в своей пропаганде.
Лживость его утверждения становится очевидной, когда знакомишься с изданным в Берлине в 1940 году сборником международно-правовых актов („Deutsches Kriegführungsrecht“, 1940. bearbeitet von Dr. Friedrich Giese und Dr. Eberhard Menzel, Berlin). В разделе «Нормы права, касающиеся военнопленных. Гаагское положение о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года» говорится о том, что предписания статей IV—XX этого положения обязательны сами по себе и без Женевской конвенции 1929 года. Эти статьи приложения к Гаагской конвенции содержат нормы международного права, касающиеся военнопленных и составляющие основу Женевской конвенции 1929 года. В приведенном ниже перечне государств, в отношениях между которыми применяется это положение, наряду с другими названа и Россия. В другом разделе этого же сборника совершенно четко сказано, что действие «Конвенции Красного Креста 1929 года» распространяется на многие государства, в том числе и на Советскую Россию.
И вот в наши дни, спустя многие годы, Солженицын вернулся к фальшивому гитлеровскому тезису. Такой прием только лишний раз показывает цену его «объективности».
Подтверждением того, что этот гитлеровский тезис был фальшивым от начала до конца, служит только что вышедший двухтомник известного советского историка Вячеслава Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма». Почти 130 печатных листов этого капитального труда охватывают период с 1933 по 1945 год. Здесь собрано, систематизировано и обобщено более 400 важнейших директив, приказов, распоряжений и других актов гитлеровского верховного главнокомандования, протокольные записи совещаний в ставке, военные дневники высших инстанции вермахта, отдельных военных и политических руководителей фашистской Германии. Большое место в двухтомнике уделено генеральному плану «Ост», наиболее ярко выразившему принципы нацистской политики геноцида по отношению к славянским народам.
На основании документально обоснованного исследования советского историка видно, что политика фашистов в отношении советских военнопленных являлась прямым продолжением генерального плана «Ост», рассчитанного на то, что в горниле перестройки мира на нацистский лад будут истреблены десятки миллионов славян. И фашисты с железной расчетливостью и твердой последовательностью осуществляли этот план, уничтожая советских военнопленных.
В специальных так называемых дулагах и шталагах советских военнопленных морили голодом, изнуряли тяжелой физической работой, сжигали в печах, ставили над ними беспрецедентные по бесчеловечности медицинские эксперименты, изощренно издевались, стараясь подавить их моральный дух, беспощадно избивали и расстреливали.
В приговоре Нюрнбергского процесса по делу главных немецких военных преступников говорилось: «Обращение с советскими военнопленными характеризовалось особенной бесчеловечностью. Смерть многих из них являлась… результатом систематического плана совершения убийств».
Что же представлял собой генеральный план «Ост»? Подлинный экземпляр этого документа до сего времени не обнаружен. Однако найденные комментарии к нему, замечания, дополнения и предложения важнейших ведомств гитлеровской Германии позволяют судить о сути самого первоисточника. Им предусматривалось онемечить около 50 процентов чешского населения, а оставшуюся часть – «удалить с территории империи». Переселению в Западную Сибирь подлежало более 20 миллионов поляков из 24 миллионов, проживавших в Польше в 1942 году. Вступая на пост генерал-губернатора оккупированной фашистами Польши, Г. Франк заявил: «Отныне политическая роль польского народа закончена. Он объявляется рабочей силой, больше ничем… Мы добьемся того, чтобы стерлось навеки самое понятие Польша». Впрочем, если следовать логике А. Солженицына, может быть, виноваты сами чехи и поляки, не подписавшие в свое время, какой-нибудь конвенции?
А что же другие нации, населяющие Центральную Европу? И они не обойдены «вниманием» нацистов. Вот стенографическая запись одного из сентябрьских (1941 год) высказываний Гитлера: «Всех норвежцев, шведов, датчан, голландцев мы должны отправить в восточные области; они будут служить империи… Что же касается швейцарцев, то их придется использовать лишь в качестве трактирщиков».
Особенно бесчеловечны и жестоки были планы нацистов в отношении народов Советского Союза. В войне против СССР их захватнические планы тесно переплетались с классовыми интересами уничтожения первого социалистического государства. На совещании с генералами 30 марта 1941 года Гитлер говорил, что это будет столкновение двух идеологий, беспощадная война с целью уничтожения большевизма, в которой «жестокость – для блага будущего».
По плану «Ост» сто миллионов арийцев должны были бы стать колонизаторами на землях Польши, Чехословакии, Советского Союза. Что касается местного населения, нацисты изыскивали, говоря словами Гитлера, «методы депопуляции», т. е. «уничтожение целых расовых единиц». В своих замечаниях по плану «Ост» Гиммлер, например, писал, что цель нацистов – «разгромить русских как народ». На совещании высших руководителей СС он подчеркивал, что необходимо уничтожить 30 миллионов славян.
…Война унесла 50 миллионов человеческих жизней, из них на долю советского народа приходится 20 миллионов человек.
И не случайно 26 ноября 1968 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила текст конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.
В наши дни, когда от последних выстрелов и орудийных залпов второй мировой войны нас отделяет почти три десятилетия, когда выросло новое поколение людей, не познавших на себе ее ужасов, презрения заслуживают те западные пропагандисты, которые не без помощи Солженицына ищут «объективные» причины зверств нацистов.
Борис СКВОРЦОВ. (АПН)
Как Солженицын воспел предательство власовцев
Отщепенец, поставивший свое перо на службу самым черным силам империалистической реакции, полностью оторванный от советского народа и его славных дел, – таким уже давно стал А. Солженицын. Этот господин, лишь формально считающийся еще советским гражданином, знает один «литературный прием»: порочить, не скрывая вражды, все советское, революционный дух и труд советских людей.
«Архипелаг Гулаг» – наиболее циничное антисоветское произведение из всего, что написано Солженицыным.
Реакционная буржуазная пропаганда пытается представить новое сочинение А. Солженицына как «книжную бомбу», как наиболее «сенсационное произведение о Советском Союзе». Ему сделана небывалая реклама. Тот, кто заказывает музыку, конечно, знает, что делает. Солженицын не зря вновь выпущен на арену. Не зря курят фимиам Солженицыну ярые антикоммунисты, а старые нацисты и эсэсовцы не скрывают своей радости. Неспроста срывает Солженицын благодарные хлопки изменников и предателей Советской Родины, всех антисоветчиков, антикоммунистов. А предатели Родины особенно признательны ему за то, что он и их не забыл и сочинил в одной из глав, по сути дела, оду предательству и измене.
Можно было бы и не обращать особого внимания на солженицынскую антисоветскую фальшивку, за рубежом их немало уже прошло бесследно, ведь у лжи короткая жизнь, если бы не одно обстоятельство: автор, в расчете на доверчивого читателя, обращаясь к истории, вместо достоверных фактов преподносит ему лжеисторию и на сфальсифицированной основе возводит все свое клеветническое сооружение. А у клеветника, как известно, своя логика – он не мучается над вопросами истины, главное для него – получше угодить тем, кому он служит.
Страницы главы, на которых мы остановимся, показательны не только для освещения Солженицыным темы предательства и измены, но и характерны для всего того, что написано в книге. Здесь особенно выпукло выражено кредо Солженицына. Воспевая Власова, власовцев и других изменников Советской Родины, Солженицын исходит из того, что в борьбе с Советской властью, социализмом все оправдано. Потому-то он и поет славу предателям, выступившим с оружием в руках против своего народа. Солженицына ничуть не смущает тот всем очевидный факт, что в смертельный для Родины час на войну с фашистским нашествием поднялась вся страна, что миллионы советских людей, не щадя жизни, боролись против оккупантов везде – на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и соединениях, в подполье и на занятой врагом земле. Его «герои», его «идеал» – это предатель Власов и власовцы, которых он прославляет за то, что они так ненавидели советские порядки, что пошли против собственного Отечества.
Удар направлен в современность. Реабилитируя власовцев, Солженицын утверждает: оправдано любое предательство, какого бы масштаба оно ни было и кем бы ни было совершено. Так Солженицын пытается оправдать и собственное предательство.
Естественно, Солженицыну нужны «аргументы», подкрепляющие его «видение» истории и современности. Эти «аргументы» расходятся с общепринятым мнением, что Власов – клятвопреступник, что его имя, как и имя главаря норвежских фашистов Квислинга, – синоним подлой измены. По Солженицыну, Власов «давно и глубоко болел за Россию», а что он добровольно сдался в плен и стал служить Гитлеру, то это якобы потому, что он сам и 2‑я ударная армия оказались в безвыходном положении.
Кто же такой А. А. Власов? Приведем факты. Сын зажиточного крестьянина из дер. Ломакино Нижегородской губернии, он намеревался стать священником, для чего поступил в духовную семинарию. Революция разрушила эти планы, Власов, призванный в Красную Армию, после гражданской войны решил стать профессиональным военным. Не выделяясь большими способностями, он медленно восходил по ступенькам военной карьеры. В апреле 1942 года Власов, генерал-лейтенант, назначается на Волховский фронт командующим 2‑й ударной армией. Окружение 2‑й ударной армии и неудачные попытки разорвать вражеское кольцо, как свидетельствуют очевидцы, деморализовали Власова. В этой сложной обстановке в полной мере проявились ранее тщательно скрывавшиеся качества Власова – неустойчивость, трусость, которые и привели его к измене Родине.
Конечная судьба А. А. Власова известна: в 1946 году Власов и его ближайшие приспешники за измену Родине и активную шпионско-диверсионную деятельность в качестве агентов германской разведки против СССР были приговорены к смертной казни.
И в советской, и в иностранной литературе давно и неопровержимо утвердилось мнение о Власове, как приспособленце, шкурнике, карьеристе. Для литературного власовца Солженицына он – «выдающаяся, незаурядная личность».
Солженицын пишет, что ко времени, когда Власов сдался в плен, некоторые другие изменники «уже заявили о своем несогласии с политикой сталинского правительства. Но не хватало настоящей фигуры. Ею стал Власов». Так Солженицын тщится сделать из Власова политического вожака, «идейного» борца с Советской властью. Но такая «политическая оболочка» нужна была гитлеровцам и самому Власову лишь для прикрытия его предательства, какой ни на есть «политической платформой», оправдывающей его прислужничество фашистам. На деле Власов был ординарной марионеткой Гитлера и гитлеровцев, их верноподданным холуем.
Солженицын утверждает, что Власова склонило к переходу на сторону гитлеровцев то, что он со своей армией был брошен советским высшим командованием на произвол судьбы.
Это неправда. Достаточно ознакомиться хотя бы с капитальным трудом «Битва за Ленинград», написанным на основе архивных документов коллективом авторов Военно-исторического отдела Генерального штаба (Воениздат, 1964), или мемуарами Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова, являвшегося тогда командующим войсками Волховского фронта («На службе народу». Политиздат, 1968), чтобы убедиться, насколько лживы и безответственны утверждения А. Солженицына. В этих книгах обстоятельно и объективно изложены обстановка, сложившаяся под Ленинградом весной и летом 1942 г., и причины того тяжелого положения, в котором оказались войска 2‑й ударной армии.
Как только выяснилось, что армия не может продолжать дальнейшее наступление на Любань, Власову было приказано выводить войска из окружения через имевшийся проход. Но Власов медлил, бездействовал, не принял меры по обеспечению флангов, не сумел организовать быстрый и скрытный отвод войск. Это позволило немецко-фашистским войскам перерезать коридор и замкнуть кольцо окружения.
Ставка Верховного Командования немедленно направила в район боевых действий маршала К. А. Мерецкова, назначенного командующим войсками Волховского фронта, и представителя Ставки А. М. Василевского, поручив им во что бы то ни стало вызволить 2‑ю ударную армию из окружения, хотя бы даже без тяжелого оружия и техники. Были приняты все возможные меры, чтобы спасти попавших в окружение. С 10 по 19 июня 1942 г. непрерывно шли яростные бои, в которых, участвовали крупные силы войск, артиллерия, танки 4‑й, 59‑й и 52‑й армий. Удалось пробить узкую брешь в немецком капкане и спасти значительную часть окруженной 2‑й ударной армии. Часть солдат и командиров присоединилась к партизанским отрядам (в том числе начальник связи армии генерал-майор Афанасьев).
И самого Власова не бросали на произвол судьбы. По приказу Ставки его настойчиво искали партизаны. В район, где он мог находиться были сброшены специальные парашютные группы, снабженные радиопередатчиками. Поиски Власова продолжались и после того, как гитлеровцы 16 июля 1942 года сообщили, что они взяли в плен крупного советского командира. 22 июля немцы перехватили радиограмму за подписью А. А. Жданова, направленную командиру партизанского отряда Сазанову: «Отвечайте на вопрос Ставки, что вы знаете о Власове. Жив ли он? Видели ли вы его? Что предприняли вы, чтобы найти его?.. Самолет немедленно прилетит, как только вы его найдете». О нем беспокоились, его искали. Только он больше ни о ком не беспокоился и искал способ, как спасти себя ценой измены.
Как стало известно из сообщений партизан и немецких трофейных документов, Власов 12 июля 1942 года в деревне Пятница спокойно ожидал немецких солдат и при их появлении со словами: «Не стреляйте, я – генерал Власов», перешел на сторону гитлеровцев. В тот же день он был доставлен к командующему 18‑й армией генералу Линдеману. Таковы факты.
Его гитлеровцы не пытали, не били, как это делали с другими. Он сам предложил свои услуги. Он клялся в верности Гитлеру: «Мы считаем своим долгом перед фюрером…», «я им рассказал о своем намерении начать борьбу против большевиков…»
Власов старался побыстрее и получше устроиться на службе у врага, которого он уже видел победителем, так как положение на фронте летом 1942 года было для Советской Армии очень тяжелым. Фашистские войска вновь перешли в наступление. Они овладели Севастополем, двигались к Сталинграду и на Кавказ. И Власов становится навытяжку перед немецкими офицерами в штабе 18‑й армии в Сиверской, подобострастно позирует рядом с генералом Линдеманом во время допроса и дает подробные показания.
Оказавшись позднее в Гатчине и выступая на банкете перед гитлеровскими офицерами, он заверял их, что надеется вскоре «в качестве хозяина принимать немецких офицеров в осажденном Ленинграде». Советские люди, особенно ленинградцы, отмечающие в эти дни 30‑летие со дня прорыва блокады Ленинграда, никогда не забудут черной измены Власова, как не простят они внутреннему эмигранту Солженицыну того, что он распинается перед гитлеровцами, методически обстреливавшими из тяжелых орудий Ленинград.
Почему выбор Солженицына пал именно на Власова, а не на генерала Д. М. Карбышева, например? Ведь он также оказался в немецком плену. Но в отличие от Власова Д. М. Карбышев, профессор Военной академии имени М. В. Фрунзе, с негодованием отверг все предложения гитлеровцев перейти к ним на службу, предпочтя измене мученическую смерть в застенках Маутхаузена. Почему не привлек внимание Солженицына генерал Г. И. Тхор, возглавивший в фашистском плену подпольные патриотические группы и замученный в гестапо? Или генерал М. Ф. Лукин, который с презрением отверг предложения Власова сотрудничать с врагом? Почему не интересуют Солженицына другие советские генералы, погибшие в фашистских, концлагерях, но не ставшие на путь предательства? Почему, скажем, внимание Солженицына не привлек мужественный образ командарма 33‑й армии Западного фронта генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, который почти в то же время, весной 1942 года, с частью войск оказался в окружении под Вязьмой? Будучи тяжело ранен, он до последнего часа руководил боем и, не желая попадать в плен, покончил с собой. Советский народ чтит его как героя и патриота Родины. В Вязьме Михаилу Григорьевичу Ефремову воздвигнут величественный памятник.
Да потому, что именно предатели близки Солженицыну по духу и именно им он выдает индульгенцию: «Но сверх дымящейся каши в призывах вербовщика был призрак свободы и настоящей жизни – куда бы ни звал он! В батальоны Власова. В казачьи полки Краснова. В трудовые батальоны – бетонировать будущий Атлантический вал. В норвежские фиорды. В ливийские пески… Наконец, еще – в деревенских полицаев, гоняться и ловить партизан…
Солженицын представляет власовцев-предателей героями за то, что «бьются они круче всяких эсэсовцев», и приводит эпизоды, свидетельствующие якобы о стойкости изменников. В действительности гитлеровцы боялись посылать на советско-германский фронт подразделения, созданные из советских военнопленных, не полагаясь на их надежность. История войны знает много фактов, когда такие подразделения целиком переходили к партизанам, на сторону Советской Армии.
Но Солженицын пишет не об этом. Все его симпатии на стороне матерых предателей. Он проливает слезы над обреченностью, безысходностью их судьбы.
Солженицын с видом знатока занимается исследованием того, что привело людей во власовские батальоны, в так называемую «РОА» – «Русскую освободительную армию»! «Только последняя крайность, только запредельное отчаяние, только неутолимая ненависть к советскому режиму». Солженицын и тут темнит, желаемое выдает за действительность.
Конечно, среди власовцев были отпетые мерзавцы, добровольно перешедшие на службу к врагу, были и антисоветски настроенные элементы, очень часто с уголовным прошлым, но было немало и просто обманутых нацистской пропагандой, запуганных людей.
Рассуждения Солженицына об антисоветском «монолите» потребовались ему, чтобы убедить легковерного читателя в существовании некоей «оппозиции» Советской власти. В то же время сам Солженицын сетует: «Гитлер и его окружение, уже отовсюду отступая, уже накануне гибели, все не могли преодолеть своего стойкого недоверия к отдельным русским формированиям, решиться на целостные русские дивизии, на тень независимой, неподчиненной им России». Вот вам и «монолит»!
Какую же нужно питать ненависть к собственному народу, чтобы почти через тридцать лет после окончания жесточайшей из войн, выпавших на его долю, жалеть о том, что против СССР, хотя бы в финале, не были брошены полки предателей!
А какой злобный тон появляется у Солженицына, стоит ему заговорить о Советской Армии, о той армии, что защищала завоевания Октября, Советскую власть, что, жертвуя сотнями тысяч своих сынов, освобождала из фашистской неволи свою землю и страны Восточной и Центральной Европы.
Не оставил в покое Солженицын и наших союзников по антигитлеровской коалиции. Фашистский блок он, разумеется, не трогает. Претензий к нему ни за развязывание преступной войны, ни за огромные жертвы, которые понесло человечество, у Солженицына, конечно, нет. Нет претензий у него и к террористической фашистской диктатуре, устроившей кровавую бойню на временно оккупированных территориях. Тут он полностью согласен с нею. А вот союзников стоит упрекнуть в том, что они не попытались спасти, – кого бы вы думали? Конечно, власовское отребье. «Вся надежда их только и была на союзников, – причитает Солженицын, – что они пригодятся союзникам и тогда осветится смыслом их долгое висение в немецкой петле».
Дальше больше. В «разительно-очевидной систематической близорукости и даже глупости» обвиняет Солженицын Рузвельта и Черчилля: «Как могли они, сползая от 41‑го года к 45‑му, не обеспечить никаких гарантий независимости Восточной Европы? Как могли они за смехотворную игрушку четырехзонного Берлина (свою же будущую ахиллесову пяту) отдать обширные области Саксонии и Тюрингии?» И продолжает: «Говорят, что тем они платили за непременное участие Сталина в японской войне. Уже имея в руках атомную бомбу, платили Сталину… Разве не убожество политического расчета?»
Да, убожество Солженицына тут проглядывает со всей очевидностью. Зачем гарантии независимости Восточной Европе? Зачем «платить», когда можно ахнуть атомной бомбой или хотя бы потрясти ею перед этим ненавистным Солженицыну Советским Союзом?








