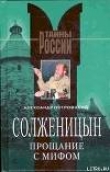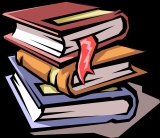
Текст книги "В круге последнем"
Автор книги: Сергей Михалков
Соавторы: Юрий Бондарев,Юрий Рытхэу,Александр Рекемчук,Евгений Долматовский,Иван Васильев,Галина Серебрякова,Борис Скворцов,И. Соловьев,Генрих Боровик,Наталья Решетовская
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Что у него за душа?
Солженицыну не чуждо позерство. Временами он даже внешне старается походить на своего Ивана Денисовича, эдакого русского мужичка-страстотерпца, в образе которого воплощены-де смирение и терпимость…
Повесть «Один день Ивана Денисовича» была опубликована в Советском Союзе, как и некоторые другие произведения Солженицына. Неизвестно (в «Архипелаге Гулаг» об этом не говорится), какое из его произведений прочел бывший школьный товарищ (имя его тоже не названо), с которым они не виделись 22 года. И этот школьный товарищ написал Солженицыну письмо, изложив автору свои впечатления о прочитанном… Замечу, что подобная переписка читателей с писателями, даже не связанных личным знакомством, широко распространена в Советском Союзе и является традицией нашей литературной жизни, причем письма читателей бывают порой далеко не восторженными… Так вот, бывший школьный товарищ посмел отнестись критически к произведению Солженицына:
«Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне… Объективно ты становишься знаменем фашиствующей реакции на Западе, например, в ФРГ и США… Ленин… да и старики Маркс и Энгельс осудили бы тебя самым суровым образом. Подумай об этом!»
Процитировав эти строки в своей книге «Архипелаг Гулаг», Солженицын тут же отвечает своему школьному товарищу и читателю буквально следующее: «Я и думаю, ах, жаль, что тебя тогда не посадили!..».
Такова «терпимость» Солженицына. Таков на самом деле Солженицын, рядящийся под мужичка-страстотерпца.
И об этом, на всякий случай, должен помнить всякий добросовестный читатель «Архипелага Гулаг», если он вдруг обнаружит, что его взгляды не совпадают со взглядами Александра Солженицына.
Александр РЕКЕМЧУК. (АПН).
Не единожды солгавший: Открытое письмо в канадскую газету «Глоуб энд Мэйл»
В последнее время Ваша газета уделяет много места материалам об Александре Солженицыне.
Мне, советскому писателю, также хотелось бы высказать на страницах «Глоуб» свое мнение по поводу этой кампании.
В Канаде, как мне пришлось в этом убедиться, недостаточно хорошо знают русскую литературу, не говоря уже о советской. Вот почему меня удивил особый интерес, проявленный к сочинениям Солженицына, и в частности к его последней книге «Архипелаг Гулаг».
На Западе Солженицына называют гуманистом, поборником справедливости, человеком, якобы вытаскивающим на свет божий темные страницы нашей истории, нелегкой истории строительства Советского государства. Поэтому не лишне упомянуть, что нарушения законности и ленинских норм партийной жизни были вскрыты и искоренены прежде всего усилиями самой Коммунистической партии Советского Союза еще в 1956 году.
Никто и никогда в нашей стране не пытался оправдывать или преуменьшать трудности тех лет. Но страна и народ шли вперед, глядя в будущее.
Мне и ранее доводилось спорить о книгах Солженицына о людьми, мало осведомленными о нашей литературной жизни и знающими ее из публикаций, которые трудно назвать дружественными. Иногда на Западе Солженицына сравнивают с Львом Толстым! Я убедился, что это утверждение основано на собственной позе Солженицына. Становясь в позу великого, он унижает себя как художника, ибо нет ничего более смешного, нежели искусственная поза, которая на самом деле является не чем иным, как саморекламой, попыткой привлечь к себе внимание.
В этой саморекламе Солженицыну, оказывается, не чужд меркантилизм. К полутора миллионам долларов на его счету в швейцарских банках теперь прибавляются гонорары от западных издательств и за «Архипелаг Гулаг». Первой поспешила рассчитаться радиостанция «Свобода»: 4,5 тысячи долларов уже выплачено и 2 тысячи обещаны за передачу текста на языках народов СССР…
Я вспоминаю беседу с моим другом писателем Фарли Моуэтом, поднявшим свой голос в защиту вымирающих эскимосских племен северной Канады. Мы подолгу говорили об этом в становищах оленеводов в низовьях Колымы, в Магадане, в новом северном городе Черском, в Москве, в Ленинграде, а потом на родине самого Моуэта – в его доме на берегу Онтарио в Порт-Хоупе. Наши беседы становились общими, когда мы гостили в доме известного писателя и телекомментатора Пьера Бертона, у других моих друзей-канадцев – адвокатов, литераторов, научных работников, предпринимателей. Неужели и им внушили мысль о Солженицыне как о «борце за справедливость», который будто бы из-за этого рискует свободой, а может быть, даже жизнью?
Что касается советского человека, то его трудно провести фальшивым возвеличиванием личности Солженицына. Даже если его стараются «насаждать» с помощью радиостанции «Свобода». Правда, он получил Нобелевскую премию (но за литературу ли?). Однако его захваливают так, словно до него среди русских и советских писателей не было Нобелевских лауреатов. Почему замалчиваются имена других писателей, удостоенных этой премии, – Ивана Бунина и Михаила Шолохова?
Меня, как писателя-чукчу, наряду с другими кривотолками, которыми изобилует книга Солженицына, особенно возмущает его клевета на национальную политику Советского государства. Разве можно обходить молчанием тот факт, что именно Советская власть освободила от угнетения народы бывших окраин царской России? Что касается народностей Севера, то Советская власть спасла их от вымирания, дала им возможность приобщиться к мировой культуре. И позвольте мне, сыну одного из малочисленных северных народов, сказать, что в этом вопросе я – лучший судья, чем Солженицын.
Есть пословица: «Единожды солгавший, кто тебе поверит в другой раз?». Было бы полезно применить эту пословицу к сочинениям Солженицына.
Искренне
Юрий РЫТХЭУ. (АПН).
Враг мира
Я прочитал «Архипелаг Гулаг». Как можно не возмущаться? Автор восхваляет партию эсеров. Советские люди не забыли, что именно эсеры стреляли в Ленина. Солженицын умильно выражает сочувствие врагам нашего народа басмачам, выжигавшим целые кишлаки в Средней Азии, бандеровцам, палачествовавшим на Украине. Перечисление всех, кого пытается рядить в герои Солженицын и кого он берет под свою защиту, заняло бы слишком много места.
Особенно ненавистно для нас, когда Солженицын пытается обелить предателей, которые боролись против своей Родины в рядах фашистов.
Солженицын предпослал книге «Архипелаг Гулаг» несколько вступлений. В одном из них он утверждает, что все в его книге чистейшая правда.
Что ж, поверим автору, когда он говорит о себе. Вот он описывает свою учебу в офицерском училище в 1942 году: «Больше всего боялись не дослужиться до кубиков (слали недоучившихся под Сталинград)».
Солженицын получил офицерские «кубики» и под Сталинград не попал. Но как могу воспринять эти строки, например, я, получивший ранение под Сталинградом? В этом – бесстыдное признание в самом низком дезертирстве.
На других страницах с откровенностью, вызывающей озноб. Солженицын раздумывает вслух: «Попади я в училище НКВД при Ежове – может быть, у Берия я вырос бы как раз на месте». А несколькими страницами раньше он говорит: «Повернись моя жизнь иначе – палачом таким не стал бы и я?».
Солженицын пишет черным по белому: «Слава Богу, избежал я кого-нибудь посадить. А близко было».
Своим замечанием на 144 странице автор разоблачает сам себя:
«Еще один школьный друг едва не сел из-за меня. Какое облегчение мне было узнать, что он остался на свободе. Но вот через 22 года он мне пишет: „Из твоих опубликованных сочинений следует, что ты оцениваешь жизнь односторонне… объективно ты становишься знаменем реакции на Западе…“»
Прочитав откровенное письмо школьного друга, Солженицын восклицает: «Ах, жаль, что тебя тогда не посадили!».
Вот каков он, «поборник доброты»! Пожалев, что товарища не посадили, он пишет: «Мы должны осудить публично саму ИДЕЮ расправы одних людей над другими».
Заявив во всеуслышание, что написал только правду, он собрал в своей книге огромное количество историй, за достоверность которых он отказывается отвечать, однако использует их и с нескрываемым удовольствием пугает читателей.
Вот некоторые примеры «художественного исследования» Солженицына:
«…Орджоникидзе, рассказывают, разговаривал со старыми инженерами так: клал на письменный стол по пистолету справа и слева».
«…Слух этот глух, но меня достиг, а я передал его…»
«…Увиделась тень трубки…» (пусть читатель решает, был ли это Сталин или кто-то другой).
А вот какой хитрый ход для одурачивания читателей: приведя на странице 505 пример восстановления социалистической законности, Солженицын тут же подбрасывает читателю сомнение: «впрочем, это проверить нельзя».
«…Прошел слух в 18—20 годах, будто…» – далее следуют описания пресловутых «зверств» большевиков.
Солженицын восклицает: «Я не знаю, правда это или навет» – и дальше переводит свое повествование в анекдот.
Все тщательно рассчитано в этой книге: надо запустить слух, мазнуть грязью, напугать. А потом – мельчайшим шрифтом можно и сообщить, что эти слухи не проверены.
Солженицын вещает нам, что собрал материалы о нарушениях законности, о жестоких несправедливостях. Однако он умалчивает главное: обо всех несправедливостях и трагических событиях открыто и честно сказал народу и всему миру Центральный Комитет Компартии советского Союза.
Эта откровенность потрясала. Наше общество сильно пролихорадило. Но не боль, а враждебность водит рукой Нобелевского лауреата. Заявив в предисловии, что «все было именно так», он наворачивает всякое и превращает народную трагедию в серию анекдотов, которыми тщится потешить публику, к тому же – подкинуть «материальчик» для недругов социализма, напугать тех, кто мало знает с нашей стране, но тянется к ней.
Солженицын обильно использует писания сотрудника геббельсовской пропаганды, бывшего русского Иванова-Разумника. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты.
Зачем Солженицын лезет в политику? Находясь в услужении у самых реакционных сил современности, он сеет раздор между людьми, сталкивает те лагери, которые, особенно в последнее время, так стремятся найти общий язык. Он задним числом корит, например, Черчилля и Рузвельта за то, что советскому командованию в Австрии был выдан союзниками казачий корпус генерала Краснова, и недвусмысленно утверждает, что эти войска можно было потом использовать против СССР.
Его фантазия безгранична. Он заявляет, будто власовцы… вышибли немцев из Праги.
Я вспоминаю события мая 1945 года. Уже после Победы, после взятия Берлина советские солдаты двинулись на помощь восставшей Праге. Тысячи советских солдат, которые прошли всю войну, пали в кровопролитных сражениях за Прагу.
Но Солженицын утверждает: «У нас история искажена, и говорят, что Прагу спасли советские войска» (стр. 264).
Драмы и трагедии века – лишь повод для фальсификации и клеветы. Советских людей, угнанных фашистами на каторгу, он именует «беженцами от советской власти»…
Ну ладно! Почти каждая страница книги содержит свидетельства ненависти к советскому строю, к СССР. Так что стоит ли дальше цитировать?
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ. (АПН).
«Инсайдер становится аутсайдером»
Советскому человеку, приехавшему в США, американцы часто задают вопрос – что для него явилось неожиданным в их стране, о чем советский человек не знал, читая про Америку у себя в газетах и журналах.
После нескольких лет проведенных в США в качестве корреспондента АПН, я могу с полной уверенностью сказать: больше всего меня поразило, насколько американцы – читающие американцы – в массе своей фантастически мало информированы о жизни в Советском Союзе.
В 1967 году в институте Гэллапа мне показали результаты исследования, проведенного среди студентов американских колледжей на тему «Что они знают о Советском Союзе».
16 процентов студентов не знали, на чьей стороне воевала Россия во вторую мировую войну, почти десятая часть всех студентов считала, что Советский Союз воевал на стороне Германии против Соединенных Штатов.
И еще несколько примеров, которые горьки мне и как писателю: 70 процентов американских студентов не могли назвать имени ни одного современного советского писателя.
87 процентов студентов не видели ни одного фильма, сделанного в СССР (включая учебные, видовые – какие угодно).
Ни один американский студент не видел и не читал ни одной пьесы современного советского драматурга.
Что это – отсутствие интереса? Нет, тот же опрос Гэллапа установил, что «громадный интерес» и просто «интерес» к жизни Советского Союза проявляют 89 процентов американского студенчества («громадный интерес» – 35%; просто «интерес» – 54%).
Значит, виновато не отсутствие интереса, виновата, мягко говоря, «направленность» информации с Советском Союзе в США.
Я привел примеры, касающиеся литературы, не только потому, что я писатель. Я считаю, что нельзя понять дух страны, жизни народа, не зная его литературы и искусства. Кстати говоря, в США нет ни одного значительного современного писателя, наиболее серьезные произведения которого не были бы переведены и напечатаны в Советском Союзе – либо в литературных журналах, либо отдельными изданиями. Вдова Эрнеста Хемингуэя – Мэри Хемингуэй, посетив нашу страну, поражалась – как много советских людей знают и любят творчество (не имя, не экстравагантность биографии, а именно творчество) ее покойного мужа, одного из лучших американских писателей. А Стейнбек, Фолкнер, а Сэлинджер, а Воннегут, а Капоте, Апдайк, Чивер! Даже – Хейли с его «Отелем» и «Аэропортом»! Все эти писатели и многие другие, разнообразные по почерку, тематике, мировоззрению, политическим симпатиям и антипатиям, – переведены, напечатаны большими тиражами, широко читаются.
Не знаю, проводил ли институт Гэллапа новое исследование после 1967 года, но на собственном опыте знаю (я провел в США семь лет – 1966—1972 годы), измениться могло только одно: с легкостью называют одно имя – Солженицына, несмотря на его труднопроизносимость для людей англоговорящих.
Задавать вопрос «почему?» – это значит заниматься наивной риторикой. Ясно почему. Потому что Солженицын – против социализма, против советского строя и потому что он антисоветчик-«инсайдер» – редкое явление, в отличие от антисоветчика-«аутсайдера», которых на Западе пруд пруди.
Об одном антисоветчике-«аутсайдере» я хочу вам напомнить. Речь пойдет о Валерии Тарсисе. Читатель, конечно, не держит в памяти этого имени. А ведь всего о десяток лет назад оно звенело на страницах буржуазной западной печати. Книги Тарсиса, среднего литератора, мало известного в Советском Союзе, впрочем, вполне благополучно существовавшего, издавались на Западе большими тиражами и, главное, шумно рекламировались. Причина? Очень простая.
В один прекрасный день Валерий Тарсис понял, что недостающую его сердцу славу можно завоевать антисоветчиной. И он стал ее писать. И переправлять за границу. И немедленно его имя, дотоле совсем неизвестное за рубежами его родины, замелькало на страницах западной буржуазной печати с подобающими в таких случаях эпитетами – «талантливый», «правдивый», «мужественный», и метафорами – «совесть русской литературы», «борец за правду» и т. д., и т. п.
И Тарсис поверил в эпитеты и метафоры. Понял их, что называется, буквально. И уехал на Запад.
Его встречали с помпой. Ему устраивали пресс-конференции, его приглашали читать лекции, его портреты помещали в газетах. Никогда ничего подобного не было у бедняги Тарсиса в Советском Союзе.
Я был в Нью-Йорке, когда в 1966 году туда прилетела «совесть русской литературы». Встречать ее на аэродроме послали своих корреспондентов все крупные газеты, телеграфные агентства и телевидение.
«Нью-Йорк таймс» сообщила, что в США прибыл человек, «возглавлявший в России широкое подпольное антисоветское движение интеллектуалов».
Через несколько дней я и корреспондент «Известий» решили посетить Тарсиса и взять у него интервью.
Чтобы не нарваться на отказ, мы не стали звонить, решили просто прийти и постучать в его номер в гостинице «Бельмонт Плаза». Сейчас я не буду описывать всю, довольно длинную беседу, которую, с разрешения Тарсиса, я записал тогда на магнитофонную пленку. Приведу только отрывок.
– Кого вы считаете в Советском Союзе большими писателями?
– Там нет больших писателей. Там вообще нет настоящих писателей. Писатель – это тот, кто говорит правду о своей стране. Единственный человек, который говорит там правду, был я. Сейчас я уехал.
– Ну а, скажем, Солженицын? – спросили мы, исходя из духовной и идейной близости обоих.
– Солженицын вылез на лагерной теме. Она иссякает, иссякает и он.
– А вы, вы не боитесь, что, когда иссякнет напряженность политического скандала вокруг вашего имени, о вас перестанут писать на Западе и, может быть, даже перестанут вас издавать?
– Никогда! – решительно отверг наше предположение Тарсис. – Меня здесь ценят за талант. Когда схлынет политический скандал, я буду сидеть в тихом писательском кабинете, и писать, наконец, то, что я хочу. И тогда ко мне придет еще большая, настоящая литературная слава.
Имя Тарсиса исчезло со страниц буржуазной печати через два-три месяца после описанной беседы. С тех пор прошло уже семь лет. За это время он, по слухам, написал около пятнадцати различных произведений. Среди них – и романы, и повести, и стихотворения. Только никто их не читает. Никто не рекламирует. О нем никто не помнит. Не потому, что он перестал быть в своих произведениях антисоветчиком. Просто из антисоветчика-«инсайдера», он стал «аутсайдером», живущим на Западе. А там таких девать не куда, живут между собой, как пауки в банке, в борьбе за кусок антисоветского пирога.
В минуту откровения с кем-то из новых друзей, кому, как он полагает, можно верить, Тарсис, говорят, пожаловался.
– Не рассчитал. Не надо было выезжать. Нобелевскую получил бы раньше Солженицына…
Сейчас метафоры типа «совесть русской литературы», как мошкара керосиновую лампу, залепили в западной прессе имя Солженицына. Пройдет время, и его забудут, как забыли «единственного настоящего русского писателя» месье Тарсиса. Но по-прежнему американцы, которые интересуются действительной жизнью Советского Союза, остаются в том же незавидном положении, что и семь лет назад. Потому что те, от кого это, к сожалению, зависит, мечтают, чтобы правдивое слово о советской действительности не достигло сознания людей на Западе, не удержалось в нем. Мечтают, чтобы не у десятой части, а у гораздо большего числа молодых людей США утвердилось ощущение, будто США и Советский Союз во второй мировой войне воевали друг против друга, а не вместе – против гитлеровского фашизма.
Для этой цели Солженицын весьма подходит.
Вот почему, когда московский корреспондент одной влиятельной американской газеты, постоянно рекламирующей свою объективность, в ответ на мой вопрос – сколько раз в неделю он передает в свою редакцию сообщения о жизни Советского Союза – в шутку ответил: «Это зависит от Солженицына», мне показалось, что доля правды в этой шутке значительно больше, чем в обычной.
Генрих БОРОВИК. (АПН).
Банкротство
Передо мной «Архипелаг Гулаг», книга Солженицына, начинающая повествование с 1918 года.
История – неоглядное дерево, питающееся от корней и кроны. Нельзя понять и оценить сегодняшний день, не заглянув во вчерашний. Советская Россия в 20‑х годах, в массе своей почти неграмотная, изнуренная царским порабощением и войной, теперь – могучая держава.
Но, увы, ничто так не слепит и не лишает объективности, как озлобленность. А. Солженицын пишет, что «еще и до всякой гражданской войны увиделось, что Россия в таком составе населения как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена» (стр. 39). Печально читать такие характеристики, как «гнилосоломенная рязанская Русь» (стр. 547).
Ошеломляет отношение А. Солженицына к человеку, чей уникальный гений, подвиг и гуманность признаны людьми всей планеты. Историки США, ФРГ, Японии и других государств, уважая истину и законы научного исследования, отдают дань величию ума творца нового государства и правопорядка В. И. Ленина.
Вспоминаю слова Б. Шоу, произнесенные им в моем присутствии в Лондоне. Он говорил: Я бесконечно жалею, что не знавал лично Ленина, народ, имевший Толстого и Ленина, не может быть посредственным. С высокой почтительностью и восхищением относились к В. И. Ленину писатели Ромен Роллан, Анатоль Франс, Герберт Уэллс, Блок, Маяковский – его современники, а также знаменитые физики, ученые.
Криводушие и предубежденность приводят к фальсификации. А. Солженицын сообщает: «Сохранился рассказ, что в Смольном, в самую ночь с 25 по 26 октября, возникла дискуссия: не отменить ли навечно смертную казнь? И Ленин… высмеял утопизм своих товарищей, он-то знал, что без смертной казни нисколько не продвинуться в сторону нового общества» (стр. 435).
О каком рассказе, не самим ли Солженицыным придуманном, идет речь? Ровно через два дня после октябрьского восстания, 28 октября 1917 года, смертная казнь была отменена большевиками.
Пройдя по следам многих былых революций: древних, английской, великой французской 1789 года, Парижской Коммуны, – я старалась познать чувства поднявшегося на борьбу народа. Революция – это вопль отчаяния, прорыв долготерпения. Победа несет восставшим ощущение пьянящей радости. Счастливые преисполнены гуманности и добра. Так было и в октябре 1917 года в России.
Я перелистываю архивные документы (фонд 143, опись 1, дело 66). В них отчет о процессах революционного трибунала в Северной области со дня основания по 1 июня 1918 года. Вот несколько документов, взятых наудачу: «Макаров И. обвиняется в призыве к неподчинению рабоче-крестьянскому правительству. Дело разобрано 1 марта 1918 года. Приговор: объявить общественное порицание и присудить к общественным работам в течение недельного срока». «Григорьев В. – по обвинению в непочтительном отзыве о рабоче-крестьянском правительстве. Рассмотрено дело 17 апреля 1918 года. Считать по суду оправданным». И таких свидетельств эпохи великое множество.
Все первое полугодие 1918 года большевики, несмотря на коварство левых эсеров, также участвовавших в правительстве, и провоцирование напряженности с продовольственным снабжением, проявляли мягкость в приговорах военных трибуналов. Они ограничивались часто штрафами, порицанием и недолгими общественными работами. А враждебные свергнутые группировки готовились к смертельной схватке. Преступления следовали одно за другим: в июне был убит В. Володарский. Начался и потерпел полное поражение левоэсеровский предательский мятеж. Террор, развернутый эсерами и другими недругами революции, провокационное убийство ими немецкого посла Мирбаха усложняли международное положение молодого Советского государства.
30 августа 1918 года в самое сердце партии вонзилась пуля – тяжко ранили Ленина. В тот же проклятый день вероломно убили М. Урицкого.
В ответ на белый террор большевикам не оставалось иного средства, как грудью и огнем защитить революцию и своих борцов и объявить о суровых карах. Но уже в первую годовщину Октябрьской революции была объявлена широкая амнистия. В состав Северного ЧК, например, ввели одну из интереснейших, блестяще-образованных и безупречных большевичек – Е. Д. Стасову. Как и ее дядя, выдающийся критик-искусствовед В. Стасов, Елена Дмитриевна была отличной пианисткой, лингвистом, социологом. Я хорошо знала эту многогранную большевичку, сохранившую и в 90 лет ясность ума, чувство справедливости и доброты. В своих воспоминаниях о работе в ЧК она пишет: «Раз в неделю я сутки дежурила в Чрезвычайной Комиссии как член Президиума. Обязанности мои в основном заключались в проверке списков арестованных и в освобождении тех, кто случайно попал в эти списки».
В «Архипелаге Гулаг» А. Солженицын спрашивает меня, лакала ли я тюремную похлебку из банного таза вдесятером. «И в толкучке над банным тазом вы бы думали только о родной партии?» (стр. 135).
Да, я прошла несравнимо более тяжкий путь заключения, чем Солженицын. Из 20 лет более 7 была в тюрьме, из них 3 года, кстати, в том самом Владимирском ТОН’е, о котором пытается весьма неправдоподобно писать Солженицын. Это и дает мне право опровергать Солженицына, возводящего ложь. Реабилитирована также я была значительно позже Солженицына, в конце 1956 года.
Возвращаясь к «Архипелагу Гулаг», я не могу не возмущаться тем, что автор хулит советских людей, весь народ и самое высокое в душе человеческой – Идею. Солженицын не скрывает своей ужасающей концепции. На странице 247 читаем: «Благословенны не победы в войнах, а поражения в них. Победы нужны правительствам, поражения нужны народу. После побед хочется еще побед, после поражения – хочется свободы – и обычно добиваются».
Чудовищное признание. Я содрогаюсь, вспоминая лес фашистских виселиц, Освенцим, Бухенвальд, Бабий Яр, белорусские стертые с поверхности земли села и всюду могилы и кровь, стенания и казни…
Солженицын сбрасывает одну за другой маски. Холодеет сердце, когда читаешь его исполненные бездушного цинизма обращения к американцам и европейцам, отказавшимся спасти власовских изменников. «В своих странах, – объявляет Солженицын на стр. 265, – Рузвельт и Черчилль почитаются как эталоны государственной мудрости. Нам же в русских тюремных рассуждениях выступала разительно – очевидно их систематическая близорукость, и даже глупость»…
Книга «Архипелаг Гулаг», написанная плохим языком, в напыщенно-вычурном стиле, – это кредо человека с малюсеньким историческим кругозором, ошалевшего от честолюбивых завихрений и бессильной ярости.
Галина СЕРЕБРЯКОВА. (АПН).