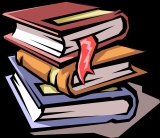
Текст книги "В круге последнем"
Автор книги: Сергей Михалков
Соавторы: Юрий Бондарев,Юрий Рытхэу,Александр Рекемчук,Евгений Долматовский,Иван Васильев,Галина Серебрякова,Борис Скворцов,И. Соловьев,Генрих Боровик,Наталья Решетовская
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Ползком на чужой берег
Книга Солженицына «Архипелаг Гулаг», хотя и названа им в подзаголовке «опытом художественного исследования», на самом деле является продуманным и хитросплетенным конгломератом. В нем давно-давно известные факты показываются в кривом зеркале, где изображение (точнее – воображение!) вытягивается до уродливых размеров. Даются сноски. В них смешиваются: выписки из архивных документов, цитаты из книжиц наших недругов, осевших за границей, бредовые размышления «опытника» и откровенные сплетни политических торговок. Все это соединяется в одно антигуманистическое, антисоветское месиво.
Есть в нем строки, обращенные прямо и ко мне, испытавшему пять лет неволи и написавшему затем «Повесть о пережитом». Солженицын, как бы вызывая меня на диалог, спрашивает: хлебал ли я лагерную баланду вдесятером из банного таза, да еще вперегонки? И в толкучке над тазом, ехидствует Солженицын, думали я только о родной партии?
Да, хлебал баланду. Но не вдесятером, и не вперегонки, и не из банной шайки, а из отдельной миски и своей ложкой. Да, думал и о партии. Ждал, что партия меня вызволит, что правда восторжествует. Моя надежда, моя вера осуществились.
Я не собираюсь полемизировать с Солженицыным. На XX и XXII съездах КПСС партия сурово осудила нарушения законности, раз и навсегда восстановила ленинские нормы, ленинские принципы партийной жизни.
Стало быть, здесь предмета для полемики нет. Спорить о сплетнях? О бреде? О манипуляциях с фактами? Об этом не спорят. В этом уличают. Что я и позволю себе сделать, хотя бы на нескольких примерах, взятых из «опытного исследования».
Вы, Солженицын, не краснея, а зеленея, убеждаете читателя, что в нашей стране, с первых дней революции и затем во все последующие годы, будто бы царили беззаконие, произвол, анархия. Хватали, мол, за руку чуть не каждого, кто попадал на глаза, устраивали Шемякины суды (вы в этом месте не удержались и в скобках похулиганили, стали рычать и лаять: «Б‑р‑р… гав-гав!». Ничего себе, интерпретация «художественного исследования»!). И не только, убеждаете вы, были бесправные суды, но поголовные расстрелы интеллигенции, служащих, военных, рабочих, деревенских мужиков – кого попало и всех ни за что!.. Если, по-вашему, бородатые звери-большевики, с ножами в зубах и за поясом, истребили бесчисленное множество людей, то позволено будет спросить: а кто же тогда разбил белогвардейцев и интервентов, выбросил их вон из молодой Республики Советов, вытащил страну из разрухи, восстанавливал промышленность, сельское хозяйство, ликвидировал неграмотность, поднимал экономику, культуру, кто, наконец, победил в Великой Отечественной войне вооруженных до зубов фашистов?
До чего же вы залгались, Солженицын.
Вы глумитесь над памятью людей, дорогих нашему народу и всему передовому человечеству, Ленин в ваших «исследованиях» – ненавистник интеллигенции, руководит насильственными методами. Дзержинский – сеет в людях страх, недоверие друг к другу, обвиняет в контрреволюции и арестовывает кого хочет. Орджоникидзе (вы тут оговариваетесь, передавая сплетню: мол, «рассказывают»!), разговаривая со старыми инженерами, якобы клал на письменный стол по пистолету справа и слева. Горький (по «мнению» вашего однокамерника, какого-то Юрия Е., а вы это «мнение» распространяете) – не кто иной, как ничтожная скучнейшая личность, придумал сам себя и придумал себе героев. И книги у него все выдуманы насквозь…
Как только у вас, Солженицын, поднялась рука царапать кощунственные строки о таких людях?!
По вашим расчетам, в Советском Союзе необходимо отдать немедленно под суд четверть миллиона человек, «виновных» в вашем аресте. Откуда взята цифра? Вы ее произвели с удивительным цинизмом от 86.000 нацистов, осужденных в ФРГ к 1966 году, и, выходит, требуете за каждого эсэсовца троих советских людей. Вам мало двадцати миллионов, погибших на войне, развязанной фашистами? А ведь восторгающую вас «статистику» в 86.000, если и можно с чем сопоставить, так с 20 миллионами убитых советских людей, как и с 6 миллионами погибших в фашистских лагерях евреев, как с тысячами сожженных советских городов и деревень, как с цифрами жертв в чехословацком городе Лидице, во французском городе Орадур-сюр-Глан… Вот что стоит в подлинном счете народов к фашизму против цифры 86.000. Этот счет был предъявлен на Нюрнбергском процессе, где фашизм судили не судьи ФРГ, а судили народы, понесшие немало жертв в битве с фашизмом, и в том числе советский народ, больше всех заплативший кровью за свою победу. И эту дорогую для нас победу и этот правый суд народов вы хотели бы обернуть для нас поражением?!
Вы пишете, что вас пугали Сухановской тюрьмой, как самой страшной, «ее имя выговаривают следователи со зловещим шипением». Вас в нее не сажали. «А кто там был – потом не допросишься: или бессвязный бред несут или нет их в жизни». Однако, не допросившись, вы все же обрисовали сухановскую камеру. А я в ней, к вашему сведению, сидел, и довольно-таки долго. О своем пребывании в Сухановке я подробно написал в «Повести о пережитом». Понимаю: она вас не устраивает, раздражает. Вот если бы она была с антисоветской подкладочкой – другое дело: вы, конечно, возрадовались бы!
В вашем «исследовании» слышится тяжкий вздох: разве напечатают в СССР произведения, связанные с незаконными репрессиями в прошлом?.. Неправильно информированные и антисоветски настроенные пресса и радио капиталистических стран подхватывают ваше воздыхание и разносят его по земле и в эфире. Вы же, Солженицын, отлично знаете, что издана моя книга, в журналах и газетах публиковались на эту тему «запретную» рассказы и повести. Забыли?.. Не думается. Память у вас не короткая. Просто не хотите говорить о том, что, так сказать, не работает на вас!
Однажды, сидя в зале Верховного Суда СССР, где на творческой встрече коллектива Суда с вами обсуждали «Один день Ивана Денисовича», вы философствовали: «Если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба – что же будет в нашей стране, когда Правда обрушится водопадом?».
Произошло иное. Наша Правда, а не ваша ложь, потекла широкой рекой. Она вас затопляет, вы в ней барахтаетесь, ползете на чужой берег, проклиная всех и вся, в том числе и нашу Победу в Отечественной войне, и вопиете истошно: «Это война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским».
Ну знаете, это уже вопль безумца!.. Впрочем, чему же тут удивляться? Вы сами пишете, что после ареста – «затмение ума и упадок духа сопутствовали мне в первые недели». Вам только так кажется. Вы себя успокаиваете. Болезнь у вас, Солженицын, затянулась, переросла в хроническую, неизлечимую, и по сей день дает себя знать.
В общем, как говорится, опыт не удался. Факир был разъярен: замахнулся шпагой на социалистическую державу, а проколол самого себя.
Известно, что ложь прежде всего приносит позор самому лжецу. А Виссарион Григорьевич Белинский еще и утверждал, как великую истину, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант.
Как же прозорлив был великий русский критик! Не правда ли?
Борис ДЬЯКОВ. (АПН).
Точка зрения русских
«Архипелаг Гулаг» Солженицына – не повесть, не роман, следовательно, не раскрытие правды через художественную истину, если говорить о литературных средствах выражения.
Значительное место в книге занимает вторая мировая война. Совершенно ясно, что, говоря об этом периоде, никто не имеет права выпускать из сознания 56 миллионов погибших в Европе и Азии, среди них – 20 миллионов советских людей и 6 миллионов евреев, сожженных в крематориях концлагерей нацистами. Эти невиданные жертвы мировой трагедии должны быть как бы камертоном нравственности. История войны немыслима без факта. Факт вне истории мертв. В этом случае он напоминает даже не любительскую фотографию, а тень фотографии, не мгновение правды, а тень мгновения. Вот именно эта зловещая и размытая тень то и дело возникает на страницах книги Солженицына, едва лишь он по ходе дела обращается к событиям второй мировой войны.
Сражение под Сталинградом, где мое поколение восемнадцатилетних получило первое крещение огнем, где в кровопролитных боях мы повзрослели и постарели на 10 лет, было, как известно, окончательным переломом военных событий второй мировой войны. Тяжелейшее это сражение стоило дорого и нашей стране, и моим сверстникам, и мне. Слишком много братских могил оставили мы вблизи Волги, слишком многих мы не досчитались после победы. На высотках Дона в пыльные и знойные дни июля и августа, когда солнце пропадало в смерчах разрывов, нас держала в траншеях и ненависть и любовь. Ненависть к тем, кто пришел с оружием из фашистской Германии, чтобы уничтожить наше государство и нашу нацию, и вместе с тем наша любовь к тому, что называется на человеческом языке матерью, домом, школьным московским катком, исполосованным лезвиями коньков, скрипом калитки где-нибудь в Ярославле, зеленой травой, падающим снегом, первым поцелуем возле заваленного сугробами крыльца. На войне самые неистребимые чувства человек испытывает к прошлому. А мы воевали в настоящем за прошлое, которое казалось неповторимо счастливым. Мы мечтали, мы хотели вернуться в него. Мы были романтичны – и в этом была чистота и вера, что можно определить как ощущение родины.
Под Сталинградом, в Сталинграде и в районе Сталинграда, что известно мне не только по одним документам, главным образом, воевали молодые 1922, 1923, 1924 года рождения, десятки тысяч людей. И это они отстояли Сталинград, и это они сковали в обороне города немцев и перешли в наступление.
Именно они были «цементом фундамента» Сталинградской победы, а не штрафные роты, как пишет об этом Солженицын. Последняя перепись населения Советского Союза выявила цифру: от этих поколений осталось 3%. Да, многие и многие пали тогда на берегах Волги. Поэтому, думая о своих сверстниках, погибших в битве под Сталинградом, я не могу не оказать: Солженицын допускает злую и тенденциозную неточность, которая оскорбляет память о жертвах названных мною поколений.
Если еще далее уточнять, то приказ №227 «Ни шагу назад!» был прочитан нам в августе месяце 1942 года после оставления советскими войсками Ростова и Новочеркасска. Все мы знали его решительность, его суровость, но в то же время, как это ни покажется кому-нибудь парадоксальным, испытывали одинаковое чувство: да, хватит отступать, хватит!
Кроме того, приказ «Ни шагу назад!», а в нем впервые было сказано об образовании штрафных рот, родился на свет и дошел до армии в августе месяце. В это время немцы уже были на ближних подступах к Сталинграду, на расстоянии одного-двух танковых переходов. Могли ли они, штрафные роты, сдержать натиск танковой армии немцев, сосредоточивших, кроме того, до 20 пехотных дивизий на ударных направлениях? Должен сказать, что штрафные роты, оснащенные легким оружием, вообще не в силах сдержать какое-либо более или менее серьезное наступление – сдерживали армии, дивизии, полки.
Для меня, прошедшего через сталинградское сражение, дико и недобросовестно выглядит подобное отношение к одной из героических и крупнейших битв, решившей не только судьбу России, но и других народов. Что это – намеренное искажение истины?
Теперь несколько замечаний по поводу небезызвестного Власова. Читая и вспоминая о нем, я снова задал себе очередной вопрос, почему Солженицын с явным сочувствием пишет о выплывшем на пене войны генерале, обретшем мрачную геростратову славу, причем наделяет его чертами «выдающегося», «настоящего» человека, антисталинца, защитника русского народа.
По всей обнаженной сути вторая мировая война была сурова и жестока и половинчатого измерения в смертельной борьбе не было. В непримиримом столкновении враждующих сторон все измерялось категориями «да» и «нет», «или-или», «быть или не быть». Это относилось и к судьбе Советского государства, к судьбе России и к судьбе каждого человека в отдельности. Подобно бедствию и горю, война нравственно объединяет людей, готовых защищать, отстаивать свой уклад жизни, своих детей, свой дом, но война объединяет людей и безнравственно, если эти люди вторгаются на чужую землю с целью порабощения и захвата ее. Стало быть – сталкиваются нравственность и безнравственность, не говоря уже о политической стороне дела.
Измена, двоедушие или предательство общности людей в моменты обостренной борьбы всегда безнравственны. Человек, предавший в тяжкие для народа дни землю отцов, предает в конце концов и самого себя. Он становится духовным самоубийцей. Он опустошает собственную душу и превращается в живой труп, какими бы политическими мотивами он ни прикрывался. Примеров этому в истории немало.
В связи с моим последним романом «Горячий снег» и кинофильмом «Освобождение», в которых речь идет и о предателе Власове, я переворошил многие документы и выслушал многие мнения несхожих людей, знавших когда-то этого человека в быту и на войне.
Какой же я сделал вывод? Власов был человеком высокомерных манер, честолюбив, обидчив, с карьеристскими наклонностями. Он не очень любил общаться с солдатами, не любил часто бывать на обстреливаемом снарядами наблюдательном пункте. Он предпочитал глубокий блиндаж командного пункта, подземный свет аккумуляторных лампочек, уют временных квартир, где располагался удобно, сыто, даже несколько аристократично.
Военачальник средних способностей, он не обладал острым тактическим мышлением, но так или иначе звезда удачи светила ему по началу войны. И, видимо, тогда казалось Власову, что успех будет сопутствовать ему постоянно и непреложно: он чересчур одержимо желал его.
Но окружение и разгром 2‑й ударной армии, которой он командовал на Волховском фронте в 1942 году, представились мнительному Власову бесславным концом карьеры, закатом счастливой звезды – и он сделал роковой шаг. Ночью, бросив еще сражавшиеся части, он вместе с адъютантом сдался немецким солдатам: «Не стреляйте, я – генерал Власов!». Так это было в реальности.
Однако же Солженицын трактует сдачу в плен и измену Власова как сугубо осознанный антисталинский акт: мол, Власов за совершенное предательство денежного куша не получил, а сделал это по твердому политическому убеждению, не согласный с деятельностью Сталина. Я легко предполагаю, конечно, что данные сведения Солженицын почерпнул и тщательно запомнил из немецких листовок (их читал и я на фронте) или же из брошюрки самого Власова (мы ее тоже иногда находили на полях войны), где генерал объяснял свою сдачу в плен неприятием политики Сталина в 1936—37 годах и т. д.
Предательство, разложение личности, безнравственность от века живы только потому, что, камуфляжно прикрываясь знаменами апостолов, оправдывают себя, принимая то обличье страдальцев за истину, то лик «политического мессии». Деятельность Власова, отдающую малоароматическим свойством, решительно подтасовывает Солженицын под собственную концепцию, беззастенчиво приглашая из Леты генерала к сотрудничеству, предварительно надев на его главу терновый венец борца за справедливость.
Не могу пройти мимо некоторых обобщений, которые на разных страницах делает Солженицын по поводу русского народа. Откуда этот антиславянизм? Право, ответ наводит на очень мрачные воспоминания, и в памяти встают зловещие параграфы немецкого плана «ОСТ».
Великий титан Достоевский прошел не через семь, а через девять кругов жизненного ада, видел и ничтожное и великое, испытал все, что даже немыслимо испытать человеку (ожидание смертной казни, ссылка, каторжные работы, падение личности), но ни в одном произведении не доходил до национального нигилизма. Наоборот – он любил человека и отрицал в нем плохое и утверждал доброе, как и большинство великих писателей мировой литературы, исследуя характер своей нации. Достоевский находился в мучительных поисках бога в себе и вне себя.
Чувство злой неприязни, как будто он сводит счеты с целой нацией, обидевшей его, клокочет в Солженицыне, словно в вулкане. Он подозревает каждого русского в беспринципности, косности, приплюсовывая к ней стремление к легкой жизни, к власти и, как бы в восторге самоуничижения, с неистовством рвет на себе рубаху, крича, что сам мог бы стать палачом. Вызывает также, мягко выражаясь, изумление его злой упрек Ивану Бунину, только за то, что этот крупнейший писатель XX века остался до самой смерти русским и в эмиграции. Но Солженицын, несмотря на свой серьезный возраст и опыт, не знает «до дна» русский характер и не знает характер «свободы» Запада, с которым так часто сравнивает российскую жизнь.
«Архипелаг Гулаг» мог бы быть «опытом художественного исследования», как его называет Солженицын, если бы автор осознавал всякое написанное им слово и осознавал формулу: критерий истины – нравственность, а критерий нравственности – истина. Если бы он отдавал себе мужественный отчет в том, что история, лишенная правды, – вдова.
Любому художнику любой страны противопоказано длительное время находиться в состоянии постоянного озлобления, ибо озлобление пожирает его талант и писатель становится настолько тенденциозным, что тенденция эта пожирает самую истину.
Ю. БОНДАРЕВ
«Г‑н Солженицын нам надоел»
«Советская культура» публикует интервью Сергея Михалкова западногерманскому журналу «Шпигель», обратившемуся к писателю с просьбой ответить на ряд вопросов.
Интервью было напечатано в №6 этого журнала от 4 февраля 1974 года.
«Шпигель»: Господин Михалков, советская печать, радио и телевидение резко критикуют Солженицына. Что волнует вас в его новой книге «Архипелаг Гулаг»? Он оскорбил Советский союз или, может быть, исказил исторические факты?
С. Михалков: Ничто не может меня волновать в книге господина Солженицына «Архипелаг Гулаг». Я не вижу в ней художественных достоинств, но вот оскорбить мою страну и исказить историческую действительность ему удалось. Как, впрочем, это удавалось Солженицыну во многом, что выходило из-под его пера в последние годы.
Но я не могу оставаться равнодушным, молчаливым свидетелем того, как г‑н Солженицын издевается над советским обществом и советским строем. Он не видит в истории моей страны ничего, кроме тюрем и лагерей. И изображает Советский Союз как одну большую тюрьму, а народ – в виде толпы бессловесных, покорных рабов. Г‑н Солженицын заливает одной лишь черной краской все, во имя чего совершалась Октябрьская революция 1917 года, во имя чего советский народ понес такие неслыханные жертвы во время второй мировой войны. По моему убеждению, делает он это сознательно, ибо сам стоит в одном ряду с теми, кто не принимает наш социалистический строй, с теми, для кого Октябрьская революция явилась личной трагедией, а не великой народной победой.
У каждого народа есть свои герои и свои предатели. Встав на путь предательства, г‑н Солженицын, как мне кажется, понял, что только этот путь, а не подлинная литература, которая всегда служит народу, может привлечь к нему внимание, надеть на него терновый венец «мученика» и «пророка», бесстрашно и безнаказанно вещающего на весь мир о несостоятельности советского образа жизни.
Г‑н Солженицын добился своего. Прежде всего он привлек к себе внимание реакционных кругов. И скоро стало ясно, что означенный «мученик» является всего-навсего политической марионеткой, и я хорошо себе представляю, кто держит в руках те ниточки, которые приводят в движение язык и перо г‑на Солженицына.
«Шпигель»: В книге ведь в первую очередь критикуются злодеяния Сталина, которые были разоблачены вашими коллегами-писателями, и они, писатели, не стали оппозиционерами Советского Союза. Вы предпочитаете умеренную критику и не хотите полного расчета с прошлым?
С. Михалков: Начну с того, что Коммунистическая партия Советского союза сама во всеуслышание осудила серьезные ошибки, допущенные в период культа личности Сталина. Многие советские литераторы действительно писали в своих произведениях о нарушениях социалистической законности, имевших место в те времена. И они не стали врагами Советского союза, потому что исходили из верной, объективной оценки и прошлого, и настоящего. И даже трудная судьба некоторых писателей, на себе испытавших тяжесть несправедливых обвинений, не заслонила от них правду нашей жизни – не озлобила их, не сделала их «солженицыными», ибо они, как и весь народ, верят, что то, что было, никогда больше не повторится. И у нас нет никаких оснований снова и снова возвращаться к самобичеванию.
Что касается умеренной критики, то считаю, что таковой вообще нет. Есть критика объективная и есть критика тенденциозная, злобная, клеветническая. Я – за объективную критику, за критику позитивную. По поводу полного расчета с прошлым скажу, что это – не чье-нибудь, а наше прошлое со всеми его достижениями, победами и недостатками. И советский человек вовсе не собирается его перечеркивать, потому что он горд тем, чем стала сегодня его страна, его Родина.
Я, к примеру, хорошо понимаю чувства истинного немца, который гордится своей землей, несмотря на то, что на ней происходило в разные времена. Вряд ли ему пришлась бы по душе книга, в которой о его народе было бы написано столь пренебрежительно, столь желчно, как это сделал, например, г‑н Солженицын в своей пьесе «Пир победителей» о русском народе.
«Шпигель»: Сводится ли возмущение также к тому, что Солженицын утверждает, что террор во времена Сталина якобы начался в СССР еще при Ленине?
С. Михалков: Любая революция, как известно, – дело не бескровное. Народ, берущий в руки власть, действует тем же оружием, каким действует его враг, защищающий свои интересы. Русская революция 1917 года дала народу не только идеи, но и право защищать эти идеи с оружием в руках.
Г‑н Солженицын называет террором революционную классовую борьбу трудящихся. А как тогда назвать методы, которыми действовали интервенты четырнадцати держав, Деникин, Колчак, Махно, Петлюра, Корнилов и прочие враги новой рабоче-крестьянской власти? Не они ли, объявив белый террор, сжигали в паровозных топках и закапывали живьем в землю свои жертвы, не они ли вешали беззащитных на городских фонарях; выкалывали глаза, расстреливали без суда и следствия, пытали людей только за то, что эти люди решили на век покончить с царским самодержавием?
Читая сегодня Солженицына, невольно приходишь к мысли, что на заре Советской власти красное знамя было бы не его знаменем.
Бесспорно, что молодая Советская республика не могла бы отстоять себя одними лозунгами. И нас не может не возмущать провокационная оценка революционных событий в России, к которой прибегает г‑н Солженицын.
«Шпигель»: Хрущев, который сам осудил злодеяния Сталина, разрешил Солженицыну напечатать в Советском Союзе его первую книгу «Один день Ивана Денисовича». Почему ему не разрешают издавать его последующие произведения на его родине?
С. Михалков: Мне думается, что и Хрущев, если бы ему довелось читать последующие произведения г‑на Солженицына, воздержался бы от их публикации. Если первая повесть Солженицына еще представляла некоторый интерес новизной темы, попыткой автора раскрыть характер невинно осужденных простых людей, безропотно подчинившихся своей судьбе, то последующие произведения Солженицына от одного к другому все откровеннее давали понять о непринятии автором самого существа советского общества. Встав на этот путь и подкрепляя свою позицию всевозможными открытыми письмами и заявлениями, дискредитирующими советскую действительность, г‑н Солженицын в конце концов откровенно перешел в лагерь реакции, в антисоветский лагерь.
Естественно, что произведения такого автора было бы по меньшей мере странно издавать в нашей стране, в народных издательствах, на народные деньги.
«Шпигель»: В «Литературной газете» Солженицын был назван литературным власовцем и антисоветчиком. Эти упреки оправданны?
С. Михалков: Генерал-предатель Власов возглавляя отряды, сражавшиеся на стороне гитлеровской армии против советского народа во время второй мировой войны. Этих изменников, сменивших форму солдат Советской Армии на мундиры «освободителей России», народ прозвал «власовцами».
Солженицын сегодня фактически находится в рядах подобных «освободителей». И, на мой взгляд, он с полным основанием может быть назван литературным власовцем.
«Шпигель»: С советской стороны Солженицын и западная печать подвергаются критике за то, что они опубликованием книги «Архипелаг Гулаг» и статьями в связи с этим опубликованием хотят помешать политике советского Союза в деле разрядки международной напряженности. Эта логика нам непонятна. Одно другое не исключает?
С. Михалков: Возня на Западе вокруг Солженицына и его новой книги, судя по ее масштабам, явно подготовлена и организована. Это видно невооруженным глазом. А раз это так, значит, она кому-то нужна.
Я не думаю, что все солженицыны вместе взятые могут существенно помешать процессу разрядки международной напряженности. Но некоторым политическим кругам, по-видимому, выгодно привлечь внимание к произведению человека, живущего в СССР и якобы правдиво рисующего картину жизни в стране, где «попраны человеческие права» и миролюбивые отношения с которой якобы противоречат интересам западных государств. Я не думаю, чтобы «Шпигель», публикуя отрывки из книги «Архипелаг Гулаг», стремился вызвать симпатии у своих читателей к Советскому Союзу и тем самым, к примеру, увеличить приток туристов из ФРГ в СССР.
Советские писатели вместе со всеми гражданами моей страны отлично видят провокационный характер нового выступления г‑на Солженицына. И наше возмущение этой очередной антисоветской провокацией вполне оправданно.
«Шпигель»: Какие цели преследуют журналисты и литераторы вашей страны, остро критикуя Солженицына? Великий Советский Союз может не бояться какого-то Солженицына.
С. Михалков: Поскольку западные средства информации широко пропагандируют клеветнические взгляды Солженицына, живущего в СССР, постольку советские писатели и журналисты считают своим долгом дать свою оценку и произведению, и поведению Солженицына.
Если бы автор «Архипелага Гулаг» жил где-нибудь в Цюрихе, где имеет контору его адвокат, то вряд ли его фигура привлекла бы внимание советской общественности. В кругу себе подобных по ту сторону советской границы он не был бы более заметен, чем другие литераторы-антисоветчики. Подозреваю, что в этом случае г‑ну Солженицыну пришлось бы долго обивать пороги издательств со своими рукописями. И цена им была бы другая.
Вы спрашиваете, боимся ли мы Солженицына. Мы его не боимся, но он нам надоел.
«Шпигель»: Вы думаете, Солженицын отвергает все, что дала Октябрьская революция. Как могло произойти, что убежденный коммунист превратился в антикоммуниста? Может быть, исключение его из Союза писателей и его изоляция были ошибкой?
С. Михалков: У меня нет сомнений в том, что советский строй и политика нашей Коммунистической партии чужды Солженицыну. Вот почему он отвергает или не замечает, или не хочет видеть то, что дал Великий Октябрь нашему народу. Убежденный коммунист не может стать антикоммунистом. Коммунистом Солженицын никогда не был… Об этом убедительно говорит его истинное лицо. Ошибкой было не исключение Солженицына из Союза писателей СССР, а его преждевременный прием в члены союза.
«Шпигель»: Солженицын убежден, что его «Архипелаг Гулаг» будет когда-нибудь издан и в Советском Союзе. Вы верите в это?
С. Михалков: А зачем?
* * *
На вопрос «Советской культуры» об отношении к Указу Президиума Верховного совета СССР о лишении А. Солженицына советского гражданства Сергей Владимирович Михалков ответил:
«Как известно, 13 февраля с. г. Солженицын был выдворен за пределы Советского Союза и попал наконец в ту питательную среду, которая его в течение ряда лет последовательно подстрекала и активно поддерживала. В нынешних условиях на реакционном идеологическом рынке этот политический отщепенец представляет собой в определенном смысле уже «уцененный товар». Мы были свидетелями его морального и гражданского падения, и нет сомнения в том, что рано или поздно мы явимся очевидцами его неминуемого, бесславного забвения: он так или иначе будет вынужден разделить судьбу многих иждивенцев международного антисоветизма».
«Советская культура» 19 февраля 1974 г.








