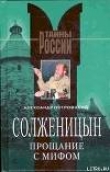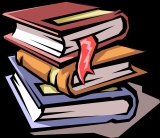
Текст книги "В круге последнем"
Автор книги: Сергей Михалков
Соавторы: Юрий Бондарев,Юрий Рытхэу,Александр Рекемчук,Евгений Долматовский,Иван Васильев,Галина Серебрякова,Борис Скворцов,И. Соловьев,Генрих Боровик,Наталья Решетовская
Жанры:
Политика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Пожалуй, достаточно. Предельно ясно, почему силы, злобствующие против Советского Союза, «славят» Солженицына. В том числе и пресловутая радиостанция «Свобода». Очень показательно, как литературное предательство смыкается с изменой своему народу, своей Отчизне. В числе руководящих сотрудников «Свободы» есть Л. Павловский, пользующийся псевдонимами Пылаев, Шамров. Павловский занимал пост начальника особого отдела в штабе преступника Власова. В одной упряжке нынче Солженицын и Павловский.
Чему служил, то и заслужил: презрение всех честных людей. На этом архипелаге презрения и пребывает ныне А. Солженицын.
П. ЖИЛИН, генерал-лейтенант, член-корреспондент Академии наук СССР. «Известия», 28 января 1974 г.
Скажи мне, кто твой друг…
Июль 1942 года. Еще несколько месяцев оставалось до Сталинграда – поворотного пункта в войне, когда все станет ясно. А пока – жестокие, кровопролитные бои. Это было трудное, но исполненное героизмом время. Дни испытаний. И именно тогда генерал Власов перешел на сторону врага. Предательство никогда не имело оправданий. Измена в трагическое для Родины время – предел падения.
А. Солженицын в своей новой книге «Архипелаг Гулаг» отводит немало страниц Власову и власовцам. Он утверждает, что Власов был боевым генералом, военный талант которого подтвержден проведенными под его командованием операциями.
99‑я стрелковая дивизия под командованием Власова, сообщает автор «Архипелага», в первые дни войны пошла на запад, отбила Перемышль и шесть дней удерживала его.
На этом «военные подвиги» Власова, по А. Солженицыну, не кончаются. Он пишет, что в январе 1942 года Власов, став командующим 2‑й ударной армии, успешно повел ее в наступление: «Армия вклинилась в немецкое расположение на 75 километров».
Жанр своей работы А. Солженицын определил как «Опыт художественного исследования». Исследование же всегда предполагало и предполагает выявление истины.
Какова же истина?
Начнем с первого утверждения автора «Архипелага».
1941. Наши войска ведут кровопролитные бои на огромном фронте, протянувшемся от Черного до Белого моря. Об упорстве этих боев и самоотверженном сопротивлении врагу говорит такой факт: в ходе сражений 1941 года немецкая армия потеряла больше двух третей личного состава, перешедшего нашу границу в июне. План молниеносной войны «Барбаросса» рухнул. Гитлеровцы были поставлены перед необходимостью ведения затяжной войны.
Одним из участков яростного сопротивления врагу был район Перемышля. Части 99‑й стрелковой действительно перешли в наступление, отбили у врага город и шесть дней удерживали его. Это был подвиг, но Власов, вопреки утверждению автора «Архипелага», не командовал этой дивизией, и героически себя под Перемышлем не проявил. Он командовал 99‑й дивизией в 1940 году, а в начале войны его там не было. Он командовал в это время – если уж исследовать, то исследовать – 4‑м механизированным корпусом, который был разбит под Киевом.
Не возглавлял Власов и 2‑й ударной армии в ее январском наступлении, когда она, как мы уже цитировали «Архипелаг», «вклинилась в немецкое расположение на 75 километров». Эта заслуга генерала Н. К. Клыкова, в ту пору командовавшего армией, Власов стал командиром 2‑й ударной в середине апреля, когда она дралась в окружении. Здесь же он и сдался в плен. А армия, опять же не по А. Солженицыну, не была «бездарно покинута умирать от голода в окружении». Ставка Верховного Главнокомандования потребовала «во что бы то ни стало вызволить 2‑ю ударную армию, хотя бы даже без тяжелого оружия и техники». Активно действовали 59‑я, 4‑я, 52‑я армии, помогая 2‑й ударной выйти из кольца. Как свидетельствует бывший командующий Волховским фронтом Маршал Советского Союза К. А. Мерецков, из окружения пробилось 16 тысяч человек. И вопреки автору «художественного исследования» армия не «погибла». 2‑я ударная позже разорвала кольцо вражеской блокады под Ленинградом и добивала гитлеровцев в Восточной Пруссии. А. Солженицын дезинформирует читателя, утверждая и то, что лично о Власове не беспокоились, когда он попал в окружение. По приказу Ставки Верховного Главнокомандования командарма‑2 настойчиво искали партизаны. В район, где он мог находиться, были сброшены специальные парашютные группы. За подписью одного из руководителей КПСС А. А. Жданова командиру партизанского соединения, действовавшего на этой территории, была направлена радиограмма: «Отвечайте на вопрос Ставки, что вы знаете о Власове? Жив ли он? Видели ли вы его? Что предпринято, чтобы найти его? Самолет немедленно прилетит, как только вы его найдете».
Исследуем «исследование» дальше.
Чехословакия. Май 1945 года, «Власов, – по А. Солженицыну скомандовал своим дивизиям перейти на сторону восставших чехов». И вновь искажается истина. Искажается умышленно, холодно и расчетливо, словно сто сорок тысяч его соотечественников, не отдали свои жизни при освобождении Чехословакии.
Под Прагой была сосредоточена почти миллионная группировка немецко-фашистских войск. Чтобы разгромить ее, СССР ввел в Чехословакию более двух миллионов солдат. Если верить тому, о чем пишет А. Солженицын, что власовцы «вышибли» немцев из Праги до прихода советских войск, то кого же тогда выбивали из чехословацкой столицы на рассвете 9 мая советские танкисты?
Вот свидетельство чехословацкого историка В. Мелихара: «Особенно трудная обстановка для повстанцев возникла 7 и 8 мая. (Заметим, власовского войска в то время и след простыл). Сказывались усталость, нехватка оружия и боеприпасов. Особенно важно было, чтобы танковые армии генерала Рыбалко и генерала Лелюшенко, наступающие в направлении Дрезден – Прага, как можно скорее преодолели Рудные горы. Благодаря отваге и мастерству советских танкистов это удалось. Немцы во вновь создавшейся обстановке делали упор на переговоры с Чешским национальным советом. 8 мая, после сложных переговоров в Праге, было подписано соглашение о перемирии. Однако в Праге не был прекращен огонь. Особенно бесчинствовали эсэсовцы. Поэтому советские танкисты осуществили ночью с 8 на 9 мая легендарный бросок в Прагу и 9 мая рано утром вошли в город. В тот же день вошли в Прагу и танковые части, продвигавшиеся из Брно, так что Прага была в тот день освобождена и очищена от врага».
Несколько свидетельств о Власове и власовцах.
Александр Верт, английский журналист. Книга «Россия в войне». Автор называет власовцев «пресловутыми бандитами и убийцами».
Ролан Гоше, далекий от симпатий к Советскому Союзу, описывает их как «войско пиратов в разношерстных мундирах, возящих за собой женщин, увешанных драгоценностями, у которых на каждой руке по три-четыре пары часов».
Борис Л. Двинов из «Рэнд корпорейшн»: «Движение власовцев никогда не было свободной, независимой политической организацией. С самого своего возникновения оно было орудием Гитлера, Гиммлера и Геббельса. Существует множество доказательств, свидетельствующих о том, что его руководство добровольно сотрудничало с Гитлером, было орудием нацистов…»
Предательство… Во все времена оно открывало для всех ничтожество того, кто его совершил. Власов предал свой народ, свою Родину, Солженицын воспел его и тоже совершил предательство.
Жан ТАРАТУТА, научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны СССР. (АПН)
Правда о том, кто спас Прагу в мае 1945 г.
В эти дни на Западе возносят до небес новую антисоветскую стряпню, принадлежащую перу Солженицына, – «Архипелаг Гулаг». И вот этот отщепенец в своем «произведении», наряду с другими лживыми утверждениями, находящимися в абсолютном противоречии с исторической правдой, пишет, что якобы дивизии изменившего своей Родине генерала Власова в мае 1945 года выбили немцев из Праги и тем самым, спасли ее от разрушения частями гитлеровского вермахта, а затем начали отступление в сторону находившихся в Баварии американцев. Вслед за этим с беспримерной наглостью он вопрошает: все ли чехи разобрались в том, какие русские спасли их город? И далее, тут же позволяет себе лживо утверждать, будто бы история искажается, когда утверждают, что Прагу спасли советские войска.
В свете исторических фактов А. Солженицын предстает жалким фальсификатором. Его клеветнические утверждения могут вызвать лишь возмущение у каждого чехословацкого гражданина, пережившего героическое Пражское восстание. Как непосредственный его участник и один из представителей Коммунистической партии Чехословакии в Чешском Национальном Совете, как член его военной комиссии, которая немало сделала для того, чтобы увековечить память 140 тыс. советских воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Чехословакии, – многие из которых пали в ожесточенных боях на улицах нашей Праги, – я с безграничным возмущением отвергаю эту невероятную фальсификацию действительности.
5 мая 1945 года жители Праги восстали против оккупантов и повели на баррикадах бесстрашные бои с вооруженными до зубов фашистами.
В ответ на переданный пражским радио призыв повстанцев о помощи командование Советской Армии без промедления приступило к проведению известной Пражской операции. Армии под командованием маршала Конева с огромной скоростью спешили из Берлина и Дрездена, чтобы спасти борющуюся Прагу.
6 мая в районах южнее и юго-западнее Праги появились части так называемой армии генерала Власова, которые потом в нескольких районах города вступили в бои с немцами, причем, как следует из документов самих гитлеровцев, они сразу же достигали с власовцами соглашения о перемирии. Английский автор Г. Болтон пишет, что «главной целью Власова было избежать возмездия Красной Армии, и как только ему стало ясно, что американцы не придут на помощь Праге, он начал отступление в сторону их позиций».
Быстро приближающаяся победа над фашистской Германией все определеннее ставила власовские банды перед перспективой того, что вскоре им придется отвечать за свое предательство и совершенные преступления. К американцам, которые, как они надеялись, их спасут, они хотели прийти как борцы с гитлеровскими армиями в Пражском восстании, хотели получить такое «алиби».
И не только это. Из архивных материалов ясно вытекает также и то, что в Пражском восстании власовцы хотели добиться признания своих заслуг в борьбе «с большевизмом», т. е. в борьбе с революционными силами, прежде всего силами рабочего класса в восстании. Ради своих целей они хотели силой захватить радио, находившееся в руках повстанцев, использовать его для своих передач.
Чехам понятие «власовцы» не было незнакомо. Люди знали, что речь идет о предателях, о преступном сброде, который немецкие фашисты использовали в борьбе против советского народа и его армии, для истязания пленных в концентрационных лагерях, где власовцы играли роль охранников.
Отношение революционных сил и, прежде всего пражского рабочего класса, к власовцам и к предлагавшейся ими «помощи» в борьбе было однозначно отрицательным. Лишь отдельные реакционные элементы из числа офицеров бывшей чехословацкой армии и некоторые члены Чешского Национального Совета делали попытки сотрудничать с ними. Их объединяла общая ненависть к Советской Армии, к революционным силам.
Эти попытки установить сотрудничество с власовцами были разбиты благодаря решительным выступлениям ряда коммунистов и прогрессивных представителей в Чешском Национальном Совете. 7 мая пражское радио сообщило, что Совет категорически отмежевывается от власовцев.
Лживость утверждений власовских предателей об оказании помощи восставшей Праге подтверждается и тем, что власовцы отвергли просьбу повстанцев предоставить им оружие и боеприпасы, которые у них кончались. Под воздействием молниеносного продвижения Советской Армии к Праге власовцы исчезли из города 7 мая и поспешили туда, куда их тянула душа, на Запад, к американцам. Этот замысел им не удался, и в конце концов многие из них не ушли от должного ответа за свои злодеяния.
Такова история «войск генерала Власова» в Пражском восстании, такой ее знают живые участники, так о ней свидетельствуют многочисленные документы тех дней.
Пражане, вместе с бойцами, пришедшими на помощь Праге из окрестных мест, продолжали героическую борьбу на баррикадах с озверевшими нацистами вплоть до 9 мая, до дня, когда Советская Армия пробила себе дорогу в город, уничтожила врага, спасла нашу столицу и завершила освобождение союзнической Чехословакии.
Такова правда об освободительной миссии Советской Армии. Такой сохраняют ее в своих сердцах наши люди. Они знают, какая судьба – вплоть до физического уничтожения – ожидала наши народы, не будь героизма советских солдат, до последней буквы выполнивших обязательства, вытекавшие из чехословацко-советского союзнического договора от 12 декабря 1943 года.
Вацлав ДАВИД, член ЦК КПЧ, заместитель Председателя Федерального собрания ЧССР, (АПН).
Солженицын в рубище
8 января 1973 года газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью комментатора АПН С. Владимирова «Беден ли Солженицын». Ниже следует текст этой публикации:
Нобелевский лауреат без крыши над головой и цента в кармане. Этот жалостливый портрет литератора Александра Солженицына нарисован американским писателем Альбертом Мальцем в его письме в «Нью-Йорк таймс», опубликованном 14 декабря 1972 года. Мальц предлагает там якобы бедствующему автору «Августа Четырнадцатого» крупную сумму денег. Правда, не со своих счетов, а из каких-то лишь ему известных «московских гонораров».
Тот живо откликнулся на это предложение. В опубликованном на Западе заявлении «глубоко тронутый» Солженицын буквально вышибает из читателя слезу картиной своего «отчаянного» финансового положения. Ни крова, ни личной автомашины, ни, наконец, средств, чтобы приобрести, как он выражается, «хотя бы самый скромный маленький домик». «Я готов принять деньги (Мальца – С. В.) в долг, хотя и очень смущен этим», – заключает свое послание-плач А. Солженицын.
Дача под Москвой
Это ли не смущение обездоленной гордости? Отнюдь нет, скажет тот, кому удастся побывать на 82 километре подмосковного шоссе. Здесь, вблизи города Наро-Фоминска, среди оголенных холодами березовых стволов нависает над живописной речкой внезапно материализовавшаяся мечта «безденежного» литератора. Добротному строению о двух этажах с гаражом и садовым участком даже несколько тесно в определении «скромный маленький домик». Это личная дача Александра Солженицына, прозванная им в своем кругу «Борзовкой». Фотографии «Борзовки» появлялись в «Пари-Матч» и «Штерне», вызывая явное недовольство и раздражение ее обладателя.
При еще более пристальном рассмотрении пресловутая «жилищная проблема» Солженицына лопается мыльным пузырем. Надоела березовая идиллия – литератор волен отправиться в подмосковный город Рязань, где его ждет первая жена Наталья Решетовская и трехкомнатная квартира, предоставленная ему государством. Надоела провинция – три часа езды до столицы, где на главной магистрали города – улице Горького уже в пятикомнатной квартире с комфортом устроилась вторая жена, 33‑летняя Наталья Светлова.
Однако литератор предпочитает жить в четвертом месте, в чужом доме, откуда и уверяет мир, что у него «ни кола, ни двора».
Три автомашины
Обилие квартир могло бы поставить перед Александром Солженицыным другую проблему – транспортную. Но он ее решает, и поразительно успешно для своего «отчаянного» финансового положения. Сотрудники государственной автоинспекции показали мне регистрационные карточки на три автомашины марки «Москвич». Одна из них №11‑10 РЯИ недавно куплена на его деньги в валютном магазине первой женой, другая №98‑19 МКМ – тещей. Не на толстовском велосипеде разъезжает и сам претендент на литературные лавры Льва Толстого. Верный своей тактике рядиться перед Западом в рубище бедняка, Солженицын сделал вид, будто продал свою автомашину №98‑04 РЯИ. Но продолжает ею пользоваться уже под номером 95‑38 МКП.
Этот последний факт говорит о многом. Солженицын умышленно прикидывается обездоленным, демонстративно рвет на себе «последнюю рубашку». На это, по моему мнению, его толкает резкое падение собственной скандальной популярности в читательских кругах Запада.
Кукольный спектакль
Агентство ЮПИ распространило 18 декабря 1972 г. сообщение своего московского корреспондента: «Западные дипломаты, на днях беседовавшие с 54‑летним автором, скептически отнеслись к его жалобам… Они не раз видели Солженицына в московских магазинах, торгующих на валюту».
Дипломаты не обознались. Нет ничего необъяснимого в том, что якобы нищий литератор частенько туда захаживает. Как известно, только по оценкам западной прессы капитал Александра Солженицына на счетах в швейцарских банках превышает полтора миллиона долларов. За более точной информацией желающие могут обратиться к Фрицу Хеебу, швейцарскому адвокату, который опекает это состояние и переводит его частями в Москву по инструкции владельца. Адрес Хееба: Швейцария, Цюрих, 8001, Банхофштрассе 57 С.
Кстати вспомним: на бракоразводном процессе с первой женой Солженицын прямо заявил суду, что передает Наталье Решетовской в виде компенсации за развод крупную сумму денег, хранящихся у него на сберкнижках. Позднее, как хорошо известно друзьям Решетовской, он выделил ей несколько тысяч долларов, опасаясь, что на суде она потребует поделить поровну его миллионное состояние.
В одной из своих статей, посвященных призванию писателя, Альберт Мальц как-то воскликнул: «Нет, жизнь – это не кукольный спектакль!» Мальц негодовал на поверхностных наблюдателей, рассматривающих действительность «сквозь толстое оконное стекло». Остается сожалеть, что сегодня сам писатель оказался вовлеченным в кукольный спектакль о бедном, бедном Пьеро.
С. Владимиров. «Нью-Йорк таймс», 8 января 1973 г.
Таковы хорошие друзья Солженицына
После опубликования газетой «Нью-Йорк таймс» статей Семена Владимирова и Жореса Медведева в Агентство печати Новости обратилась супруга Александра Солженицына Наталья Решетовская. Она передала свою статью АПН с просьбой переслать ее в «Нью-Йорк таймс».
Газета «Нью-Йорк таймс» 9 марта 1973 года опубликовала это письмо.
Сегодня, когда Жорес Медведев на правах «старого друга» вторгается в нашу семейную историю на страницах «Нью-Йорк таймс», я вынуждена вмешаться, тем более что сам Александр Солженицын одобрительно молчит.
В своей статье «В защиту Солженицына» ученому-геронтологу Медведеву явно изменяет память. Маленькая деталь: он заявляет, что наш бракоразводный процесс длился три года, хотя на самом деле – полтора. Полноте, Жорес Александрович, неужели Вы забыли, как 3 мая 1970 года привезли к нам на дачу под Наро-Фоминском особого сорта картофель? Ведь тогда ничто не предвещало семейной драмы. Более того, всего за неделю до Вашего визита, празднуя 25‑летие нашего брака, мой муж поднял тост за то, чтобы мы «до гроба оставались вместе». В конце того же года у Натальи Светловой родился его ребенок.
У меня нет никакого желания вдаваться в подробности дуэли Семен Владимиров – Жорес Медведев о том, беден Солженицын или богат. Замечу лишь, что мой муж, безусловно, имеет значительное количество валюты и может свободно конвертировать её в сертификаты и советские рубли. Деньги у Солженицына есть, и я бы на его месте не делала заявлений о бедственном финансовом положении. Согласитесь, в устах обладателя более чем одного миллиона долларов это звучит немножко смешно.
«Даже Лев Толстой, возможно, не жил в таком комфорте!» – саркастически восклицает далее в своей статье Медведев, пытаясь поставить под сомнение факты о солженицынских квартирах и машинах. Но у Льва Толстого не было двух семей, Жорес Александрович! Раз Солженицын приобрел вторую семью, то, естественно, купил и вторую машину, а третью недавно продал. Отсюда две машины у «двух солженицынских Наталий», как нас окрестила западная пресса. Понятно, что даже из Нобелевской премии в 78 тысяч долларов как-нибудь можно купить не одну машину и не две…
Есть и домик в живописном месте у речки Истьи, существование которой Медведев почему-то так нервозно отрицает. Что до валютных магазинов, куда, как почудилось Медведеву, «с 1970 года пускают только иностранцев», то они открыты для всех, кто имеет валюту, в том числе для Солженицына и для меня.
Медведевская мания преследования особенно дает себя знать, когда он рисует жуткую картину возможного ареста моего мужа на квартире у Светловой за то, что у него якобы нет пермита на проживание в Москве (прописки). Но ведь Солженицын годами жил в другом месте – и тоже без прописки! Не только дом, но и рабочий кабинет пустует у Солженицына в Рязани, где он прописан. Ясно, что разглагольствования об аресте и прописке – трюкачество автора. Да будет известно геронтологу Медведеву, что для здоровья, как и для творчества, нужна тишина, свежий воздух и поэтому квартира в Москве и квартира в Рязани Солженицына не устраивают – он живет в дачных условиях.
Но довольно об этом. Я категорически возражаю тем, кто пытается подменить моральную ответственность Солженицына за его поступки материальной ответственностью, в какой бы цифре она ни выражалась – в 10 тысячах долларов или в половине его состояния. Я возражаю как Медведеву, так и Владимирову, возражаю всем и каждому, кто полагает, что семейная трагедия Солженицына и Решетовской, Глеба и Нади Нержиных – так мы названы в романе «В круге первом» – может быть разрешена торговой сделкой. Никакими миллионами не компенсировать потери веры в человека. Мне выпала горькая доля через самого Солженицына познать, что такое ложь и насилие. А ведь ложь и насилие он провозгласил «величайшим злом в мире» в своей нобелевской лекции.
Медведев дважды дает понять, что я – «нереальная жена» Солженицына. Реальной он считает Светлову, о знакомстве с которой мужа я узнала лишь за три с половиной месяца до рождения их ребенка. И теперь псевдодрузья Солженицына, как и он сам, идут против совести, пытаясь предать забвению, затоптать нашу совместную нелегкую жизнь. Жизнь длиною в четверть века, где была война, опасности, где мы теряли и находили друг друга, где была тюрьма, свидания через решетку и, наконец, долгий период, проведенный бок о бок, когда всё в нашей семье было поставлено на службу ему и его работе, когда я помогала ему во всём. Я вела его секретарское хозяйство, подбирала корреспонденцию, интервьюировала людей для его книг, печатала рукописи. Я настолько ушла в его работу, прониклась его интересами, что в 1969 году оставила должность доцента в институте – с согласия Солженицына.
Как он оценил всё это, видно из четырехчасового интервью американскому корреспонденту, где он вспомнил бабушку, дедушку, мать, отца, жену Наталью Дмитриевну Светлову и «светловолосого сына Ермолая». А нашей жизни не было? Четверть века перечеркнуты разом.
Один из персонажей «Августа Четырнадцатого», некий Варсонофьев учит: «Мы всего-то и позваны усовершенствовать строй своей души». А как же с совершенствованием души самого автора «Августа Четырнадцатого»? Ведь у него образовались гигантские «ножницы» между социально-литературным планом правдоискателя и ложью в личной жизни.
Он называет гласность условием здоровья всякого общества, а от меня требует умолчания в ответ на клевету и не пресекает её сам. Он ратует в защиту русской православной церкви от государства, а поступает далеко не как христианин. Он скорбит о том, что, посадив человека в тюрьму, о нем забывают, а сам бросает в пустоту одинокой старости человека, которому писал: «Ты спасла мне жизнь и больше, чем жизнь».
Когда же через неделю после его Нобелевского лауреатства я наложила на себя руки, и меня разбудили лишь через двое суток, его друзья, стараясь спасти его репутацию, придали трагедии комедийный характер. Сорок дней назад отчасти из-за этой истории ушла из жизни раньше времени моя мама. Сейчас на моих руках две тети-старушки, 95 и 84 лет – те самые, кто регулярно высылал Солженицыну посылки в самые тяжелые годы его заключения.
В унисон с западной прессой Медведев дает понять, что решение Верховного Суда РСФСР, отказавшего Солженицыну в разводе, – некая уловка властей, «беспрецедентный случай». Истина, однако, в том, что на бракоразводном процессе я оказалась как бы ответчицей за его грехи. Я сопротивлялась юридическому насилию судебного развода, которое муж подкреплял очернительством моего имени. После того, как Солженицын лично обратился в Верховный Суд, изложила свои аргументы там и я. Я считаю, что советский суд оказался гуманнее Солженицына, бравировавшего на процессе супружеской неверностью. Ведь аморальные поступки не могут облегчить, а лишь отягощают положение того, кто их совершил.
Один из советских литераторов закончил свою рецензию на «Один день Ивана Денисовича» словами великого русского критика Белинского: «В наше время преклонят колено только перед тем художником, жизнь которого есть лучший комментарий его творения…» Эти же слова взяты эпиграфом к сборнику статей и документов о Солженицыне, вышедшему на Западе в 1970 году. Увы, в таком комментарии этот человек предстает далеко не правдолюбцем.
Солженицын взял с собой, как скрупулезно запомнил Медведев, большой старинный письменный стол – подарок одного из читателей. Но Александру Исаевичу Солженицыну еще предстоит начать жить, да и писать за этим столом по правде. Пока же он превратил свою жизнь в шахматную партию, где играет сразу и за белых, и за черных.
Правда о том, как протекала наша совместная жизнь, о Солженицыне – на страницах моих мемуаров. В ответ на измышления западной прессы и иных «старых друзей» я буду вынуждена опубликовать отдельные главы в ближайшее время.
Наталья Решетовская.