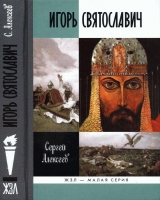
Текст книги "Игорь Святославич"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
4. Множество мелких генеалогических и исторических деталей «Слова» проясняется исследованиями, никак не относящимися ко времени его публикации. Приведем только один, но убедительный пример. Поражение Игоря рассматривается в «Слове» как месть за хана Шарукана: «Готские красные девы… лелеют месть Шаруканову». Но в XVIII веке ни одному даже самому сведущему в русской истории ученому мужу не было известно, что победитель Игоря хан Кончак – внук Шарукана, потому что в русских источниках сведений об этом нет и Ипатьевская летопись ограничивает родословную Кончака его отцом Отроком. О том, что Отрок (Атрак) был сыном Шарукана, сообщают лишь грузинские летописи, свидетельства которых стали известны в России только в XIX столетии.
5. «Задонщина» – памятник вторичный по отношению к «Слову». Для иллюстрации приведем два примера. Если в «Слове» Див, «кличущий» вверху древа, а затем «свергнувшийся» на землю, – ясный образ, то в «Задонщине» – явно не понимаемая подражателем метафора предшественника: «диво кличет под саблями татарскими», а потом опять же «свергается». Вспомним и упоминание в «Задонщине» реки Каялы, которую поэт XIV века отождествил с Калкой, местом поражения русских князей от татар в 1223 году. Кроме «Слова» и «Задонщины» Каяла упоминалась единственный раз в Ипатьевской летописи как место поражения Игоря. Однако никаких свидетельств знакомства автора «Задонщины» с Ипатьевской летописью нет, как нет и других упоминаний Каялы в древнерусской литературе. Трудно представить и причины, которые побудили бы его упомянуть безвестную Каялу вместо хорошо известной Калки, если только он не имел дело с уже сложившимся метафорическим употреблением этого названия, которое мы и находим в «Слове».
6. Эрудиция предполагаемого мистификатора потрясает. Он должен был не только провести детальное исследование, к примеру, генеалогии русских княжеских домов по неопубликованным пока летописям (например Ипатьевской), но и быть знакомым с немалым числом также неопубликованных до XIX, а то и до XX века памятников древнерусской литературы; причем некоторые, как «Задонщину», он брал за основу всего построения своего небольшого произведения, а из других заимствовал одно-два слова (например, «бебряный [рукав]» – из перевода «Иудейской войны» Иосифа Флавия). Не иначе как он располагал «библиотекой Ивана Грозного»! Кроме того, он неплохо знал фольклор, прежде всего ритмику и метафоры народной поэзии. И вместо того, чтобы предать эти сокровища огласке и навеки прославиться, он использовал их для написания небольшой поэмы-стилизации… Фантастическая картина. Не проще ли признать, что никакого мистификатора не было?
7. Давно отмечено, что, судя по выпискам Н. М. Карамзина из «Девгениева деяния», этот текст в сборнике переписывался тем же писцом, что и «Слово». Или «Слово» представляло собой стилизацию под «Деяние», выполненную на уровне современной филологии, или «Слово» и «Деяние» – действительно творения одного писца. Если этот писец – фальсификатор XVIII века, то и «Деяние» является его подделкой. Однако это не так – в XIX столетии были обнаружены другие его списки.
8. Одним из решающих аргументов против критиков «Слова» является их неспособность согласиться с доводами друг друга. Скептики за 200 лет так и не сформулировали единой точки зрения не только на авторство «Слова», но даже на доказательства его подложности. Что все-таки «не так» с языком «Слова» – «галлицизмы» в нем, «германизмы», «полонизмы»? Почему критики расходятся во мнениях? Почему, к примеру, авторство Быковского абсолютно принимается одними и столь же безоговорочно исключается другими? Не потому ли, что мы имеем дело с индивидуальными «оригинальными теориями», а не со стройной, приемлемой для научного мира системой доказательств? Между тем основания для признания подлинности «Слова» никогда не пересматривались, а только дополнялись новыми разысканиями. Такое обычно случается, когда в научной полемике одна сторона стоит на прочных основаниях, а другая развивает альтернативу «из принципа», порождая всё новые аргументы и концепты взамен разгромленных старых, при этом новые прямо противоречат старым. Не логичнее ли признать свою неправоту? Стремление некоторых критиков подлинности «Слова» записать в свои сторонники приверженцев средневековой, но более поздней даты его создания (так, к единомышленникам Сенковского или Мазона были несправедливо причислены Каченовский и Леже) также свидетельствует не в их пользу.
9. «Слово» резко отличается содержанием от наиболее известных мистификаций XVIII—XIX веков. И для «Песен Оссиана», и для «Краледворской рукописи», и для российских подделок А. И. Сулакадзева («Песнь Бояна» и др.) характерны переплетение воспринятых из первоисточников сюжетов с авторскими, далекий уход от оригиналов и по стилистике, и по сюжетике. Существенно, что они имеют дело с «непроверяемым» легендарно-мифологическим прошлым, «Слово» повествует о реальных исторических событиях и добросовестно воспроизводит их ход, отраженный и в летописи. В литературный контекст XVIII века, вопреки всем противоположным утверждениям, «Слово» поставить невозможно, в литературный контекст XVII века – крайне маловероятно.
Итак, принадлежность «Слова» к средневековой русской литературе и к подлинной древней традиции можно на сегодняшний день считать доказанной. Однако это, конечно, не значит, что все загадки памятника решены. Одним из много дискутирующихся в науке, а еще более в исторической публицистике является вопрос об авторе «Слова». Заинтересованные энтузиасты – чаще всего непрофессионалы – примеряли «Слово» на самых разных исторических персонажей эпохи. Была перебрана едва ли не вся семья князя Игоря, включая его самого; пытались приписать авторство поэмы дочери киевского князя Святослава Всеволодовича Болеславе. Все эти остроумные догадки могут пробуждать любознательность – но вывести их за пределы вольной игры ума не получается. Сторонникам единого авторства «Слова», как правило, требуется весьма тщательно выявлять даже цель и смысл написания поэмы. Из нее в первую очередь почти невозможно понять, одобряет или осуждает певец предприятие князя.
Поэтому академическая наука с крайней осторожностью относится к отождествлениям автора с каким-то историческим лицом. В свое время академик Б. А. Рыбаков предложил считать автором киевского боярина Петра Бориславича, с личным творчеством которого связывал и значительную часть Киевской летописи {18} . Эта концепция, однако, имела вес лишь в связи с авторитетом ее создателя и не получила поддержки в научных кругах. Б. И. Зотов видел автором «Слова» крупнейшего церковного писателя XII века Кирилла Туровского {19} , однако подавляющее большинство специалистов оснований для этого не нашли.
Все попытки определить конкретного автора «Слова» заходят в тупик по простой причине – нет никаких поводов думать, что его имя вообще должно быть нам известно. Мы знаем поименно мало русских людей XII—XIII веков и еще меньше тех, о внутреннем мире и взглядах коих ведомо нашим современникам. Автор «Слова», вероятно, был образованным дружинником или клириком, а может, и вправду князем из Рюриковичей, но только нет ни малейшего шанса конкретизировать его. Чем больше мы уверяемся, что «Слово» было подлинной частью обширной традиции, тем меньше оснований полагать, что его автор был человеком для своей эпохи исключительным, неизбежно прославленным, и найти его имя на страницах летописи. Далеко не все «песнотворцы» упоминаются в исторических источниках. Бояна мы знаем только из «Слова» и «Задонщины», Ходыну – только из «Слова», Софония Рязанца, с которым часто связывается создание «Задонщины», – только из нее. Большая часть произведений древнерусской литературы безнадежно анонимна. Желание, чтобы со «Словом» было иначе, понятно, только для обоснованных выводов одного желания мало.
Другой проблемой исследования «Слова» остается его датировка. Большинство сторонников подлинности поэмы относят ее создание к концу XII – началу XIII столетия. Но точно ли это так? Уже вскоре после открытия поэмы видный представитель «скептической школы» тогдашней исторической науки М. Т. Каченовский, считавший домонгольские летописи сомнительными компиляциями московской эпохи, публично усомнился в древности памятника. Каченовский расценивал «Слово» (и многие другие древнерусские источники) как сознательный подлог – правда, средневековый, возможно, XIV столетия. Этот взгляд поддержал церковный историк митрополит Евгений (Болховитинов), который полагал, что «Слово» почти синхронно сохранившему его сборнику и относится к XV веку. Именно это воззрение гораздо больше, чем теория подлога, преобладало среди российских скептиков первой половины XIX столетия.
Открытие «Задонщины» привело к пересмотру взглядов на «Слово» в российской науке в пользу большего доверия – но оно же вызвало к жизни концепцию французского ученого Л. Леже. Тот не соглашался ни со считавшими «Слово» подделкой XVIII века, ни с принимавшими раннюю датировку памятника и отстаивал идею, что «Слово» создано неким эрудированным ученым мужем на основе «Задонщины» в XIV или XV столетии и могло быть доработано перед публикацией {20} . Идеи Леже о вторичности «Слова» по отношению к «Задонщи-не» были подхвачены А. Мазоном, А. А. Зиминым и другими сторонниками теории подлога – вопреки крайне осторожной и до конца не проработанной точке зрения самого Леже.
В российской науке рубежа XIX—XX веков близкие к «промежуточной» датировке взгляды разделял А. А. Шахматов. Он признавал первичность «Слова» по отношению к «Задонщине» и, следовательно, раннее его происхождение, однако полагал, что существующий список подвергся сильной переработке и искажению. Следовательно, в дошедшем до нас виде «Слово» может принадлежать скорее XV—XVI, чем XII—XIV векам {21} . Ни Леже, ни Шахматов специальных работ, посвященных «Слову», не писали и его углубленным изучением не занимались.
С появлением книги А. Мазона исследователи «Слова» четко разделились на сторонников его древнего, домонгольского происхождения и позднего подлога, так что дискуссии о «промежуточной» дате, и без того негромкие, прервались окончательно. Только Л. Н. Гумилев, недалеко отходя от традиционной датировки, высказал оригинальную идею: «Слово» являлось политическим памфлетом XIII века, связанным с установлением монгольского владычества, и в его персонажах и событиях зашифрованы реалии именно этого периода. При этом источником поэмы могла быть и более ранняя традиция, отраженная в летописных повестях, но она была препарирована автором-«западником» в своих целях {22} .
Только в последнее время, по мере ослабления позиций крайних скептиков под воздействием языковедческих аргументов, стали чаще появляться новые «промежуточные» варианты. А. Г. Бобров предполагает, что «Слово» является компиляцией древнего «дружинного фольклора» и авторских идей, относящейся к XV веку. Авторство памятника он приписал Ефросину Белозерскому, с именем которого связан Кирилло-Белозерский сборник – древнейший список «Задонщины»; его, в свою очередь, исследователь отождествляет с князем Иваном Шемячичем – принявшим монашество отпрыском мятежной ветви московского княжеского дома {23} .
Д. М. Володихин считает возможным признавать «Слово» литературной стилизацией, созданной в тех же кругах, что и «Задонщина», в последних десятилетиях XIV века. Содержание «Слова», по мнению ученого, могло быть откликом на политические запросы того времени. При этом он не исключает возможности авторства Софония Рязанца.
Однако при всем том Володихин предлагает и далее считать традиционную датировку «базовой» {24} .
Стоит отметить, что если изначально сторонники поздней даты видели в «Слове» обычно подлог-стилизацию, то в последнее время, даже говоря о «стилизации», они имеют в виду запись некой подлинной песенной традиции. Однако это не отменяет нескольких ключевых возражений на утверждения о позднем времени создания/записи «Слова».
1. Поэма явно находится вне культурного кон текста XIV—XVI веков. Это памятник еще живой дружинной культуры, создававшийся в условиях живого же «двоеверия». Уже в эпоху «Задонщины» первое умирало, а второе – умерло. «Задонщина», судя и по содержанию, и по чертам поэтики (например, по сохранности размера), – памятник иной, более поздней эпохи, чем «Слово». «Сказание о Мамаевом побоище» фиксирует уже деградацию той традиции, к которой принадлежали «Слово» и «Задонщина», – утрату поэтической формы и покорность летописно-житийным канонам, что нельзя не связать с исчезновением прежней дружинной среды.
2. Всё, что требовалось бы от автора «мистификации», должно было быть присуще и автору «стилизации». Он точно так же должен был бы располагать громадным объемом исторической и филологической информации о домонгольском времени. Если речь идет о точной записи или компиляции точных записей домонгольских устных текстов, то это возражение снимается лишь отчасти, поскольку примеры таких записей абсолютно неизвестны.
3. Уже автору «Задонщины», как мы видели, была совершенно непонятна языческая образность «Слова», расшифровываемая лишь новейшими исследованиями. Во времена «Задонщины» богов «Слова» уже не помнили. Имя Дажьбога, помимо «Слова», употребляется без искажений только в летописи и в русском переводе византийской хроники Иоанна Малалы VI века. Имя Хорса – в летописи, «Беседе трех святителей» и поучениях против язычества. Имя Стрибога – только в летописи. Имя Трояна – в апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» и одном из поучений. Даже при зыбкости дат некоторых антиязыческих текстов все остальные перечисленные памятники надежно относятся к XI—XII столетиям. Единственные исключения – Див («Диво» в «Задонщине») и популярный в народных поверьях Севера Белее.
4. В литературе XIV—XVI веков совершенно отсутствуют параллели «Слову». Мы не знаем ни других «записей» такого рода, ни других «стилизаций», так что заявления о соответствующих литературных увлечениях московской эпохи остаются голословными. Нам известна одна «запись» дружинного домонгольского сказания этой эпохи – сохранившееся в двух сильно расходящихся списках XV и XVII веков «Описание об Александре Поповиче». Судя по использованию его в летописании уже начала XV столетия, создано оно было не позже XIV века. Это прозаический текст, сухое изложение, совершенно лишенное метафор и бедное на образность.
5. Сторонникам концепции о поздней дате создания «Слова» не удалось убедительно опровергнуть его внешней датировки. «Слово» было создано не только до «Задонщины», но и до выходной записи псковского «Апостола» 1307 года. Считать, что писец Домид цитировал некий «расхожий оборот», нельзя, поскольку нигде, кроме его записи и «Слова», этот оборот не «ходит». Версия же о том, что сам Домид был создателем «Слова», обоснованно не получила поддержки среди сторонников позднего создания поэмы.
6. Сторонникам концепции о поздней дате создания «Слова» не удалось убедительно опровергнуть и внутренней его датировки. В начале поэмы Игорь называется «нынешним», в конце провозглашается здравица ему, его сыну Владимиру и брату Всеволоду. В древнерусской литературе неизвестны примеры такого отношения к давно умершим князьям. Неизвестны и примеры настолько рабской «записи» устного источника, сохраняющей все его элементы. Или, как допускают некоторые авторы, речь идет о составной части сознательной подделки под старину? Тогда можно сказать, что и примеры столь тщательных подделок XIV—XVI веков нам равным образом неизвестны.
Однако один исходный посыл новейших приверженцев поздней датировки заслуживает самого пристального внимания. Обычно, даже признавая принадлежность «Слова» к дружинной поэзии, сторонники ранней даты его создания тем не менее исходят из его абсолютной цельности и говорят о едином «авторстве» – отсюда и периодически возникающее желание определить «автора». Между тем то, что «Слово» родилось в устном бытовании и было записано не сразу, явно следует из его текста, обращенного скорее к слушателям-дружинникам, а не к читателю. Отсюда естественны попытки оценить временную дистанцию между записью и созданием поэмы. Отсюда же и логичный вывод: «Слово» является сводом нескольких эпических песен, посвященных одной теме. Такой вывод объясняет наличие явных вставных эпизодов – публицистического «Златого слова» Святослава Всеволодовича и лирического «Плача Ярославны», а также нечеткость политических симпатий поэмы, то ли осуждающей, то ли одобряющей действия Игоря.
Первым четко сформулировал идею о составном характере «Слова» украинский поэт и литературовед И. Я. Франко. Он полагал, что поэма соединяет в себе несколько первоначально независимо бытовавших эпических песен и включает явные прозаические фрагменты {25} . Схожую концепцию отстаивал русский историк-эмигрант Е. А. Ляцкий, один из самых жестких критиков теории А. Мазона. Ляцкий придерживался очень ранней датировки «Слова», но при этом считал его памятником, хотя и созданным по горячим следам событий, но составным, включающим, помимо как минимум двух песен о походе, фрагменты более ранних эпических произведений {26} . Стоит отметить, что с присутствием в «Слове» фрагментов древней поэзии не спорили и советские ученые Д. С. Лихачев, В. П. Адрианова-Перетц. К ним явно относятся отрывки, посвященные Всеславу Полоцкому и Олегу «Гориславичу».
Наиболее четко теорию устного происхождения «Слова» сформулировал уже на рубеже XX– XXI веков американский исследователь славянского фольклора и древнерусской литературы Р. Манн. По его мнению, «Слово» – памятник чисто устного происхождения, записанный спустя продолжительное время и вобравший в себя предшествующую эпическую традицию, а потому любые постановки вопроса о его «авторстве» и «датировке» будут отдавать условностью. Итоговая запись, по мысли Манна, не содержит следов явных литературных влияний и точно отражает устный прообраз (прообразы); последний же, в свою очередь, мог литературные влияния испытывать {27} . Эта теория получила определенное распространение и признание в зарубежной науке; российские ученые встретили ее со скепсисом.
В то же время сама идея, что между сложением «Слова» (либо эпических песен, вошедших в его состав) и его записью могло пройти заметное время, иногда признаётся. Так, А. А. Инков, рассматривающий поэму как ценный первоисточник, пишет: «Среди распространенных дат создания “Слова” называются также 30—40-е гг. XIII века. По нашему мнению, в это время поэма была лишь записана, устная же версия “Слова” вполне могла быть создана при дворе черниговского князя уже в 1185 г. или несколько позже» {28} .
Отметим, что аргументы в пользу первичной записи «Слова» во второй-третьей трети XIII века есть. Это, прежде всего, языковое лицо памятника, несущего, как отмечалось, не только в орфографии, но и в лексике черты северо-западного диалекта. Не было ли «Слово» записано на Псковщине либо каким-то беженцем с юга России, либо с его голоса после монгольского нашествия? Это объяснило бы сам редкий для Древней Руси факт записи героической поэмы стремлением сохранить ее после гибели породившей ее среды. Однако показания самого памятника – финальная здравица в честь князей – все-таки вселяют сомнения. Сохранилась бы она при позднейшей записи? Вопрос остается открытым. Во всяком случае, запись «Слова» следует датировать не позднее 1307 года, когда его уже знал псковский писец Домид.
Б. А. Рыбаков в свое время произвел любопытный эксперимент, частично «вмонтировав» «Слово о погибели земли Русской» в «Слово о полку Игореве». Опыт демонстрирует на самом деле нечто иное, чем пытался показать ученый, допустивший, что «Слово о погибели» – выпавший из поэмы отрывок. «Отрывок» довольно органично встал «на место» как раз по той причине, что принадлежал к той же поэтической, в значительной степени устной традиции, а «Слово» – по крайней мере отчасти – создавалось (как писаный текст) именно способом творческой компиляции. «Слово о погибели», имей оно отношение к событиям конца XII века, вполне могло бы войти в состав «Слова о полку Игореве», как были включены в него «Златое слово» от лица Святослава или «Плач Ярославны».
* * *
Эпоха, в которую жил и действовал новгородсеверский князь, на первый взгляд освещена источниками весьма неплохо, по крайней мере по сравнению с предыдущим столетием. В XI веке на Руси еще очень мало писали. Кое-что известно нам лишь из отрывочных свидетельств иностранцев, иногда же ход исторических событий воссоздается только бессловесными свидетельствами археологии.
В XII столетии история Руси уже становится в полном смысле слова документированной. До нас дошли сотни деловых и личных, а также некоторое количество официальных актов того времени. Основной их массив стал доступен уже в XX веке благодаря открытию археологами берестяных грамот. Однако для нашей темы эта богатейшая сокровищница древнерусских источников мало что дает. Подавляющее большинство берестяных грамот найдено в Новгороде и Новгородской земле. Находки в других областях единичны, причем в Южной Руси были сделаны всего три – в Звенигороде Галицком. С Новгородом же связаны и немногие грамоты XII века, сохранившиеся в пергаментных подлинниках или позднейших списках, и большинство законодательных актов (кстати, среди последних – церковный устав новгородского князя Святослава Ольговича, отца Игоря).
Из всех источников документального характера в связи с биографией Игоря и историей Черниговской земли важны разве что единичные надписи, а также церковные поминальные записи – синодики. Правда, синодики часто подновлялись и переделывались в поздние века, нередко вбирая в себя легендарные сведения. Однако Любечский синодик относится к числу наиболее древних и достоверных. Он включает перечень лиц, поминавшихся в Антониевом Любечском монастыре, в том числе чернигово-северских князей XI—XIV веков.
Несмотря на уже довольно большое число памятников литературы Руси XII—XIII веков, Игорь является действующим лицом только «Слова о полку Игореве». Черниговская земля вообще была, вероятно, относительно бедна писателями – или же их творчество совершенно не дошло до нас. Отдельные события истории Черниговщины при этом упоминаются, например, в житиях русских святых, прежде всего в созданном в XIII столетии Киево-Печерском патерике – собрании сказаний об отцах Киево-Печерского монастыря.
Нет упоминаний об Игоре и в зарубежных источниках. Он не был настолько значимой фигурой, чтобы слава о его деяниях достигла других цивилизованных стран. К тому же иностранцев в те десятилетия беспокоили только те русские события, которые непосредственно влияли на их государства: войны, дипломатические интриги, династические союзы. Чернигово-Северская земля в этом смысле оказывалась как бы на отшибе – единственным ее внешним, нерусским соседом была Половецкая степь. Среди зарубежных хронистов есть только одно исключение – поляк Ян Длугош, работавший в XV веке; но он пользовался не дошедшей до нас южнорусской летописью.
Так что, за вычетом «Слова», источником сведений о жизни Игоря Святославича и его княжества являются для нас только русские летописи. В Чернигове своего летописания опять-таки то ли не велось, то ли оно не сохранилось. Поиски его отрывков в летописях других земель не кажутся убедительными. С этим, конечно, и связана фрагментарность наших данных об Игоре. Летописцы его родной земли, естественно, уделили бы ему больше внимания.
Наиболее достоверными историческими источниками о событиях на Руси второй половины XII столетия являются пять летописных памятников. Ипатьевская летопись, известная в нескольких списках, включает в себя Киевский летописный свод 1199 года и Галицкую летопись конца
XIII века. Для нас полезна Киевская летопись – официальная история великих князей, во множестве подробностей описывающая сложные перипетии истории Южной Руси. Она, с одной стороны, трактует некоторые события довольно субъективно, поскольку составлялась при дворе заинтересованного лица – великого князя Рюрика Ростиславича, участника многих усобиц. Однако, с другой стороны, созданный придворными историками свод включил летописание, ведшееся при многих предшествующих князьях, сменявших друг друга на киевском столе, что придало летописи невольную объективность.
Другие летописи создавались на севере и северо-востоке Руси и содержат меньше свидетельств о событиях на ее юге. Однако они подчас сообщают их точные даты и важные подробности. Новгородская первая летопись – официальный летописный свод Новгородской республики, создававшийся по воле архиепископов и посадников – в дошедшем до нас виде была переписана в середине XIII века; единственный список так называемого старшего извода – древнейший сохранившийся до наших дней летописный кодекс.
Остальные три летописи – продукт наиболее плодовитого, на взгляд из современности, или лучше всего сохранившегося летописания Владимиро-Суздальской земли. Интересующие нас факты в них в основном совпадают. Радзивиловская летопись, известная нам в двух списках XV века, содержит Владимирский летописный свод начала XIII столетия, ставший источником сведений об удельной эпохе для многих позднейших летописцев. Близкий к ней Летописец Переславля-Суздальского, также сохранившийся в списке XV века, был составлен, как явствует из его названия, в Переславле-Залесском в 1215 году. Оба памятника прямо или через не дошедшее до нас посредство использовались создателями Лаврентьевской летописи – Владимирского летописного свода начала XIV века. Он сохранился в списке 1377 года, переписанном суздальским монахом Лаврентием, – это второй по старшинству из имеющихся в нашем распоряжении летописных подлинников.
Летописцы второй половины XIV—XV века сравнительно мало внимания уделяли эпохе ранней раздробленности, в основном копируя, а нередко сокращая предшествовавшие тексты. Некоторое исключение представляли новгородцы, но их дополнения, почерпнутые из не дошедших до нас источников, касаются почти исключительно собственной истории. Позднее, в XVI веке, немало «нового» об удельном периоде, как и о других этапах русской истории, сообщили составители монументальной Никоновской летописи. Но многие из ее сведений давно поставлены под сомнение как домыслы, даже вымыслы; в любом случае конкретно для нашей темы они почти ничего не дают.
Сложен вопрос о несохранившихся летописях, которые мог использовать виднейший русский историк XVIII столетия В. Н. Татищев. Он обращался с источниками достаточно свободно. Сейчас доказано, что он без ограничений и с минимальными оговорками вносил в повествование собственные домыслы – или морализующие, или обосновывающие его политические позиции, или придающие событиям связность. Татищев поддавался – иногда вполне сознательно – на мистификации или полумистификации своих добровольных помощников. Так произошло, вероятно, в случае так называемой Иоакимовской летописи, в которой он пожелал увидеть достоверный источник по истории Киевской эпохи – хотя сознавал всю сомнительность ее происхождения. Однако в тех случаях, когда Татищев ссылается на конкретные летописные памятники и ссылки его могут быть проверены, он обычно точен. Подавляющее большинство перечисленных им летописных источников известно современной науке, и, вопреки всем скептикам, нет существенных оснований подозревать его в выдумывании или фальсификации каких-либо из ныне неизвестных. Поэтому, с определенными оговорками, те татищевские известия, которые содержат точную ссылку на источник происхождения, привлекать вполне возможно.
Для нас некоторый интерес могли бы представлять цитаты из так называемой Раскольничьей летописи, доведенной до 1198 года и содержавшей более подробные сведения по истории Руси, чем очень близкая к ней Ипатьевская, тоже известная Татищеву по одному из списков. Многие ученые закономерно предположили, что Раскольничья летопись была полным списком Киевского свода 1199 года, который галицкие создатели Ипатьевской летописи несколько сократили. Впрочем, немногочисленные выписки Татищева из Раскольничьей летописи (ко второй половине XII века относятся всего две) добавляют лишь малые детали к истории Руси описываемой эпохи. Гораздо больше случаев, когда источник неизвестен и факт его существования, говоря по чести, маловероятен. Татищев либо украшает повествование (к примеру, отсутствующими в летописях, особенно нарочито и наивно «славянскими» женскими именами), либо пытается додумать причины и следствия каких-то событий. Некоторые из таких случаев нам встретятся при исследовании жизненного пути Игоря.
Таковы источники по истории Чернигово-Северской земли XII столетия и биографии князя Игоря. Теперь вполне ясно, что его классического жизнеописания, выстраивающего путь героя год за годом, представить просто невозможно. Игорь является в истории проблесками – самый яркий из них стал для него и самым злосчастным.








