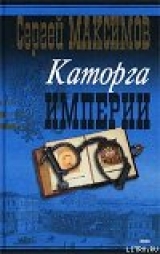
Текст книги "Сибирь и каторга. Часть первая"
Автор книги: Сергей Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Каторжная жизнь рудникового рабочего и потому, что она бесплатная, обязательная, казенная и потому еще, что подвергается случайностям, недалеко от несчастий и граничит с нечаянною, скоропостижною смертью.
"Дыркой бьет" – кладет на смерть и увечит рабочего при быстром нечаянном взрыве буковой скважины, сопровождаемом неизбежными камнями, осколки которых брызжут по сторонам с быстротою и силою. Эта опасность для неопытных рабочих на каждом шагу, потому что на каждом шагу буровые скважины и потому, что при спешных работах на каждый шаг не напасешь осторожности и оглядки, если и та и другая не обратились в привычку.
"Горой давит" рудникового рабочего та же оплошности, то же неуменье, а часто и невозможность спохватиться вовремя, – именно в то время, когда он сделал подработку своим молотком под породу и отломятся от нее плохо слипшиеся или хорошо отбитые груды известняка или глинистого сланца. «Горой» этою и увечит и давит до смерти.
– Хорош первый конец, когда изувечит, потому что начальство уменьшит уроки или совсем избавит от них, а лучше всего – последний конец. С ним все гладко, и душа твоя уже потом не томится. А худая смерть лучше каторжной жизни, – говорили рудниковые рабочие в то время, когда они не были освобождены от заводских работ и работали рядом с каторжными; разница была одна: у каторжных за содеянные преступления положены были сроки, у заводских служителей работа была бессрочная и то только потому, что они родились от таких же заводских служителей и подзаводских крестьян. Бывали случаи, что последние нарочно делали преступления, чтобы сделаться каторжными, а стало быть, попасть в срочные рабочие.
Говорили нам и другие, но другое:
– Мы, когда за молоток да за лопату, то и молитва у нас одна на уме: авось, мол, и над нашими воротами взойдет солнышко. Старики наши, помираючи, наказывали нам: "Кривых нет во святых, дети милые; мы каторжные да и вы такие же, потому что наше отродье. Не работать нельзя – работайте! Тяжела работа – не бегите! Известна пословица: "не зовут вола пиво пить, зовут вола воду возить". Возите воду, потому что и ваши дети возить ее также станут, с тем и живите!.."
Внуки ложились, однако, до того времени, когда сняли с них несправедливое обязательство, а самые рудники каторжными покинуты: работа последних направлена была на казенные золотые промыслы и казенные винокуренные, солеваренные и железоделательные заводы. Каторжные в Восточной Сибири жили при заводах: Александровском винокуренном и Иркутском солеваренном (в Иркутск, губ.), и в Забайкалье: при заводе железном Петровском, на приисках Верхнем, Среднем и Нижнем Карийских, на Шахтаминском и Казаковском, на заводах Лужакинском и Акатуевском. Все остальные работы на рудниках находились в руках вольнонаемных рабочих. Еще весьма не так давно они работали на три смены: две недели по 12 часов в день, третью неделю получали на отдых. За то, что имевшие достаток горные служителя брались на собственных лошадях возить руду с рудников в Кутомарский рудник, при котором плавильная печь, и в Александровский завод, где устроена лаборатория, они получали льготный час. Работавшие на рудниках ходили на работу иногда верст за десять, прихватив с собою хлеба и овощей, и ели всухомятку; на ночь опять плелись домой к горяченькому кирпичному карымскому чаю, ко щам и печке. За работу вознаграждались одинаковым с поселенцами содержанием (по 50 к. в месяц, на золотых промыслах по 2 р., на Кудее – самом богатом и надежном, позднее открытом, плата в месяц доходила до 5 руб.). К этой плате, сверх того, казна прибавляла еще по два пуда муки. Разница у заводского служителя с каторжным состояла еще в том, что первый мог обрабатывать землю, иметь кое-какое хозяйство. Но вернемся к ссыльным и к тем каторжным, которые работают на Карийских золотых промыслах и на заводах, и посмотрим, как выносит всякую каторгу русский человек на своих могучих плечах и как примиряется со всею тяжестью ее, со всеми невзгодами и злополучием.
Новичок-арестант, приходящий на крайнюю каторжную работу – на Карийские золотые промыслы – назначается обыкновенно "хвосты убирать". Хвостами называются те пустые, ненужные пески, которые остаются на разрезе после промывки золота, и от которых золото уже отделено: вода, унеся пески, как вещество легчайшее, и не сладив с крупинками золота – веществом тяжелейшим, оставила их осевшими на дно промывного желоба. Уборка хвостов или пустых песков – работа каторжная и потому, что требует усиленных уроков и некоторой поспешности, чтобы принять с дороги старую ненужную дрянь и дать место драгоценности, – и потому хвостовая работа тяжела главным образом тем, что не заключает в себе и не дает того, чем красна всякая работа. Она мало питает сознание, что в труде этом заключаются те же животворные, осязательные и наглядные результаты, как и во всяком другом труде рук существа разумного и мыслящего. Этот труд на хвостах как будто даже бесполезно истрачивает физические силы, и без того значительно истощенные и, во всяком случае, нисколько не укрепляет духа, не поддерживает жизни его. Носить целые дни с раннего утра до позднего вечера пустые пески, носить их по заказу, на урок, в виде наказания за неисполнение полной задачи и без всякого существенного и нравственного вознаграждения на случай честного исполнения долга и обязанности – дело равносильное и равноправное древнему монастырскому наказанию толочь в ступе воду. Сверх того, сознание, что вся эта работа направлена ни ближе, ни дальше, как к бесцельному сооружению на крутых речных берегах новых берегов, целых песчаных гор, так называемых отвалов, сознание это беспредельно мучит и терзает несчастных арестантов, твердо и сознательно убеждаемых в том, что исполняют они те самые работы, которые по всем правам принадлежат волам, лошадям, животным.
Во всяком случае, в уборке хвостов промысловые рабочие полагают настоящую, воловью, тяжелую каторгу. Замечено там, что новички, поступившие на работу для уборки хвостов, – первый день выдерживают ее, с большим трудом исполняя полный урок; на второй день – за ними всегда остается недоимка и право наказания за неуспех дела. Но если непредусмотрительный, малоопытный или мстительный и горячий пристав, в наказание за упущение, решится назначить новичка на хвосты в третий раз, то на четвертый день он смело может вычеркивать всех тех арестантов из промысловых списков. К таким заключениям пришли сами пристава после долгих наблюдений и многочисленных опытов. Наблюдения эти и опыты слагают одно заключение, дают один общий вывод, что уборка хвостов на золотых промыслах – самое сильное и действительное наказание для провинившихся и, повторенное один раз, оно уже имеет характер истинной каторги.
Солеваренная каторга была вся тяжела. Тяжела была больше всего для организма, которому представт лялись многотрудные задачи, особенно в сибирских заводах, построенных на старый образец: черно и грязно, старо и грубо. Прежде, когда гнали человеческою силою рассол из соляных источников по желобам и поднимали бадьями в бунфы посредством насосов – солеваренная каторга была настоящая, тяжелее и мрачнее всех. Ссыльные качали насосы на высоких каланчах иногда при 30° морозу, одетые в казенную рвань. Насосы были первобытной формы, как на простых барках, однако требовали при каждом движении силы и поклона всем телом почти до земли. Рассол должен был пробегать по желобам беспрерывно; платье на рабочих сначала мокло от брызг, потом замерзало. Рабочий, отбыв свою смену, все стоя на ногах, действительно побывал на каторге. Тяжелая качалка так утомляла троих людей, что они часто падали на месте в беспамятстве от крайнего истощения сил. Журавцы были заменены ручными насосами в 1836 г. К насосам для большего облегчения работы приделаны маятники – стало легче: балансир маятника стали поталкивать от себя уже меньшее количество рук с наименьшими усилиями; люди могли это делать, сидя в особо прилаженных крытых беседках. Затем постарались (1838 г.) к насосам приспособить лошадиную силу, и две лошади стали делать то, что прежде производили двенадцать человек. Но и после таких приспособлений для каторжных осталось довольно места, чтобы видеть ясно, что сил их не щадят и их тело почитают не выше лесной гнилушки. Жар, который скопляется в том сарае, где варится соль в громадном чане или сковороде, становится во время горячих и спешных работ до того тяжелым й невыносимым, что арестанты принуждены скидывать с себя все платье и работать голыми до обильного пота. Но и при этих условиях духота и жар до того неодолимы, что каждый рабочий обязан выбегать из варницы в бревенчатую холодную пристройку, плохо мшонную и без печки, где, таким образом, ожидает мокрое и потное тело рабочего свежий, морозный, уличной температуры воздух. Многие варницы от неправильного устройства пролетов накопляли такой дым, что рабочие, для направления огня, не могли и по земле ползать. В ветреное время они задыхались, на лучший конец добивались безвременного страдания и боли глаз, до потери аппетита. Малейший подрез какого-нибудь члена, при разъедающих соляных парах варницы, производил опасные жгучие раны. Присоединяя к ним неизбежную простуду, при быстрой и крайней перемене температур, мы встречаем тот положительный факт, что редкий рабочий выдерживал больше двух месяцев: многие уходили в госпиталь, всегда наполненный больными ревматизмом, тифом, потерею аппетита. Но еще большое число рабочих, не успевших заболеть или поправившихся от болезни, уходило в лес и в бега при первом благоприятном случае, на какие особенно был щедр и богат иркутский солеваренный завод или так называемое иркутское Усолье. На нем и по другим статьям каторжной жизни – примечательная неустойка. Казенный срок, назначенный для арестантской одежды, был крайне несостоятелен: таская сырую соль в важню на плечах, арестанты скоро изнашивали платье, так что за 80 к. сер., полагаемых в месяц, и признаков нет возможности обезопасить себя даже заплатами на прогнившие дыры. Без воровства в таких случаях не проживешь и без пособия чужой и преимущественно казенной собственности (какова на этот раз продажная соль) никак уже не обойдешься. В конце концов, все-таки нет возможности видеть пущей нищеты и рвани, как на каторжных рабочих заводов.
На винокуренных заводах степень каторжной тяжести видоизменялась, значение каторги своеобразнее. Там круглый год тяжело было жиганам, обязанным подкладывать дрова в печь и, стало быть, целые сутки стоять у огня в тесном подвале, среди нестерпимой духоты, около удушливого печного жара. Здесь значение каторги сходствовало с тем, которое давала соляная варница и получала разительное подобие, когда припомним то обстоятельство, что каторжный рабочий – не вольнонаемный. По отношению к нему нет уже никаких уступок, ни вынужденных, ни естественных: возвышенной платы он не требовал, от тяжелой работы не отказывался и не посмел заявлять открыто и гласно все те права, о которых всегда готов напомнить свободный человек, вольный рабочий, старожилый сибиряк-крестьянин. Зимою, во время холодов, заводская винокуренная каторга всею своею тяжестью налегала на заторщиков, обязанных чистить квашни, промывать в них прилипшее к стенкам этого огромного ящика тесто, когда намоченные руки знобило едким, невыносимым ознобом, когда рабочий от пребывания в пару, постепенно охлаждаемом, успевал даже закуржаветь, т. е. покрыться инеем до подобия пушистой птицы. Последствия известны врачам и даже дознаны на практике: это постоянная дрожь во всем теле, отсутствие аппетита и лихорадка, которую сначала больные презирают, а оттого вгоняют ее в тело глубоко и близят последнее к гробовой доске. Нередко последняя накрывала рабочих, опущенных в лари, где бродила брага, прежде чем выходил оттуда весь углеродный газ, накопившийся во время брожения браги; рабочие эти там задыхались и их на другой день выносили оттуда уже мертвыми и холодными трупами.
– В теплую погоду, – говорят нам, – заторщикам лучше, но зато тяжело бывает ледоколам и ледорезам (первые мельчат льдины для охлаждения чанов с дрожжами и суслом на реке, вторые – на заводе). Постоянная сырость, всегдашняя мокрота, гноя платье и давая в результате почти те же болез-ненные припадки, портила и ослабляла самый крепкий организм. В историческом очерке каторжных за-ведений читатель увидит и другие тяжести каторжного сверла во всех подробностях (см. III часть).
Винокуренные заводы также были богаты побегами и не меньше всех других родов и видов каторги. Вся же каторга, мрачная по тому значению и смыслу, что она подневольная и трудная, потому что не сулит никаких вознаграждений, становится невыносимою, когда рабочий, придя не домой, а в казенную казарму, видит только одну наготу и босоту, видит беспредельное количество таких же точно дней и ночей впереди, без просвета и радостей. Рваные казенные тряпки от черных и сырых, трудных и тяжелых работ ветшают еще скорее, чем от надлежащего употребления, вопреки назначениям и срокам урочных положений. Починяя их насколько хватит терпения, уменья и сил, каторжный рабочий знает одно, что новое платье обяжет его новыми неоплатными казенными долгами, которые потянет заводское и промысловое начальство из ничтожных заработанных денег и, во всяком случае, возьмет свое из артельного капитала. В силу этого артельный капитал от таких вычетов всегда находится в том положении, что представляет собою полное ничтожество. Между тем ни это платье, неспособное даже прикрывать наготу, ни ремесло или мастерство, приобретенные на родине и не приложимые здесь за казенными работами, рабочего не спасают и ему не помогают.
– Пощупаю ноги, посоветуюсь с бывалыми, улучу минуту, да и прощай каторга! Может быть, навсегда, но, во всяком случае, на долгое время.
Бегут арестанты с каторги не десятками, а сотнями.
Прислушавшись к рассказам арестантов, присмотревшись в заводских архивах к официальным делам и бумагам, мы приходим к следующим общим и частным чертам всех вообще побегов из тюрем и с каторги. При этом считаем нелишним заметить, что, рассказывая о своих похождениях, бродяги обыкновенно старались обойти молчанием начальную и основную причину несчастья, приведшего их в Сибирь, уверяя обыкновенно, что они сосланы за бродяжество, хотя бы и числились в ссыльнокаторжных. В самом тоне нас поражало всегда изумительное хладнокровие, не допускавшее увлечений; мучениям своим на походе не придают, по-видимому, никакой цены и значения.
Из тюрем бегут очень редко (сравнительно) и стараются убежать только такие арестанты, которые посажены на много лет и притом в одинокую, тесную и душную темницу. "До чего доходило их отчаяние, стремление добиться свободы, выйти на вольный воздух!" – замечает один из наблюдавших за этим делом и продолжает: "Нет конца россказням об этом: кто перепилил толстую железную решетку перочинным ножом и спустился на изорванной в полосы простыне; кто подрылся под пол, выбрасывая землю щепотками в оконце, чтобы скрыть свою работу; кто ушел переодетым; кто в неволе открыл на досуге назначение египетских пирамид; кто составил себе чернила из ржавчины от железных запоров и из крепкого чая и на измятом лоскутке бумажки, в которой завернут был этот чай, написал трагедию в 5-ти действиях; Опять иной, услыхав отдаленный стук в тюрьме своей, заключил из этого, что у него есть соседи, отделенные от него толстыми каменными стенами, и, полагая, что один из близких ему товарищей, может быть, содержится тут же, вздумал подать ему о себе весть счетными ударами половой щетки в каменный пол. Через несколько времени он вызвал ответ. Товарищи поняли друг друга и разговаривали таким образом, означая каждую букву таким числом ударов; сколько ей принадлежит счетом по занимаемому ею месту. Но вскоре и третий, незваный собеседник, вмешался в этот разговор и испортил все дело… Словом – конца нет этим крайне занимательным похождениям!" – замечает В. И. Даль (Казак Луганский) в одном из своих рассказов.
Чернила из ржавчины с чаем делали те из государственных преступников, которые в 1825 году содержались в двух крепостях: Петропавловской и Шлиссельбургской. Сидевшие в первой измыслили писать к родным историю впечатлений недели, двух и даже месяца и приловчились писать это в такой сжатой форме и таким мелкобисерным почерком, что на это потребовалось особое искусство и долгая подготовка. Все впечатления надо было писать и можно было уписать единственно только на тех маленьких лоскутках бумаги, в которые завертывались содовые порошки, выписываемые доктором для освежения (иной бумаги в казематы не допускали). Сидевшие во второй крепости (Шлиссельбургской) получали, с дозволения начальства, апельсины, а в них, вместо сладкой мякоти, тщательно завернутые кучки писем, свежей и чистой бумаги, бумажные деньги, чернила, перья и проч. В Петропавловской стуком в пол щеткою один заключенный узнал, что в соседях у него находится автор "Горе от ума", сам, в свою очередь, живущий в ближнем соседстве (только за досчатою перегородкою) с евреем, содержателем почты между Северным и Южным тайными обществами.
Переодетым уходил из иркутского острога арестант в франтовском костюме для того, чтобы нашутить в благородном собрании. Он побыл там, вынул из кармана прокурора сто рублей, столько же у председателя губернского правления, у начальника края часы, но в дверях, уходя, столкнулся с другим, угрожавшим выдать его, если не поделится добычею. Поделившись чем успел, арестант направился на улицу, а тот, который остался в собрании, был обыскан, когда спохватились обворованные, и указал на виновника. Полицейские бросились в острог и в тот секретный номер, из которого ловкий вор ушел в собрание и в котором, вместо себя, он положил охотника из арестантов. Видя номер занятым и поверив обманному ответу допрошенного, полиция в тюремных воротах встретила настоящего жильца секретного каземата, подъехавшего на извозчике. Арестант оттого не умел схоронить концов, что из собрания заехал в кабак кутнуть, обменяв опасные вещи на безопасные деньги. Столкнувшись с полициею в воротах, он поспешил выбрасывать вещи и деньги.
О применении египетских пирамид мы уже раньше рассказали, о всех же других приемах, приспособляемых к побегам из тюрем, в сибирских летописях имеются следующие несомненные данные.
Как всем известно и как мы сказали сейчас, в сибирских тюрьмах существует одиночное заключение, которое понимается там обыкновенно как временная мера наказания и только для закоренелых и неисправимых злодеев. Заточение это, к несчастью, до сих пор сопровождалось приковываньем на цепь.
Один из таких «цепных» лежал с цепью в госпитале большого Нерчинского завода, когда еще содержались при этом заводе ссыльные. "При осмотре утром одного дня" на койке больного нашли одну цепь и замок; "внутри замка, за пружину, зацеплена была петля, ссученная из холщовых ниток, надерганных из простыни". Беглый, как видно по делу, не найден, но сторожа-солдаты получили каждый по 50 ударов палками.
В томском остроге содержались два арестанта в секретных казематах. Под окном, у наружной стены, по обыкновению, находился часовой. Однажды один из этих часовых заметил, что над головою его пролетело что-то тяжелое и белое. Едва он успел опомниться, как опять пролетело что-то другое, но также белое и тяжелое. Это что-то на этот раз показалось ему человеком. Часовой смекнул и выстрелил, но сделал это второпях, наугад, однако произвел шум, вызвал тревогу. Прибежал караул, сбежались люди, охотники до всяких скандалов, сделали облаву, обыскали все окрестные места. Подле тюремной стены нашли голого человека с переломленною ногою. Голый человек оказался одним из секретных арестантов: тело его было намазано салом, чтобы ловчее могло оно выскользнуть из рук преследователей. То же сделал, по его словам, и товарищ его; и оба они вместе изрезали казенное платье на ленты, из суконных лент скрутили веревки, веревки приладили к решетке, а решетка была подпилена. Спускаясь вниз, арестанты в это время предварительно раскачивались для того, чтобы усиленный размах дал им возможность перелететь через стену, которая приходилась вблизи каземата. Пойманному не посчастливилось прыжком на землю по ту сторону стены, он получил опасный вывих; товарищ его успел-таки бежать, но вскоре был пойман, узнан и приведен на допрос. Спрашивали:
– Где ты был в то время, когда сделана облава и вся окольность острога оцеплена? – дальше бежать было нельзя и некуда.
Отвечал:
– Я сидел все время в колодце. Идут солдаты около, я окунусь в воду, голову спрячу; они отойдут, я голову высуну и надышусь. Одежду бросил мне с возу проезжий крестьянин.
Вопроса о том, каким образом была перепилена решетка, и быть не могло: один из бежавших арестантов был портной и, по занятию своему и с дозволения начальства, имел приличные своему ремеслу инструменты. При осмотре покинутого им наперстка нашли тут пилу, сделанную из часовой пружины и тщательно мастерски сложенную и уложенную.
В омском остроге одна арестантка решилась бежать из секретного каземата, улучив ту минуту, когда под тюремным окном ее проходила корова. Баба рассчитала прыжок свой так ловко, что угодила животному прямо на спину. Испуганное животное понесло беглую от сторожей и преследователей, но не унесло далеко.
В омском же остроге мы видели арестанта – сухого как жимолость, цепкого и ловкого как обезьяна, который сумел пролезть из ретирадного места в узкую щель, оставленную между соседними стенами и не заделанную в том предположении, что щель эта не представляла опасности. Водосточная труба помогла ему из второго этажа спуститься на двор, со двора подняться на крышку стены, окружающей все острожные строения, и взобраться на нее по водосточной трубе сарая. Всеми своими маневрами арестант привел следователей и свидетелей в изумление и возбудил в первых недоверие. Чтобы убедить их в истине хитросплетенных показаний, бродяга не затруднился повторить эту операцию во второй раз и, на глазах чиновников, проделал свой фокус с прежним блеском, со всею ловкостью акробата, опытного и бывалого. Между тем этот беглый был не. старше 15 лет от роду и принадлежал по роду жизни и сословию к местным мещанам.
Все эти случаи указывают на смелость в сочинении замыслов, иногда доходящую даже до дерзости. В одиночку бегут весьма редко. Побеги из тюрем задумываются обыкновенно несколькими арестантами, приводятся в исполнение маленькою артелью, которая так же, как и всякая другая артель, атаманом крепка, т. е. предполагает зачинщика и руководителя. В большей части случаев, это – бывалый и опытный, т. е. бродяга. Успех побега обыкновенно обеспечивают сторонние пособники, участники замысла или по подкупу, или потворству, нередко по глупости и тупости сторожей, между которыми особенным ротозейством отличаются казаки из бурят.
Мудрено найти бежавшего арестанта, знающего все ходы и выходы, но не мудрено различить во всей этой сумятице тюремного дела главных виновников, подкупных и привычных, глуповатых и тертых, умелых и на путаные показания, готовых и на наказание розгами, тем более что редкий из этих сторожей сам не бит уже шпицрутенами где-нибудь в России. Тюремная история также обильно наполняется побегами, и мы надеемся впоследствии доказать и то, что если имеются в России такие местности и города, где правительство признало излишним содержать тюрьмы (как, например, в Березове Тобольской губернии), но зато везде, где постоянно содержатся в тюрьмах арестанты – из тюрем этих бегут. Скажем больше: можно смело биться об заклад, что нет в России ни одной тюрьмы, из которой не сделано бы было побегов.
Как ни крепка та или другая тюрьма, как ни слабо значение всех сибирских трактовых пересыльных тюрем как мест временного заключения (на небольшое число подсудимых и на большое пересыльных арестантов), побеги из этих тюрем относительно реже. Побеги отсюда не представляют такого интереса и не встречают такой трудности, какими живут и дышат настоящие каторжные нерчинские тюрьмы.
С каторги бегут несравненно в большем числе, хотя отчасти при тех же условиях, т. е. не столько из самых казематов, сколько с работ, не столько в одиночку, сколько в товариществе. Здесь уже не выжидание первого благоприятного, подвернувшегося под руку случая, а систематическое знание, направленное давнишнею подготовкою и уменьем. На этот раз уже и причины другие.
Из пересыльной тюрьмы бежит арестант, как малый ребенок, куда – и сам не всегда хорошо знает. Бежит оттого, что в заточении жить не хорошо, не нравится ему, авось в лесу будет лучше, авось оттуда и удастся куда-нибудь выбраться. Он бы и не бежал, если бы не сманивали товарищи, не улыбались поощрительно на побег сторожа и приставники. Говорят, что за тюрьмою все лучше. За беглым не гоняются, а еще хлебом кормят, да и не Бог весть что сделают, когда из бегов поймают. Можно тогда сказаться непомнящим, поступить в это хваленое и достопочтенное звание, которое у нас имеет такое широкое приспособление. Беглого из пересыльной тюрьмы скоро ловят, его слабее наказывают; самое большое преступление его в бегах – мелкое воровство, пьянство. Он нередко сам является на суд и кается. Один такой и в том же Тобольске, весною 1863 года, не пришел в острог с работы с двумя другими. Поздно вечером он стучался в острожные ворота и был впущен на общий смех арестантам и для показания на допросе о том, что двое товарищей его бежали, что сам он напился вместе с ними, но покрепче их, пьяным выспался в кустах, утром опохмелился, денек погулял, а теперь вот и пришел домой, не зная, куда идти и чего искать ему в бегах. Других ловят и уличают: в 1851 г. в тобольской тюремной книге записано: "Расходчик по экономической части Петр Андреев 9 декабря, в 11 часов пополуночи, идя в острог, увидел впереди идущего арестанта без конвоя, но что нес, не приметно. Войдя во двор, спросил: куда он ходил? Тот сознался, что только сходил в питейный дом и выпил вина 1 /4 штофа с позволения часового, стоящего у ворот, который его, как вперед, так и обратно, пропустил". Арестант был татарин. Часовой показывал, что к будке его приступило много арестантов, и он не мог усмотреть, когда прошел один из них, но «почему он допустил большое скопище арестантов к посту своему, об этом доказать не мог». Арестанты такой категории даже не отвыкли еще путать других, не выучились скрывать своих пристаней; они еще оговаривают своих благодетелей, официально называемых пристанодержателями. Они еще не умеют прятаться так, чтобы удивлять находчивостью судебных следователей и тюремных дозорщиков.
Не таков беглый с каторги: тертый калач, мятые бока, варнак – по-сибирски, чалдон – по-каторжному. У этого другая цель и другая сноровка, иные пути, которые намечены верно и ладно и твердо изучены. Он на них не заблудится, его не спутает никакой законник, не запутают никакие трущобы, ни географические, ни юридические. Варнак берется за дело побега, как за важное и политическое; он, как артист, смело постоит за свое искусство: и в лесу он как рыба в воде, а в ремесле своем, как виртуоз и мастер. Беглеца тюремного поищут два-три человека только для вида, ради службы и начальства, да и само начальство на таких невинных гуляк одною рукою машет, а другою вычеркивает их имена из списков содержавшихся и помечает в числе бежавших. Но бежит варнак, беглец с каторги, за ним для поимки сбивается и посылается целая облава конных и пеших, отправляются вперед и назад, во все стороны, кучи повесток и извещений. Бежал из карийской тюрьмы Иван Петрович Дубровин, и через час об этом знали все обитатели всех четырех промысловых селений; на всех, без изъятия, напал панический страх: тревогу били, по ночам не спали, все словно ждали какого-то дива и чуда. На четвертый день Дубровин не замедлил выказаться: он убил в одной из крайних изб одного из промысловых селений женщину с двумя малютками ни за что ни про что, из одного желания потешить свою злодейскую душу. Приходил он втроем и далеко не ушел от каторги, а грабил потом с шайкою своею всех живущих, проезжающих и проходивших по реке Шилке. Когда поймали Дубровина, то мало того, что приковали на цепь, ему надели еще на руки лису,[40]40
Лиса – железная полоса в полтора или два пуда весом.
[Закрыть] чтобы и подниматься с места ему было трудно. А таких, как Дубровин, на истинной каторге немало. Но о них потом, о других – теперь.
За Байкалом живет в народе предание, что Петровский завод преимущественно богат побегами, что там у тюремных сидельцев ведется особенный обычай бегать из тюрьмы на уру, не в одиночку, а целым огулом. Насколько справедлив первый слух, доказывают нам архивные бумаги, которые зачастую говорят одно и то же, что из «всех здешних мест гораздо более чинятся побеги в летнее время из Петровского завода». Насколько справедлив второй слух, архивные дела не дают для того определенных данных, но народные рассказы настойчиво уверяют в том, что побеги на уру производились оттуда довольно часто. Арестанты при этом, чтобы устранить наблюдение и привести в смятение конвойных, кричат всею казармою «ура», как на сражении: надо цепь пробить, а там уже легко станет, там либо пан, либо пал. Решившиеся бежать, по знаку того, который подпилил решетку и мигнул соузникам, хватаются за собственные рубашки, рвут их на клочки, обматывают этими тряпками кандалы (чтобы не стучали) и бегут через окно, предполагая, что товарищи их, решившиеся остаться, криками «ура» отвлекут на себя внимание стражи. Сами беглецы в то же время производят тот же крик вслед за другими. Подобные попытки – прибавляют народные рассказы – всегда венчались полным успехом, и конвойные не могли хватать беглецов также по тому обстоятельству, что голые арестанты успевали предварительно намазывать все тело свое салом или маслом. Архив Петровского завода, при тщательном просмотре, не подтвердил народных слухов, которые, обыкновенно, складываются в предание и в цельный рассказ из множества частных случаев, но, вероятно, слухи эти имеют основание в былом, не занесенном в официальную бумагу из личных расчетов и соображений начальства (чего не бывает на каторге!). Тем не менее архивные дела Дучарского завода (теперь упраздненного) представляют один подобный случай, доказывающий, что побеги огулом, во многолюдстве беглецов – не миф, который, во всяком случае, мог служить поводом и лечь в основание народной легенды. Дело случилось 8 июня 1815 года. Из тюрьмы сделан был капитальный и серьезный побег: из двадцати заключенных бежало четырнадцать человек. Событие это обставлялось такими подробностями.








