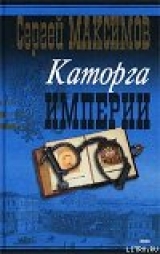
Текст книги "Сибирь и каторга. Часть первая"
Автор книги: Сергей Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Пошел прочь! – ожесточенно и грозно закричал на него вошедший вместе со мною офицер, не этапный, но имевший на такое приказание некоторое право.
Я изумился его смелости, поражен был его крикливостью и решился робко заметить ему свое простое:
– Пусть погреется!
– Помилуйте! – продолжал кричать офицер. – Кандалами замазку околачивает, кирпичи обламывает, печь портит. Не успеешь выбелить, опять замазывай.
– Но здесь холодно, даже морозно.
– Казармы старые, обветшалые! – заметил со своей стороны этапный командир.
– Не верьте, ваше благородье! – послышался иной голос из толпы, сзади. – Печь-то они затопляют перед тем, как партии прийти, вон и дрова не прогорели. Всю неделю этап холодным стоит, его в два дня не протопишь.
Крикливый офицер опять закричал, силился оправить товарища по оружию, но речь арестанта была выговорена. Его искали, но, за многолюдством и теснотою толпы и ловкостью говоруна, не нашли".
Зло этапного холода остается все-таки злом и живою струною, которая звучит при самом ничтожном уколе, дри малейшем прикосновении к ней. Звучит она одно, хотя и в разных тонах.
– Стынешь, стынешь дорогой-то, а придешь, и согреться негде! – замечали кроткие, а умеренные прибавляли к тому следующее:
– Трубу закроем, угар такой, что головы на плечах не держишь. Случалось, другие опивались этим угаром до смерти. Не закрыть трубы, зуб не попадет на зуб, цыганский пот обессилит.
– Куда ни кинь – везде клин (заключали озлобленные). В маленьких полуэтапах навалят народу в казарме – не протолкаешься. Окна двойные, с решетками – не продохнешь. Есть в дверях окошечко, открыть бы! так солдат снаружи защелкнул. Отвори, мол, служивый, сделай милость! "Давай, слышь, грош!" – "Возьми, черт с тобой!" Вот наше дело какое!
Заезжал я на этапы и теплою порою, в весеннее время, и писал в дневник на ту пору такие строки:
"Сазановский этап (между Тобольском и Тюменью).
В этапных казармах, по случаю весенней бездорожицы и задержки, на Иртыш, скопилось 230 человек арестантов. На небольшом и тесном этапном дворе, образуемом обыкновенно, с одной стороны, арестантскою казармою, с другой – офицерским флигелем, выходящим на улицу, и с двух остальных – острожными палями (бревенчатым тыном), на дворе этом происходил решительный базар. Кругом двора сидели бабы, девки, девчонки, солдаты. Перед каждым и каждою лежали разные продукты и товары: творог, молоко, квас, щи, каша, пироги. Какой-то солдат продает всякую мелочь: мыло, пуговки, нитки и сладкое: конфекты, изюм, пряники.
– Кто это покупает? – спросил я солдата.
– Поселенцы своим ребятенкам, да мало.
Вижу, несет один бритый арестантик с тузом на спине и в кандалах, несет ковшик с квасом и шаньгу (колобок).
– Сколько заплатил?
– По три копейки серебром.
На крылечке поселенец, с семьею, впятером хлебает молоко (на дворе стояли последние дни Святой недели). Я спросил и его о цене припасов.
– Гривенник дал, вишь, великие дни идут, захотелось…"
А получает от казны только 3 1 /2 – 6 копеек, а иногда и меньше, потому что количество кормовых зависит от справочных цен на хлеб в данной губернии. Хотя цены меняются в течение года, но положение казенное на круглый год остается одно и то же. Продавцы этого не принимают в расчет и соображение: берут все, что вздумают и что захотят. Контроля нет, наблюдений и не бывало. Продавцы эти (преимущественно женщины, жены тех же этапных солдат, редко деревенские бабы, иногда сами солдаты, в особенности отставные из этапных) действуют огулом, шайкою, предварительно сговорившись, между собою условившись:[16]16
Из прежней истории этапов видно, что сперва вольных торговцев не пускали, торговали сами офицеры, но по многим жалобам, что «офицеры берут вдвое против вольной цены», торговать офицерам запретили. Однако злоупотребление не уничтожилось и только прикрылось маскою, особенно там, где этапы стоят далеко от селений.
[Закрыть] 50 копеек серебром (по их таксе) стоит 1 1 /2 фунта вареного мяса неопределенного вида и сомнительной доброты; 25–35 копеек берут они, эти бабы-торговки, за чашку щей, которые и название носят щей арестантских, купоросных, и слывут везде с таким приговором: «Наши щи хоть кнутом хлещи, пузыря не вскочит и брюха не окормят».[17]17
Высокие цены объясняют тем, что торговцы сами покупают право на торговлю у этапных начальников и не всегда без прижимок. Приходившие партии нередко заставали еще крикливый финал переторжки, а бывали и такие случаи, что торговцы долгое время оставались на улице перед офицерским флигелем. Унтерам обыкновенно платил не больше 1 коп. сер. каждый торговец, а иногда просто за все разы, бывало, отпотчует водкою или пивом на деревенском празднике.
[Закрыть] При покупках подобного рода арестанты обыкновенно делают складчину, человека по два, по четыре вместе и «хоть немножко да похлебаешь горяченького, а без того на сухомятке просто беда!» – замечают они и жалуются всегда на постоянную резь в желудке, на продолжительную и сильную одышку и прочее.
– По Сибири, однако, все-таки харч подешевле, – толкуют другие, – по Пермской губернии тоже сходные цены живут, едим слаще: покупаем дичь, варим и жарим ее, а вот по Казанской – просто приступу нет ни к чему.
– От казны на этап, – говорил мне этапный офицер, – ничего не полагается, кроме тепла и свеч; но и свечи прежде клали на цельную ночь, а теперь только до зари, до зари только…
И последние слова офицер старается громче выкричать, может быть, для пущего внушения арестантам, что вот-де я и сторонним людям то же, что и вам, сказываю. Может быть, и от того громко говорит этапный, что на дворе творится решительный базар, со всеми признаками сходок подобного рода: криком, шумом, гамом. Все это слилось, по обыкновению, в один гул. В этапном базаре было только то особенное, что звенели цепи да покупатели были без шапок, с бритыми наполовину головами и с желтыми тузами на спинах.
Мы пошли по казармам. Их было шесть, как и прежде, как, несомненно, увидим и впереди, потому что ни в чем нет такого однообразия и постоянства, как в устройстве этапов: изобразить один, значит, все описать.
Два дома: один окнами на улицу для офицера и команды, другой внутри на дворе, окруженный частоколом, для арестантов. Посмотреть с фаса: стоит желтенький домик, в середине крылечко, с боков примыкает частокол. В нем так же посередине широкие ворота: правые на арестантский двор, левые – на конюшенный двор, отделенный от первого частоколом. Войдешь крылечком через пролет сеней в сквозной коридор наружной казармы и знаешь: в правой половине две комнаты, из которых ближнюю прокуривают тютюном этапные солдаты, дальнюю – конвойные казаки. В левой половине две комнаты для этапного офицера, заведующего двумя ближними полуэтапами; там же его прихожая и кухня. На этапе, кроме офицера, живет еще каморник-сторож и уже больше никого.
Войдешь коридором на двор, вот и арестантская казарма, чуть не на самом носу, и совершенно против первой, той же длины и того же плана, т. е. так же она разделена на две половины, и каждая половина на две казармы: правая и левая для идущих на поселение. Две задние казармы (правая и левая) разделены поперечною стеною на две поменьше. Из них стало четыре маленьких: в одной направо – женщины, налево – запоздавшие на этапе поселенцы. В двух задних помещаются кандальные, т. е. ссыльнокаторжные. Чтобы попасть к ним, надо обойти кругом всей казармы и попадать дверями с внутреннего фаса ее. Там узнаешь, что правее арестантской казармы двор называется женским, а домишко на нем – банею.
Оглядимся в казарме.
В одной и той же помещены были и холостые и женатые поселенцы на общий соблазн. Ссыльнокаторжные отделены, но отсюда в Томск идут и те и другие и женщины, в общей куче, не делясь и не дробясь, как шли они из России.
В казармах поразил нас возмутительно-дурной запах, хотя на то время открыты были окна. Более тяжелым и с трудом выносимым запахом отшибали те казармы, в которых помещались женщины. С женщинами в одной казарме жили дети.
– Бедные дети! – говорил мне со вздохом ко всему привыкший и ко многому в жизни равнодушный этапный офицер… – Зимою, – продолжал он, – на детей смотреть страшно: коченелые, испитые, больные, кашляют, многие кругом в язвах, сыпь на всех…
Но еще не столько опасны язвы физические, сколько те, которые упадают на мягкое детское сердце от соседства с такими взрослыми. Впрочем, не лучше участи детской участь и взрослых арестантов, которым путь до Иркутска тянется иногда около года. Лишения и болезни неизбежны и встречают их везде, во всякое время года. Тобольская тюремная больница наполнялась каждою зимою больными отморожением членов (pernio) до антонова огня; тюменскую и екатеринбургскую тюремные больницы нашел я (в апреле 1862 года) наполненными до тесноты больными тифозной горячкой.[18]18
Вот средний вывод из цифр в трехлетней сложности. Из 9500 человек (среднее годовое количество ссыльных, проходящих через Сибирь) задерживаются по болезни в дороге до Нерчинска 1260. Из них 260 умирают, что составит 0,027 с долями всего числа ссыльных. По прибытии в Томск, во время содержания в тюремном замке, в течение года умирают из пересыльных арестантов до ста человек. В числе главнейших арестантских болезней на этапах самая обычная – венерическая, чаще приносимая из России и нередко приобретаемая в дороге.
[Закрыть] Арестанты обязаны идти 500 верст в месяц, не разбирая никакой погоды. Только две распутицы, и то по поводу вскрытия и остановки рек (весенняя и осенняя), задерживали проходящие партии в тюрьмах и на этапах. На мой проезд по тюменскому тракту на одном накопилось 250, на другом 230, на третьем 290 человек. В тобольской тюрьме собралось до двух тысяч, в тюменском остроге до полутора тысяч.[19]19
Эти остановки произошли вследствие половодья рек Тобола и Иртыша. В 1860 году разлив Иртыша собрал на одном из тюменских этапов 512 человек.
[Закрыть]
Удивительно ли, что при таком накоплении арестантов такая духота в казармах и такое зловоние, когда стены успели прогнить целиком, когда большая часть зданий построена на местах болотистых, когда многие этапы в половодье очутятся стоящими на острове, залитыми со всех сторон водою, когда вода эта на пол-аршина в глубину застаивается и промозгнет на самых этапных дворах, в самых этапных зданиях.
В особенности нестерпима казарменная духота и сильно зловоние, когда арестанты, в ненастную погоду, приходят все мокрые. Ночью, когда ставят парашу, т. е. ночную кадку, казарменная атмосфера перестает иметь себе подобие. По словам очевидца: "Смрад от этой параши нестерпимый! И эти несчастные как будто стараются как можно более выказать отвратительную сторону своего человечества. Они, так сказать, закаливаются здесь во всех пороках. Между ними всегда шум, крик, карты, кости, ссоры или песни, пляска (Боже, какая пляска!). Одним словом, тут истинное подобие ада!"
Понятно, почему тобольская тюрьма тяготилась множеством больных острыми болезнями; понятно, что в таких случаях и самая смертность увеличивалась за недостатком фельдшеров и лекарств.[20]20
Кроме больниц при больших тюрьмах в городах больницы устроены еще через каждые три этапа при четвертом. Вместо лекарей в этапных больницах фельдшера, которые, так же как и больницы, носят только звание, не отличаясь надлежащими качествами. Благодаря этим заведениям и трудностям путешествия, бывают случаи, что вместо года некоторые арестанты попадали на место назначения года через четыре.
[Закрыть] К чистоте и опрятности зданий приставники из солдат не приучены. Большая часть из них не живет при местах. Солдаты присылаются женатыми, а потому на новом месте спешат поскорее обзавестись собственным домом и хозяйством. Заплатив 15, 18, 30 рублей за целую избу, солдат отдает ей все свободное время и потом маклачит около арестантов торговлею и продает им за 3 коп. крынку молока, за три жареных рыбки берет 6 коп., за фунт хлеба – 1 1 /2 коп. и копейку за небольшую чашку промозглого, с плесенью, квасу. В этом – все отношения приставников к проходящему люду, а затем все для себя и для собственного хозяйства. Семейным солдатам положено отводить земли под поля и сенокосы, но военный человек на мирные и кропотливые занятия не идет, предпочитая им крохоборливые, но настойчивые вымогательства и поборы с проходящих арестантов. Полей солдаты не пашут, хлеба не сеют, сенокосные луга отдают в кортому. Припомним при этом, что каждый этапный солдат, исправляя казенную службу, должен пройти пешком 100 верст в неделю, в год (50 недель) больше 5 тысяч и во весь срок службы (от 15 до 20 лет) обязан обработать 75-100 тысяч верст! О правильном и прочном хозяйстве тут нечего думать: много-много, если хозяйка солдата сумеет обзавестись огородом, капусту с которого во щах продает она потом дорогою ценою тем же арестантам.[21]21
Насколько выгодна торговля около арестантов, можно судить из того, что, например, на Вилижанский этап торгующие бабы приносят съестные припасы из деревень верст за 6 и за 8.
[Закрыть]
На одном полуэтапе встретил я двух солдат-сторожей. Полуэтап был пуст, хотя соседние этапы были битком набиты.[22]22
Устройство полуэтапов проще, но зато они и неудобнее. Здесь с фасу видишь только стойком торчащие заостренные наверху бревна и серели них огромные ворота с низенькою, пробитою в них и непомерно захватанною калиткою. Из-за острия палей торчат трубы и крыши. Войдя туда, узнаем, что по правую руку от ворот караулка, по левую, также в углу, конюшня. Середи двора стоит казарма меньше этапной, но с поперечным коридором, на который глядят четыре двери: из них трое ведут в большие комнаты для поселенцев; четвертая выходит из задних узеньких сенец. Там дверь № 4, куда запирают кандальных и таким образом держат их ночью под двумя замками.
[Закрыть] Один из солдат был семейный, а так как вблизи не было селения, то он помещался с семьей на полуэтапе. В комнате его уютно и опрятно, на стене висит конская сбруя.
– Лошадку, – говорит, – держу. Двоих детей кормить надо, в работу лошадку пускаю, отдаю мужикам.
– А что же арестантов на ней не возишь?
– Никак нет! Я около арестантов не поживляюсь, – отвечал солдат на вопрос мой, и лгал, лгал сколько потому, что селение было далеко, столько и потому, что чем же детей кормить, чем же самому заниматься! Усталые партии нуждаются в конных подводах и особенно на вторую половину пути, и именно от полуэтапа. Да и кто же от денег прочь?..
Не соврал солдат на этот раз в одном только, что и на этом полуэтапе бывает огромное стечение арестантов и что всю громадную массу их поведут те же 20 конвойных (немного больше, немного меньше), наряжаемых обыкновенно от этапа. К этому числу прибавят четырех казаков конвойных, и на взаимном доверии, на взаимных уступках и одолжениях пойдет огромная толпа преступников с таким ничтожным числом конвойных. Три дня слаживаются с одними конвойными; на четвертый, поступая в распоряжение новой команды, смотрит партия, как бы не потерять чего-нибудь своего и у этой.
Дальше мы знаем, что дневки или растахи (через два дня в третий) мало помогают делу, мало подкрепляют силы путешественника. Самый закон на крайние случаи, в губернских городах, например, дольше 6–7 дней держать не велит, за остановки же ссыльных на пути велит наказывать, как за укрывательство беглых. Арестанты, пришедшие в Тобольск (почти все до единого), обыкновенно жаловались на общую слабость во всем организме, на ломоту в ногах, на сильное удушье. Ревматизм, такой частый и неизбежный гость, что получил название этапной болезни. Сверх того, у мужчин открываются грыжи, у женщин – маточные болезни.[23]23
Ежегодное среднее число больных в тобольском тюремном лазарете составляло 1 /5 часть с лишком всего пересылаемого количества (из 11 тысяч – 2070 больных). Из этой 1 /5 части умирало в год 163 человека. Весною каждая партия оставляла больных на пути между Тюменью и Тобольском человек 10 средним счетом.
[Закрыть] Понятно, отчего приказ о ссыльных вынужден бывал большее число приходящих преступников назначать в разряд так называемых неспособных. Неспособные эти, составляя в составе сибирского населения особый класс людей, не платящий податей, обременительны для обществ, на большую половину бродяг, и весь класс людей этих действительно неспособный.
Самое направление этапного пути, Бог весть когда и кем намеченного, в настоящее время, при современных требованиях, не выдерживает никакой критики. Нам выставляют множество неудобств, высказывают примечательное количество справедливых сетований. Тратилось лишнее число государственных сумм, лишнее количество человеческих сил, излишнее число верст и пространств. В древние времена, когда ближайший сибирский путь шел в Тобольск на Вологду и через Верхотурье, крюк для ссыльных был, конечно, значительнее; но и теперь, когда повернули его на Пермь через Екатеринбург, путь для ссыльных не сделался настоящим. Арестанты идут далеко в сторону от тех сибирских трактов, которые проложила себе коммерция, всегда соблюдающая пространство и время, всегда намечающая короткие и прямые пути везде, где бы то ни было, даже и в нашей беспредельной и дикой Сибири. Арестанты не идут там и почтовыми трактами, которые обыкновенно длиннее купеческих, но короче казенного этапного. Так, например, с Тюмени партии преступников, вместо того, чтобы через Барабинскую степь идти прямо на Томск, сворачивали на Тобольск по старому преданию и шли прямо на север, подвергаясь по зимам неблагоприятному, зловредному влиянию северных ветров и непогод. Если эти последние упорно стояли долгое время (что случается замечательно часто), арестанты приносили в Тобольск все поголовно одышку, колотье в груди, отмороженные носы и щеки, отвалившиеся пальцы. Из Тобольска партии шли на Тару, совершая огромный новый излишек пространств, и шли в то же время по местам мало населенным, климатически и экономически неблагоприятным. Один Иртыш партии переходили несколько раз, без всякой нужды и как будто для того только, чтобы своими посещениями поддержать быстро упадающую славу древнего и некогда очень большого города Тобольска. Теперь, с перенесением приказа в Тюмень, все это – слава Богу – уничтожилось.[24]24
Некогда через Байкал перевозили ссыльных на судах сибирского флота, выстроенных на иркутской верфи, – единственное облегчение в старые времена и единственно полезное применение флота. Иркутское адмиралтейство, как известно, существовало только 30 лет. Действия его выразились тем, по словам одного анонимного автора, оставившего рукопись, что бриг, вылетевший из Ангары на простор Байкала, по непостижимому невежеству штурмана, который был назначен командиром этого судна, с пустым трюмом, без балласта, тотчас же перевернуло порывом ветра. Сибиряки, видя такую неудачу европейских приемов мореплавания, убедились еще плотнее в том, что их Байкал, знать, не чета другим разным морям и океанам и что единственные мореходы, какие умеют валандаться в этом море, остаются все-таки, до скончания века, их любимые доморощенные аргонавты с сопками. Адмиралтейство снабжалось не только браком вещей, но и чинов. Оно двигалось, суетилось, 30 лет вело обширную переписку, меняло своих владык, и, наконец, пришел час – оно скончалось. Ссыльных продолжали водить пешком по непролазной Кругоморской дороге или перевозить на обыкновенных байкальских судах, у которых кузов вроде бочонка, представляющий между тем все неудобства неповоротливой речной барки. Единственная мачта позади судна, парус глуп донельзя, вместо руля – ужасной величины весло, величаемое сопцом, которое ворочать мог бы разве один только Голиаф. Этот сопец с трудом ворочает своего левиафана, у которого передняя часть тела в два раза длиннее задней. Наконец, в довершение всего, румпель этого уродливо-громадного руля самый короткий, так что придуман как бы нарочно для того, чтобы и два Голиафа не могли управиться. Эти суда движутся только по ветру. Теперь к услугам ссыльных кое-какие пароходы, которые с трудом оправдывают здесь свою всесветную славу.
[Закрыть] Не говорим также о том излишке переходов, которые, например, принуждены делать поселенцы, назначенные в округа Тюменский, Ялуторовский, Курганский и Туринский, и обязанные, таким образом, идти старым пройденным путем назад из Тобольска, куда они ходили только ради одного приказа о ссыльных и оттого сделали от 435 до 517 верст лишних. Не говорим уже о неудобствах этапных помещений, о той мучительной трудности, с какою сопряжен неблагоприятный во всех случаях образ пешего хождения, и проч., и проч. Не говорим мы обо всем этом потому, что, во-первых, много об этом говорено в недавнее время в наших периодических изданиях, а во-вторых, и потому, что мы видим теперь облегчение арестантам тяжести этапного пути. Когда выяснилось дело в дальнейших подробностях, нет сомнения в том, что значение Тобольска померкло перед значением другого города, Тюмени; того самого, из которого, по проекту графа Сперанского, перевели «по колодничьей части присутствие» в Тобольск и переименовали его там в «Приказ о ссыльных». Веруем в одно, что способ препровождения ссыльных бесполезен и далеко не оправдывал тех ожиданий, которые клали на него в начале двадцатых годов настоящего столетия, когда совершалось, по проектам графа Сперанского, преобразование сибирских губерний.
Возвратимся опять назад к тем же этапам, каковых по одной Сибири считалось 60, да сверх того еще 64 полуэтапа.
Этапную жизнь, собственно, арестанты любят, хотя она и представляет цепь стеснений и вымогательств, и любят они ее потому, может быть, что она как будто ближе к свободной жизни, дорогой для всякого человека. С этапами арестанты расстаются неохотно. Я видел их накануне каторги и могу свидетельствовать, что в лицах, в поступи, в тоне «Милосердной» и видится, и чуется гнетущая тоска и отчаяние. То и другое объясняется близостью места, при одном воспоминании о котором у всякого сжимается сердце; не всякий сумеет собрать силы и показаться наблюдателю сохранившим твердость духа, а тем более храбрым в поступках и поступи. Арестанты приходят на каторгу без денег, рваные, голые, без надежды и без родины…
Медленно подвигается партия к заводу, молчаливая, окруженная всяческою форменностью. Еще за несколько верст над арестантскими головами уже прогремела команда: "Приформиться!" – по которой все должны быть по местам, все в кандалах и при котомках. Все должны приготовиться как бы к какому великому таинству.
Вот партия на месте. Местное начальство принимает арестантов по списку.
– Надо кандалы расковать! – говорит оно на том основании, что дорожные кандалы возвращаются конвойным, а на каторге надевают новые.
– Да уж завтра сделаем это! Сегодня не успеем всех очистить и опять запаять, – замечает приемщик в простоте сердца.
– Расковать недолго! – объясняет этапный офицер, бывалый и много смекающий, и просит: – Мне очень нужно спешить назад, позвольте сейчас!
И в радости сердца, что и еще одну партию сбыл с рук благополучно и не лишился, за отсутствием беглых, годового жалованья в награду (по положению), этапный офицер велит партии снимать кандалы и в два-три часа очищает все ноги.
Мало опытный горный офицер удивлялся, видя, что арестанты снимают кандалы, как сапоги, но бывалый и догадливый знал, что на всякие замки существуют отмычки и что чем больше стеснения и строгости, тем больше исканий противоборства, а редкое искание у настойчивых и сильных людей не венчается успехом. К тому же арестантская партия действует огулом, артелью, в ней сто голов, сто умов.
Пришли рабочие люди слабыми, болезненными, отвыкшими от труда, а некоторые даже и вовсе к нему неспособными, но, что всего важнее, большая часть из них глубоко испорчена нравственно. Иные пришли сюда, за болезнями и остановками, на четвертый год по выходе из России, но пришли во всеоружии долгого опыта. Приспособляйте их к работе и доглядывайте: все это мастера, но на особую стать, все это такие рабочие, каких уже в других местах не встречается.
В тюрьме и на каторге преступники скажутся в иных находках и изобретениях. И там сумеют они перехитрить природным умом то, что прилаживается искусственно, поддерживается внешнею, грубою силою. На чьей стороне окажется победа, просим выслушать.
Глава II
НА КАТОРГЕ
Моя поездка на строгую перворазрядную каторгу. – Нижний промысел на Каре. – Первые впечатления и встречи. – Иванушка-дурачок на каторге. – Немец-идиот. – Разбойник в водовозах. – Поэт на каторге. – Каторжное жилье. – Цинга. – Каторжные. – Каторжные работы. – Смотрители. – Раскомандировки. – Казенные порядки. – Тюремные песни. – Взаимные отношения тюремных сидельцев. – Община в тюрьме. – Арестантский староста. – Доносчики. – Товарищество. – Смотритель и арестант Сенька. – Майдан. – Тюремные карты и карточная игра. – Азартные игры. – Юлка. – Юрдовка. – Едно. – Бегунцы. – Тюремный язык (argot). – Откупные тюремные законы. – Правила майдана. – Великий скандал. – Кабаки в тюрьме. – Водка тюремная. – Хитрость. – Влазное. – Тюремный капитал. – Парашники. – Рогожка. – Тюремные артисты и художники. – Оборотни. – Тюремные герои и исторические лица. – Туманов и живая пирамида. – Искусственно размываемые арестантские болезни. – Притворщики. – Тюремная аристократия и чернь. – Утка. – Каторжные забавы.
В начале декабря, темною ночью, подъезжал я к Нижнему Карийскому промыслу, одному из центральных мест, предназначенных для работ тех ссыльнокаторжных, которые, по судебным приговорам, назначаются в так называемые Нерчинские рудники.
Дорога шла в сторону от реки Шилки густым хвойным лесом. Вовсе не расчищенная, мало приспособленная к проезду, но в то же время (сколько можно судить по ныркам, т. е. ухабам) крепко подержанная, – дорога эта казалась торною. Ветви деревьев хлестали по лошадям, совались к нам в сани; надо было изловчаться, чтобы не потерять глаз, не исцарапать лица. К тому же дорога до того была узка, что мы принуждены были снять у саней отводы, хотя в то же время сани наши были приспособлены именно для таких окольных, малонаезженных дорог, и сани эта уже успели с достоинством выдержать испытание с лишком на тысячи верст.
Темнота и густота леса усиливали наши несчастья: мы налезали на пни и с трудом с них снимались. Сани без отводов валились в первую глубокую и покатую выбоину. Провожатые мои ворчали и сердились.
– Уж воистину дорога каторжная, – замечал один.
– Оттого и каторжная, что ведет на каторгу! – острил другой.
– Так-то, парень, поглядишь, – толковал первый, – дорога на каторгу кабыть узенькая, а подумаешь, так она выходит больно широкая.
– Туда-то широкая, – мудрствовал второй, – а оттуда-то опять узенькая. Попасть легко, а не вырвешься.
– Сказано, милый человек, не отпирайся ни от сумы, ни от тюрьмы.
Разговор кончился обоюдным вздохом.
Тишина и темнота давали широкий простор воображению: рисуй что хочешь, но не дальше заданной темы. Вот впереди то самое место, где соединяются вместе все тяжкие преступники, высланные из России, все убийцы, разбойники и грабители. Работа на этих казенных золотых промыслах полагается самою высшею мерою наказания для всех подобного рода злодеев. С ослаблением в последние десятки лет серебряного промысла в Нерчинских горных заводах и за уничтожением разработки рудников руками ссыльных преступников, Карийские промыслы (Верхний, Средний, Нижний и Лунжанкинский) представляли единственный материал для изучения истинного значения так называемой каторги. Я поехал туда с удвоенным нетерпением, тем более что во всем Нерчинском крае только при этих четырех промыслах (да еще при Петровском железном заводе) остались тюрьмы собственно каторжные. Ночь была до того темна, что мы с великим трудом могли распознать, где кончился лес и начался перелесок. Запах жилого места, несмотря на жгучий мороз, вскоре дал нам знать, что селение у нас уже на носу, а вот и самая каторга где-то тут же и очень близко. Откуда-то вырвался звонкий выкрик и раскатился в морозном воздухе длинною трелью, которой, казалось, и конца не было. Во всяком случае, вела эту ноту здоровая грудь с ненатруженными легкими. На оклик последовал ответ, который также со звоном рассыпался в разреженном воздухе по горам и заглох только в перелеске. У третьего оборвалась нота без трелей: голос осекся от морозной струи, судорожно захватившей крикливое горло. Оклики посыпались один за другим. Кричащие, что петухи, играли вперегонку, кто кого лучше и чище споет, и таких очень много! Значит, мы на каторге, но распознать за темнотою ничего не можем.
Успеваем припомнить прошлогоднее событие, рассказ о том, как на этих самых промыслах из какой-то тюрьмы вырвался один зверь и в одну ночь в разных домах зарезал пятерых, и в том числе погубил мать с двумя младенцами, так, из любви к чужой крови, без всякого повода и причины. На душе становится не совсем покойно: воображение говорит, что впереди нас зверинец, наполненный кровожадными и голодными зверями. К тому же зверинец этот плохо сколочен, дурно и не крепко заперт, но рассудок старается уверить в том, что, вероятно, и здесь полагается недремлющий сторож, имеется укротитель. Теперь, в неопределенной темноте, всего этого распознать мы не можем, но завтра, наверное, увидим.
Тяжелые, гнетущие сердце мысли не покидают нас и в уютной, теплой квартире, до самого утра, до рассвета. Пойдем же смотреть, что день укажет. Вот мы и на улице.
Направо и налево сильно подержанные, покривившиеся утлые хаты; они идут в порядке, из порядков образуется улица одна, другая, пятая. Перед нами целое селение, которое только тем и отличается от шилкинских и других, что оно бедное, совсем не подновляемое. Некоторые дома, как мазанки, грязноваты снаружи, заборы полуобрушенные. Видно, что голь и бедность строились тут; видно, она же и теперь тут живет. Но селение это, как известно, казенное: вот неизменный хлебный и соляной амбар, с неизбежным часовым, товарищи которого, а может быть, и сам он – кричали так усиленно и настойчиво громко целую прошлую ночь. Но где же тюрьма, частокол, острог – жилище главных хозяев селения? Смотрю кругом – и не вижу. Вижу опрятнее других чистенький домик – вероятно, начальника промысла, пристава; вижу другой, почти такой же, может быть, смотрителя тюремного. Но где же тюрьма, когда кругом обыкновенные обывательские дома, свободные от часовых и караула?
– Вон и тюрьма! – говорят мне, указывая на один из домов, наружною постройкою похожий на обыкновенные деревянные сибирские казармы. Дом и я принял за казарму, не разглядев только в окнах ее железных решеток, отсутствие которых в другом соседнем доме характеризовало настоящую, действительную казарму. Близость тюрьмы объяснилась отчасти соседством гауптвахты, несколькими физиономиями в папахах, принадлежащих сибирским казакам.
Но кто же эти люди, которые идут мне навстречу? Люди эти без кандалов, стало быть, не тюремные сидельцы, а, по всему вероятию, выслужившие свой срок ссыльнокаторжные. Вежливо предупреждают они поклон наш, снимая шапки и кланяясь. А вот и сами преступники, побрякивая кандалами, творят свое домашнее дело: сопровождаемые часовым, несут они вдвоем на палке ушат, накрытый тряпками. Из ушата этого валит пар и щекочет обоняние знакомым запахом национального «горячего», известного в казармах под названием купоросных щей. И эти преступники вежливо снимают пред нами шапку: смешно нам за вчерашние грезы и страхи, и готовы мы оправдаться только тем, что свет дневной всякие страхи гонит.
– Хотите вы видеть каторжного, вот вам первый из них! – говорит мне пристав промысла, обязательно вызвавшийся познакомить меня со всею подробностью своей службы.
– Иванушка, поди-ка сюда! – кричал он встречному.
Из ворот соседнего дома вышел человек в рваной шапчонке, с всклоченной реденькой бороденкой. Шея его была голая, армячишко совсем слез с плеч и даже рубаха у него была рваная. На ноги этого человека я уже и решимости не имел посмотреть. Иванушку всего подергивало: голова не твердо держалась на плечах, он то приклонит ее к правому плечу, то быстро отдернет к левому. Левое плечо ходуном ходит и самого Иванушку как будто всего ведут судороги, как будто чувствует он, что все его конечности не на своих местах, и он употребляет теперь все усилия, чтобы вправить их кости в чашки, в надлежащие и пристойные места. Видно, тяжело Иванушке носить свою головушку, да и с остальным телом мудрено ему ладить. По-видимому, он тяготится этою работой; на дворе слишком тридцать градусов мороза, а у него оба плеча буквально голые.
– Работа каторжная так его изуродовала? В серебряных фабриках наглотался он ртутных паров и качает теперь головой? Принял что-нибудь такого внутрь, по совету доброхота-злодея, чтобы умягчить для себя ядовитую болезнь или тяжесть каторги, и тем записать себя в разряд неспособных?
– Ни то, ни другое, ни третье, – отвечают нам. – Иванушку сюда именно таким и прислали, готовым.
Иванушка был перед нами.
– Где ты был? – ласково спрашивал его пристав.
– Снежку отгребал, покормили за то! – отвечал Иванушка и брызгал; голова как будто еще сильнее заходила на плечах, левое плечо так и приподнял он до самых ушей.
– А кто ты такой? – продолжал расспрашивать пристав.
– Я… Божий человек! – гнусливо растянул старичок.
– Как прозываешься-то?
– Поселенцом велят зваться.
– Откуда ты родом?
– С Вятки родом.
– За что прислан-то сюда?
– Я и сам не знаю. Мне бы уж домой идти надо. На родину пора… Там у меня тятька с маткой остались.
– Да ведь уже нельзя тебе возвращаться-то…
– Можно, говорят вон там. Иванушка указал рукою на тюрьму.
– Надо, слышь, только бумагу этакую достать. Без бумаги-де не пропустят и назад вернут. Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Рассею уйти, сколько прошу!! (и в последних словах послышался упрек).
– Всякий раз обращается он ко мне с этою просьбою! – объяснил мне пристав потом, когда мы оставили Иванушку.
Вот что мы слышали потом об Иванушке. В статейных списках (которые сопровождают всякого ссыльного, как паспорт и аттестат) он показан приговоренным в ссылку за скотоложство. Сам он рассказывает, что прислан сюда за раскол; знающие люди уверяли, что раскол усугубил только степень наказания. Но дело станет понятным и ясным, если представить себе, что Иванушка родился божеником (и не только к какой-нибудь умственной, догматической работе, но и ни к какой валовой домашней был неспособен) и попал за то в пастухи. Обездоленный идиотизмом (не помешавшим, однако, развиться в нем грубым, извращенным животным инстинктам), он в скотском стаде впал в тот грех, который увел его в самое дальнее место поселения. Ближние судьи судили в нем отвлеченную идею, дальние вершители не видали в глаза подсудимого. Приговор был подписан и, вот, приведен в исполнение. Над Иванушкою в тюрьме смеются, посмешищем он был и во всю дорогу по этапам. Все его любят, все его учат, кто чему может, и хорошему и худому. Ходит он по чужим дворам просить милостыню. Об одежде он не заботится; оденут другие, он полагает, что это так и следует, и спасибо не скажет. На Каре Иванушка человек неспособный и совсем лишний.
– Дай мне такую бумагу, чтобы мне в Рассею можно уйти! – просил он меня, придя ко мне на квартиру.
– Дал бы я тебе такую бумагу, да дать не могу.
– А мне в тюрьме сказали, что можешь.
– Дал бы я тебе, Иванушка, такую бумагу, которая бы тебя в богадельню увела и там оставила, да не в силах я.







