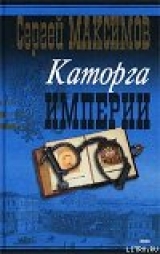
Текст книги "Сибирь и каторга. Часть первая"
Автор книги: Сергей Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
При дучарской тюрьме, на всякие потребы и нужды, находилось восемь человек караульных солдат. Перед тем как посадить всех этих арестантов на цепь, четверо солдат отворили решетчатую дверь, а за нею и тюремную, ведущую в каземат. Не успели солдаты опомниться, как арестанты накинулись на них всею массою. Сначала захватили четырех передних, а вслед затем и остальных четырех, задних. У тех и других цепные арестанты отняли тесаки, вырвали штыки из ружей, связали всех крепкими веревками и заперли за решетку. Четырех передних, сверх того, избили поленьями; унтер-офицера связанным бросили в угол казармы. Четырнадцать арестантов, выйдя из каземата, взломали в сенях чулан, взяли там ружья, патроны и порох. По мере того как проходившие обходом солдаты являлись в тюрьму, их также вязали и сажали к прочим за решетку. Сигналы подавал и приказания кричал один из них. Затем, когда все караульные были перевязаны, все четырнадцать скрылись. Пришли урочные часы смены. К дверям тюрьмы явился свежий часовой, ничего не смекавший, ничего не подозревавший. Расположившись у дверей, часовой слышит разговоры, прислушивается: голоса выходят глухие, из подполья. Часовой спрашивает:
– Кто в подполье?
– Унтер-офицер Плотников.
С трудом открывают наглухо заколоченную западню подполья, выпускают оттуда 13 человек солдат, а затем бьют тревогу в заводский колокол. На набат сбегается народ; сбивают облаву, делают окольный обыск, но безуспешно. В Уровское правление скачет нарочный оповестить о принятии должной осторожности и с приказанием "немедленно отправить людей, сколько можно для поисков". Правление снаряжает также облаву: 12 человек вооруженных крестьян идут на охоту и, соединившись с заводскою командою, преследуют беглых варнаков к пади (горной долине), называемой Широкою, устьем своим выходящей к реке Урову. В пади этой сделались приметны следы: измятая трава, пепел от свежих теплин, на следах видят и самих беглецов. Завязывается перестрелка: у одного крестьянина, на первых выстрелах, подстрелена лошадь и убит наповал один беглый. Тем и кончилась вся эта встреча, не имевшая, по неудобству местности, большого успеха. Между тем наступила ночь: ссыльные рассыпались по непроходимым чащам. На другой день искали их опять, но не нашли, а только через три дня поручик Рик напал на следы. Шесть человек беглых скрыты были в сене уровского зимовья крестьянином, взявшим с беглых за печеный хлеб 10 рублей. У деревни Подозерной, в колке[41]41
Колок – сырое место в пади с густою растительностью, среди слабой растительности в окрестностях.
[Закрыть] поручик Рик завязал с беглецами перепалку; четырех из них положил на месте, троих захватил живыми. Остальных на этот раз найти не могли и уже через пять дней поймали их на воровстве, на мельнице. Когда беглые вырвались и побежали, снарядили за ними погоню и в пади Каменке опять завязали с ними перестрелку. Еще двое беглых были убиты, третий скрылся в густой чаще леса, и его ни убить, ни схватить не могли…
Таковы подробности едва ли не самого большого побега изо всех нерчинских тюрем. На нем как будто оборвались, запнувшись, все другие попытки подобного рода. Отчаяние каторги искало других путей, заключенные производят другие вылазки, скромные и подспудные.
Задумав побег, арестанты нерчинских тюрем прежде всего хлопочут о запасе, предварительно смотрят на конец, не заботясь особенно о начале. Оно в свое время объявится само и по большей части удачно обставленным готовыми средствами, редко нежданными и случайными. Заручаясь новою, свежею, не рваною одеждою, арестанты в то же время затягиваются в неоплатные казенные долги, которые в круговом расчете делают через то побег неизбежным и единственным средством очистить свою чалдонскую совесть и покончить расчеты с тяжелою каторгою. Обыкновенно эта хлопотливая заботливость о запасе теплой и новой одежды принимается союзниками за сигнал на молчок. Вторым ясным признаком твердо выясненного решения признается то, когда задумавший побег начинает заводить особенную приязнь с теми товарищами, которые заведуют съестными припаса– ми, и с теми каторжными бабами, которые заведуют кухнею: близкие интимные отношения, наскоро слаживаемые и на время устанавливаемые при помощи водки, считаются в особых случаях достаточно обеспечивающими средствами. Сношения эти в тюрьмах, где рука руку моет и оттого обе бывают чисты, нетрудны и перед законами дружбы неизменно святы и состоятельны. Дело слаживается очень скоро, без задержки даже и на таком тормозе, который, по смыслу казенных учреждений, поставляется в лице арестантского старосты. Староста – свой брат, сам не раз уже вкусивший сладость побега и не раз уже отведавший бродяжьего брашна. Он это дело понимает и делу этому никогда не противник; таких уже людей и выбирают арестанты в это звание. К тому же опытный беглец сумеет сам ловко повести дело и никого не затянет в тину допросов и следствий, сам все примет на себя и концы запрячет. Имеющий намерение бежать готов сократить свой паек, ест очень мало, порции свои копит, не берет из кухни ни хлеба, ни мяса. Приспеет час; он выпросит то и другое гуртом: хлеба ковригу фунтов в 25, мяса полоть со свою голову; возьмет все это и спрячет. Спрячет он добро свое в хоронушку, без которой ни одна тюрьма не живет, да и жить не может. Хоронушка затем и потайное место, чтобы ни один дозорщик не осквернил ее своим нелегким черным глазом. Хоронушек этих в каторжных (да и во всяких) тюрьмах больше, чем в окольных лесах лисьих и собольих нор. Деревянная тюрьма, каковыми бывают все собственно каторжные тюрьмы, удобнее для такого рода тайников тюрьмы каменной.
Хоронушки эти обыкновенно устраиваются в подполье, по большей части около печей или за печками, под половицами, с ловко прилаженными и замаскированными покрышками. В каменных острогах (каковы губернские и уездные пересыльные) хоронушки делаются в самых стенах. В томском, например, в одном месте, около нар, стоило только вынуть кирпич, чтобы увидеть огромную пустоту, некогда (при постройке), вместо щебенки и кирпичей, наполненную щепами. Щепы от времени и сырости сгнили и образовали огромную хоронушку, в которую могла свободно поместиться вся громадная острожная собственность. На этот раз в ней сберегались инструменты всякого рода, посуда с водкою в стеклянных сосудах всех общепринятых величин, ножи, карты, табак и проч. Тайник этот закрывался ловко прилаженною доскою, покрашенною тою же краскою, какая желтела на стенах. В тобольском остроге у одного из прикованных на цепь нашли такой же тайник в стене напротив печи, и в нем три ножа, два подпилка, зубило, шило, 5 оловянных и медных печатей и кипы всякого рода бумаги. В тюменской тюрьме, в кухне под квашнею, нашли несколько вынутых кирпичей для пустоты, в которой пряталась водка, и так далее – в бесконечность…
Заручаясь, таким образом, съестным на первые, самые трудные дни побега, арестанты скопляют в неопределенные сроки и деньги. Для таковых хоронушки устраиваются около себя и деньги зашиваются в вороте рубашки, в вороте казенной куртки, где-нибудь в полушубке, под стельками, в подошве сапога и в выдолбленных каблуках его. Тогда весь секрет состоит только в том, чтобы уберечь накопленное от воровского глаза, ибо, как известно, тюрьма собственности не признает и ворует на обе руки и всякими способами. Чтобы вернее увеличить копилку новым приращением, арестант ложится в госпиталь, не берет денег на пищу, наполняет ее в заработанных грошах за предыдущие месяца на текущие, и, во всяком случае, на больничной койке он в лучших условиях, чем был на казарменных нарах, где, как известно, раскладывают карточный майдан, соблазняют вином и иными сластями.
Так или иначе, бывалый арестант без денег и провизии с каторжного места не снимается. Самый опытный и не один раз бывалый уходит из тюрьмы один: все остальные, и в большей части случаев, подговаривают товарищей-спутников, а новичок нуждается в вожаке: "без запевалы-де и песня не поется". Для побега выбирают всегда теплую пору и бегут обыкновенно весною, когда закукует кукушка (отсюда и выражения: "идти на вести к Кукушкину генералу" или "кукушку слушать, как поет"). Бегут во множестве летом, реже к осени и холодному времени, и только отчаяние и дерзкая решимость уводят арестантов холодами на зимние палящие морозы.[42]42
Вот что, между прочим, рассказывает в подтверждение нашего сведения хроника Петровского завода о числе бежавших, средним счетом, по месяцам: в январе из ссыльнокаторжных 2, в феврале 10, в марте 4, в апреле 65, в мае 35, в июне 32, в июле 21, в августе 10, в сентябре 28, в октябре 11, в ноябре 12, в декабре ни одного. Числовые данные побегов по другим тюрьмам идут почти в той же прогрессии, на изменение которой, конечно, имеют влияние климатические условия. До некоторой степени эти цифры можно считать барометрическим указателем, что такой-то зимний месяц в таком-то году был крепко морозен и такой-то весенний был также холоден, как в данном примере март и декабрь. Устоял декабрь с оттепелями – цифра побегов подцветилась; бежало много в январе – значит, теплый стоял, и тому подобное.
[Закрыть] Во всяком случае, весеннее время и летняя пора всего больше красны на каторге побегами даже и из таких тюрем, оттуда бегут всего меньше, каковы Карийские.
Самый побег для каторжных, когда готовы все путевые запасы, не мудрен.
– Была бы охота, – говорят сами бродяги, – а на что – так надо спрашивать – человеку и голова в плечи ввинчивается?
– А на что и солдаты такие к нам приставлены, что либо плут хуже нашего, либо такой, что только сваи им вбивать? Слушайте!
Года два тому назад (т. е. в 1859 году) на одном из карийских промыслов послано было несколько человек арестантов на работу. При них, по уставу и обычаю, находились конвойные: один из штрафных солдат, назначенных на Амур, но перевернутых в забайкальские казаки, а другой – молодой парень из тех старожилых заводских крестьян, которых в 40-х годах переименовали в казаки по имени только, но не на самом деле.
Пришли арестанты с конвойными на работу. Солдат из штрафных говорит товарищу, конвойному из казаков:
– Поди-ко, земляк, зачерпни водицы, что-то от щей нутро жжет, а я посмотрю за арестантами. Да шинель-то сними, а не то на офицера наткнешься: обругает и изобьет; в ответе будем оба.
Тот так и сделал: сходил на Кару за водой, вернулся назад. Сидит на старом месте один арестант.
– А другие где?
– Да гулять ушли, тебя не спросились.
– Как так?
– Да этак! И я бы с ними ушел, крепко звали, да отдумал. Им-то было вдоль по каторге (т. е. без сроку), а мне вот года два до конца осталось, не стоит!
– А шинель моя где?
– Затем-то тебе ее и оставить велели, что шинель твоя на одного арестантика поступить должна, на рыжего-то. На него она и поступила, поверь мне!
Вскоре прошли на промыслах слухи, что идет-де по почтовому торному тракту, днем и ночью, по направлению к городу Чите, один солдат с сумою и с ружьем и ведет с собою трех арестантов.
– Куда-де, земляк? – спрашивал купец, поставлявший на арестантов муку.
– Вот в Читу на допрос арестантов веду.
Через две недели пал новый слух от другого торговца, вернувшегося с верхнеудинской ярмарки: идет-де солдат под Верхнеудинском и ведет с собою только одного арестанта. Ведет он его также на допрос, как сам сказывал, в Верхнеудинск, из бегов-де поймал.
– Так и уведет (думали на Каре), уведет и сам уйдет беглый солдатик с беглым арестантом прямо в Россию или куда им надо, где им лучше понравится, если не попадут на какой-нибудь рожон. Да едва ли-де: в Сибири дороги тоже торные живут, да и глухи бывают, кроме купцов и проезду почти никому нет; кроме бродяг да беглых с заводов и прохожих других не видать, да раз в неделю арестантская партия кандалами прозвонит; обозы чайные тоже не во всякое время ходят. По дороге простору много.
Случай в Чите сделался известным даже в Петербурге.
Тамошние гарнизонные солдаты не только выпускали на ночь арестантов, но и сами ходили с ними на грабеж в городе и соседних селениях. Перед светом аккуратно возвращались: один на часы, другой в заточение. Виновных велено было строго наказать, но наказание не остановило преступления. Солдаты снова произвели несколько краж и украденные вещи спрятали на гауптвахте; офицеры оказались по следствию потворщиками. Еще в 1836 году генерал-губернатор Броневский свидетельствовал, что нравственность у тех казаков, которые вращались при полиции и находились в частом прикосновении с ссыльными, была невысокого достоинства.
Бывают на каторге другие дела и другого рода и вида побеги, когда один старается перехитрить другого, не разбирая (как в данном случае) того, что валит этого другого себе под ноги, в яму. Так как борьба эта ведется на взгляд и на счастье, почти втемную, то и ходы ее разнообразны и мудрены до того, что понять их и уследить за всеми ставками нет почти никакой возможности. Сами бродяги таятся, следы свои тщательно прячут, редкие рассказывают кое-какие подробности, но всегда, конечно, оставляют про себя и для товарищей всю суть и всю подноготную. Самое вероятное и неоспоримое одно только, что каторга дает обильное количество побегов.
Всех беглых по всему Нерчинскому округу за 10 лет (с 1847 по 1857 год) считалось 2841 человек таких только, которые за побеги наказаны были на заводах. Сверх того бежало еще 22 женщины, которые были пойманы и также наказаны на заводах. К 1 января 1859 года, т. е. за 11 лет, во всех Нерчинских заводах считалось в бегах невозвращенными: 508 человек горных служителей и 3104 ссыльных и ссыльнокаторжных, так что, по сравнению с количеством всего сосланного населения в бегах ровно 24 %. Таков учет общего горного управления в валовых цифрах. Частные исчисления также красноречивы, хотя мы и придерживаемся цифры собственно ссыльнокаторжных и не принимаем в расчет поселенцев (об этом дальше, в своем месте). Знаменитый Петровский железоделательный завод, единое из детищ того же Нерчинского горного округа, тоже считал свою усушку и утечку. К 1 сентября 1851 года у него нашлось в бегах, тоже в десятилетней сложности, всех беглых 740 мужчин и 5 женщин. К 1 января 1852 г. (т. е. в два осенних и один зимний месяц) успело бежать еще 26 человек, стало всего в неустойке 771 вольная душа. Из этого числа поймано только 19 человек, исключено за десятилетнею давностью 31, осталось – стало быть – в бегах 716 мужчин и 5 женщин. Некоторое число таковых завод имеет получить назад под названием оборотней, возвращенными из России в той цифре, которая выясняется в тобольском приказе о ссыльных. Там, между прочим, наверное, утверждают и, несомненно, доказывают, что число пригнанных обратно в Сибирь на каторгу и поселение, с 1833 по 1845 г., двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят два человека (в том числе 345 женщин) и что одних каторжных в течение десяти лет (с 1838 по 1847 год) принято из России с возвращенными через Тобольск 2446 мужчин и 27 женщин. Конечно, между ними не всякий укажет на то, с какой он бежал каторги. Бродягами давно уже приспособлен способ сочинения псевдонимов, венчающихся общим местом "не помнящих родства"1.
{1 Обязуясь подробным исследованием вопроса о бродягах во всем его многостороннем и широком развитии, мы на этот раз продолжим наблюдения наши над цифрами беглых с сибирских заводов и берем намеренно года на выдержку, не подчиняя их системе и при этом указывая первые попавшиеся нам на глаза. Так, например, на Александровском винокуренном заводе с 1 января 1846 г. по 1 ноября 1859 г. бежало с работ 1013 мужч. и 19 женщ. Из этого числа домашними средствами поймано (а в том числе, конечно, и добровольно пришли в зимнее холодное время) только 277 мужч. и 4 женщ. В 1833 году бежало из этого завода 633 чел., в 1834-м – 770, в 1835-м – 754, в 1836-м 591, в 1837-м – 293, в 1838-м – 32, в 1839-м – 76, в 1840-м – 40, в 1841-м – 71, в 1842-м – 82, в 1843-м – 98. Уменьшилась в последние годы цифра побегов оттого, что в завод стали меньше присылать рабочих и заметно ослабел тюремный надзор с уменьшением команд, обращенных на другие заводы. В 1843 году из 98 человек возвращено было только 8. Из Успенского винокуренного завода (Тобол, губ.) в 1860 г. бежало каторжных 160 человек да весною следующего года успело удрать еще новых 22. Беглые по другим заводам Восточной Сибири стояли в таком количестве:

Все это, конечно, в десятилетней сложности с увеличением цифры от новых побегов и с уменьшением ее за вычетом по закону десятилетней давности.}
Чем и как обставляются побеги с каторги, мы объясним несколькими очерками, сообщенными частью интересовавшимися этим делом, частью самими заинтересованными в нем. Разряд последних разбивается для нас на две категории. К первой и главной мы относим тех бывалых бродяг, которые снимаются с места для пути дальнего елико, возможно, и не спуста. Они отлично знают дорогу, и эта издавна пробитая тропа называется варнацкою дорогою, имеет определенное направление по лесам, жилым и нежилым местам и опытного бродягу уводит далеко, уводит в Россию. Истинный варнак снимается с места для того, чтобы по возможности подольше пожить на своей воле, старается по мере сил не возвращаться на каторгу, искусно заметая следы, или если уже для него оборвется счастье, то запишется в оборотни, но не скоро. К другой категории бродяг мы относим тех ссыльнокаторжных, которые бегут на авось, иногда просто прогуляться, побродить в лесу и на воле, «единственно для отбывательства от казенных работ», как привыкли выражаться официальные бумаги. Такого рода беглые – жиганы, мелкота – зачастую не уходят дальше Байкала. Наступающие холода на измызганную за лето в ходьбе по лесам казенную одежду, незнание дороги, приемов и правил бродяжьего дела – все это таких мелких бродяг, без всякого участия и усердия со стороны полицейских начальств, сгоняет на каторгу. Такие бродяги с первыми осенними морозами являются в ближайший город и на суд с повинною головою и с покорными руками и ногами. Похождения таковых немногосложны.
Бегут они, при первой открывшейся возможности, наугад, куда глаза глядят, бегут обыкновенно шайкою в том предположении, что на людях и смерть красна. Если бегут без вожака, то, стало быть, путаются, наталкиваются на множество случайностей и в большей части случаев не выдерживают, т. е. попадаются. Вот что рассказывал один из таковых:
"Бежали мы втроем с «хвостов» на Среднем промысле. Ходили целую ночь и прошли кабыть много.
– Верст, мол, братцы, десятка два будет?
– Будет, слышь.
Стало светать, а мы в пади какой-то.
– Идем, мол, товарищи, куда нас эта падь поведет.
– Валяй, – говорят, – перекрестившись!
Шли, шли падью, селение какое-то перед собой увидали, испужалися.
– Не назад ли, товарищи?
– Чего назад? Гляди вперед, затем ведь и ушли. Разбирай, какое жилье!
Поднялся я на гору, глядел, глядел…
– Леший, мол, нас, ребята, водит да и леший-то не наш, а казенный, промысловой.
– Чего-де так?
– Поглядите-тко, никак к Верхнему промыслу пришли.
Стали разглядывать, приметы распознавать, так и есть: Верхний промысел, и тюрьма ихняя, и разрез тутошной, и пристава дом увидали.
– Пойдем, мол, ребята, туда, спокаемся, а там поживем, повыспросим, дороги узнаем. А что-то, мол, мы и бродяжить-то не умеем: не рука знать!
Стали мы толковать, стали промеж себя спорить. И ночи-то жаль терять занапрасно, и тюрьму-то мы видим впереди под горой и разрез; желоба по речке-то, по Каре-то этой, обозначались. Черт, мол, с вами, а теперь у нас день, пойдем лесом. Бери левей! ворочать не станем.
Так и решили, а пошли опять наугад, пошли левей да и взяли прямо. И шли мы еще день. Ночью спали. На пятые сутки живот тосковать начал. Сказал я об этом товарищам.
– И у нас, слышь, тоскует.
– Да по ком?
– Не по артельном же, слышь, хлебе, а надо полагать, захотело брюхо получше чего, надо быть, горячего.
– Ягоды бы ему дать хорошо, не спесиво оно! – шутим это.
А где ее возьмешь, ягоду-то эту? Леса стоят все какие-то не такие. Кочки между деревьями-то да трясины и густым-прегустым мохом затянуло все; идешь словно по перине, а ягод нету. А брюхо-то с голодухи так и выворачивает, словно рукавицу.
Станем себя утешать, разговаривать, а оно, брюхо-то, нет-нет да и завоет, ровно в нем на колесах ездят. Тошно ему стало, голос подает.
Идем вперед. Забор увидали. Стали оглядываться, нет ли жилья какого? Слышим, один товарищ заревел, словно с него живого лыки драли. Мы кинулись, смотрим: в яму какую-то провалился и зевает по-медвежьему. Вынули мы его.
Другой товарищ смекнул:
– Это-де, братцы, для козуль настораживают. Вот в воротах-то, бревно на волосках повесили. Чуть упадает, то и раздавит. Много, слышь, нашего брата, не ведая, этак свою жизнь кончали. Хорошо еще, что товарищ в яму попал, а не в ворота прошел.
Перелезли мы через заплот (ограду) дальше, а в ворота не пошли. Стал нам товарищ рассказывать, как бревно так ловко прилажено, что козуля пролезет в ворота да дотронется только до бревнушка, тут и смерть ее. Вышли мы в поле. В поле стадо баранов ходит, а при них пастух мальчишка. Увидал он нас, бросился опрометью прочь от нас. Мы его звать, не слушает, мы божиться, стал подходить. Кричит нам:
– Не убьете?
– Нечем, мол, дурак экой! смотри, пустые идем. Дашь нам есть, еще денег тебе дадим.
– Я не дам, боюся вас! А подойдите-де, сами возьмите, вон под кустом хлеб лежит.
Я пошел. Нашел тряпичку, развернул, хлеб увидал, схватил его в обе руки. Хотел сожрать его в три раза, так уж и глазами наметил, как надо и зубы наложил, да вспомнил товарищей. Так у меня словно хлеб-от кто оторвал ото рта. А умом-то мекаю: не стану, мол, есть, делиться велят; зачем и идем-то мы вместе и другой кто не сделает так. Думаю это, а есть еще пуще мне тот хлеб захотелось. Запах-от его слышу, так живот-от мой и заворчит и заворочается в нутре-то. Стало мне на ум всходить, что не донести мне хлеба, съем я его, а там пущай они приколотят меня за то. Тут товарищи-то и закричали. А я стою на том же месте, где хлеб взял. Закричали товарищи-то, стало мне на ум другое приходить: съем один – сыт буду, с товарищами поделю – никто сыт не будет, коврига-то малая. Сдумал я так-то, стиснул краюху зубами, зажал глаза, дух забрал в себя, да уж и не помню, как припустил бежать. Бежал я что было силы, во все лопатки. Прибежал к товарищам, берите, мол, да и мне оставьте!
Разделили хлеб поровну. Дальше пошли. Опять бредем целый день. К вечеру деревенька помеледилась.
– Пойдем, товарищи, в крайнюю избу, будет маяться-то нам.
– Стучись, товарищ!
Постучались мы, впустили. Мужичок не старый сидит и таково ласково смотрит на нас.
– С Кары, ребята?
– С Кары, мол, дядюшка.
– Которые сутки не ели?
– Пятые сутки крохи не видали.
– Садись, – говорит, – ребята, за стол!
Сели. Вынул он щей из печки. Налил их в чашку, хлеба туда накрошил, дал постоять, ложку взял: "Вы-де сами ребята, не притрогивайтесь, меня слушайте". Зачерпнул он щей с хлебом, мне дал, опять зачерпнул ложку, товарищу поднес, и так всех оделил по одной и по другой. Мы еще попросили, не дал. Отошел от стола и чашку со щами спрятал. Спрашивает:
– Вы, ребята, однако, впервые надо быть?
– Что, мол, такое впервые?
– Бежите-то?
– Не случалось, мол, ни разу о сю пору, впервые бежим.
Усмехнулся.
– Однако ложитесь, говорит, спать теперь. Дам я вам еще этих щей, то разорвет брюхо, помрете. Много-де ко мне заходило вашего брата, я это дело знаю, как поступать.
Уложил он нас спать в подъизбице. Спали мы крепко; как легли, так и заснули, и на ум не пришло поопастися. Да и то думать надо: нам на ту пору все равно было, что стариковы щи хлебать, что заводскую березовую кашу. Черт побери все! Однако проснулись на воле. Старик опять щей вынес: по три ложки нам дал и те не вдруг, а в очередь. Опять нас спать уложил. Поднялись мы опять, он нас накормил досыта и на дорогу дал нам хлеба и совет:
– Ступайте вот теперь прямо! На пути вам будет распадок. Дорога пойдет прямо в него – не ходите, тут казаки ловят. Берите лучше в правую падь. Там далеко есть заимка, в ней казак живет; хлеба не сеет, хлеб не ростит. Белкует: ходит с ружьем за белкой, за козулей ходит, пасти поедные и огородные ставит. Казак этот охотно нанимает вашего брата – варнака в работу да платится за послугу свинцом. Так вы это помните и на носу зарубите!
Послушались мы приказу, в левую падь не ходили, пошли в правую и в заимку постучались, силушки нашей не хватило. Есть стало нечего, весь хлеб вышел, а днем спали, по ночам шли. Да может, мол, старик по насерду на этого казака сказывал. Зашли. Казак ласковый такой, встретил, угощает, суетится:
– Сейчас же, на ваше счастье, козулю убил, ешьте! Покормил он нас. Сговаривать стал:
– Оставайтесь, кормить вас буду, вы только работайте, и работа легкая. А спрячу-де вас так, что никакой сыщик не доберется. Бывало дело!
Говорит, улещает, все норовит, как бы за самое сердце наше ухватить, да мы помним стариков наказ – на соблазн сдаваться не хотели. Проспали мы ночь. Поутру рано ушли так, что он и не приметил, спал еще. Под вечер смотрим, догоняет он нас верхом на лошади и винтовка у него за спиной торчит. Стал подъезжать, винтовку на руку взял, стрелять захотел, прицеливается. Бросились мы со всех ног на него все трое. Один сгреб его сзади, оборвал ремень и винтовку отнял. Поднял он коня на дыбы, ускакал. В сумерки опять нагоняет и винтовка в руках у него другая. Кричит нам издали:
– Отдайте винтовку мою!
– Не подходи! – отвечаем, – мы сами в тебя палить станем, убьем.
Толковал он с нами долго, а винтовки мы ему все-таки не отдали. Он повернул коня назад, а нам вслед пригрозил:
– Так ли, не так ли, а вашу-де вину и свою обиду на других варнаках вымещу.
С тем он и уехал. В одной пади мы на народ наткнулись, опознались: беглыми с Петровского завода сказались. Сговорились мы идти все вместе; стало нас 12 человек, веселей кабыть стало и страху не в пример меньше. Разложили мы огонь, теплину сделали. Товарищи ушли в лес поискать ягоды либо кедровых орехов. А то есть курчаватая такая сарана, корень ее больно сладок, едим мы ее и сыты бываем. На нее нам в тюрьме бывальцы указывали: ищите-де ее и ешьте, не бойтесь! Я остался у огня, а на огонь медведь вышел. И ружье есть, да пороху нема. Целился я в него, не испужал, а на меня же полез. Начал я бегать кругом огня, на огонь он не полез; тоже и сам стал ходить за мной и все норовил лапой сгрести меня. Однако устал медведь, в лес ушел. Товарищи вернулись, пошли мы дальше. Опять огонь разложили. Смотрим, опять, надо быть, тот же медведь к нам из лесу вышел и целое дерево в охапке несет. Мы за большое дерево тут подле спрятались, а кто и на самое дерево влез. Подошел он к огню, хватил изо всей медвежьей силы: погасить хотел, да только искры по сторонам полетели, да головешка больно высоко подпрыгнула. Осердился он, стал огонь загребать лапами и так-то старался! Тут один товарищ догадался: подошел к нему сзади, да так-то хватил его по задним ногам толстой палкой, что он аж показал нам, как салазки умеет делать, даром что был неученый и с татарами в Рассее на цепи не хаживал. Полежал это он, поревел да и надумал хорошее дело через голову кувыркаться; ушел, значит. На третьи сутки опять он брел за нами следом, на четвертые – опять пужал, на пятые как отстал, так уж больше и не показывался.[43]43
На тему встреч с медведем вот еще один рассказ беглого: «Идем, отдавшись на волю Божию. Иной раз, кроме зайцев, редко кто из живых встречается, а ингодь наш брат и на медведя напарывается. Мне раз встретился; было ружье у меня, надо бы его поставить на сошку да стрелять ему в сердце, так заряд-от у меня был беличий. Выстрел рассердил только. Да дерево мне на боку подвернулось – спрятался. Стал он меня ловить, а я успел из-за пояса топор выхватить; хотел рубить по лапам, да он всякой раз сдогадается и отобьет топор. Попятился раз, сгреб в лапы пень, положил его к дереву, притащил другую корягу, третью, четвертую и опять полез на меня. Рассудило лесное чудовище, что пни помешают мне бегать, да и я не у него учился: через пни прыгал, да успевал и отталкивать временем тем из-под ног своих. Свечерело; медведь уходился, да и я весь в мыле. Стали мы отдыхать оба. Он отошел и лег на землю, голову положил на пень, глаза навел на меня. Он лежит, да и я стою, не шевелюсь. Думаю: шевельнись я – и он вскочит. Легонечко, приемов, надо быть, в 20, так и этак крадучись от зверя, успел я зарядить ружье. Наступила ночь и темно стало. Зарядил я ружье. Восток закраснел, а там и рассвело и медвежьи глаза не так стали страшны. Успел я поставить ружье на сошку и не снимался с места, чтобы не огорчить его. Тихим манером, ему не в приметку, стал я наклоняться к прикладу, а глаз с него не свожу, так вот поедом и едим друг дружку бурлаками-то своими. Обманул я его, выстрелил; он словно угорелый метнулся на меня, хватился о дерево так, что-то застонало даже. Растянулся. Я опять зарядил всем зарядом, что было его у меня, смекаю-то, что опять, хитрый человек, обманывать меня выдумал, мертвым прикинулся. Я резнул по нем полным зарядом в другой раз, да он уж и не сказывался. А я дальше пошел».
[Закрыть]
На шестые сутки попали мы на казаков.
– Это вы-де, – сказывают, – в нашей деревне казака убили?!
Схватили нас казаки – и представили!"
В рассказе этом, имеющем поразительное сходство со всеми другими, для нас яснее других, важнее прочих одна подробность: это именно готовность сибирских крестьян принимать и обогревать ссыльных. В этом случае действует столько же и чувство сострадания к голому и голодному искателю приключений – чувство, завещанное отцами, закрепленное их примером и поваженное долгим опытом сколько и экономические причины и условия сибирского быта, перед которыми бессильны и ничтожны всякие угрозы и страхи быть на суде и в ответе за укрывательство беглых, за пристанодержательство, передержательство. Сибирский хозяин из крестьян и казаков всегда затруднен и всегда сильно нуждается в работнике, которых особенно мало в Забайкалье, обездоленном тремя тягами: привлечением большого числа рабочих на Амур на казенные работы, наймами их на частные (витимские и чикойские) золотые промыслы, а в то же время и в извоз под чаи, ходившие в огромном количестве из Кяхты. Между тем беглый с самых давних времен очень дешевый рабочий; за одни харчи, из-за одного хлеба, он готов работать все лето и на страде в лугах, и на пожнях. Входя в экономические сделки, становясь в условия кругового обязательства, оба (и наемщик и батрак) остаются в одинаковой ответственности и перед судом, и законом, и перед личною собственностью. Обычай этот так прост и долговечен, что держатся его с самого начала заселения Сибири ссыльными и не только обыватели ближних к каторгам мест, но и дальние жители Западной Сибири, Урала и проч. Случаи мести, затеваемой бродягами по временам и вынуждаемой отказом в гостеприимстве, в виде подпуска красного петуха (т. е. пожара), держат этот обычай настороже и во всегдашней готовности облекаться в факт. Факты же эти до такой степени общи и часты, что ими преисполнены рассказы самих беглых и все официальные бумаги архивов. Отрабатывая у наемщиков урочное время, бродяги идут себе дальше пытать счастья, искать новых приключений. Большинство из них с голодухи скорее ограбят какой-нибудь казенный транспорт (почту, напр.), чем вскинутся на чемодан проезжего. Сибирские дороги славятся безопасностью в сравнении со всеми русскими дорогами, хотя могли бы и имеют право отличаться противоположным свойством. Отбиваются бродяги и совершают убийства только в таком крайнем случае, когда встречают вооруженное нападение, озлобленность и жестокость со стороны нападающих. Предательство вызывает месть, и месть эта является тем жесточе и немилостивее, чем преступнее и испорченнее сердца бродяг. Случаи такого рода, повторяем, редки. Голод тут играет немаловажную роль, и бродяга собственно в сибирских странах – мирный путник, не решающийся никого обидеть из боязни самому быть обиженным.
У некоторых страсть к бродяжничеству принимает форму какого-то особого рода помешательства, со всеми признаками настоящей серьезной болезни, которая требует радикальных средств, мучит и преследует больного, как какая-нибудь перемежающаяся лихорадка, имея форму болезни периодической. В Петровском заводе имелся один из таких, известный всем содержавшимся там декабристам и, по исключительности своей, памятный многим из встреченных мною. Привычка шататься развилась в нем в такую болезнь, что с каждою весною он начинал непременно испытывать ее тяжелые, упорные припадки. Он начинал всех бояться, делался задумчивым, молчаливым, равнодушным ко всему, его окружающему; старался уходить куда-нибудь в угол, прятался в укромные и темные места. На работах он испытывал тоску, которая доводила его до истерических слез. Слезы эти и тоска разрешались обыкновенно тем, что он улучал-таки время и убегал. Больной пропадал обыкновенно все лето, к осени же появлялся в завод оборванным, исхудалым, но веселым. Лицо его было исцарапано, руки и ноги в синяках и в занозах; знак, что больной гулял не просто, не жил в наймах по заимкам (иначе принес бы мозоли), но, совершая свои экскурсии, прятался от людского глаза в лесных чащах. В последних он даже подсмотрен был товарищами, верившими, что все его удовольствие и самое главное наслаждение состояло в том, чтобы во все лето не видел никого, и вся забота хлопотливо направлена была к тому, чтобы хоронить свои следы от всякого. Отшельник этот на все летнее время отвыкал от хлеба и легко примирялся с дикою пищею, употреблял ягоды (бруснику, малину и боярку) и разные коренья и травы (черемшу, сарану, мангирь и белый корень, называемый козьим зверобоем). Приходя от трав в крайнее бессилие, он изредка приближался к селениям или на страды и воровал хлеб, но очень редко выпрашивал его и довольствовался им только как лакомством. Возвращаясь с прогулок в завод по доброй воле, принужденный лишь наступающими крепкими осенними холодами, против которых не могла устаивать его оборванная и измызганная одежда – отшельник все-таки по положению получал наказание розгами. Наказание это он не вменял ни во что и для болезни своей не считал его ни за хирургическое, ни за терапевтическое средство. Затем он всю осень и зиму весело жил на работах, работал за двоих послушливо и беспрекословно, так что всех приводил в удивление, но трудился таким образом только до весны, до кукушки. А лишь только снова начинала она свою заветную, немудреную песню, арестант начинал испытывать прежние припадки, столько же мучительные и невыносимые. Шесть лет ходил он таким образом в лес и приучил тюремное начальство смотреть на его дела сквозь пальцы, снисходительно. На седьмую весну пришел отшельник к смотрителю, упал ему в ноги и просит:







