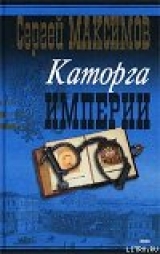
Текст книги "Сибирь и каторга. Часть первая"
Автор книги: Сергей Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Хороший флюс для арестантской практики также немудреное дело: стоит наделать внутри щеки уколы иглою, пока не хрустнет (но не прокалывают насквозь), а затем, зажав нос и рот, надувать щеку до флюса: щека раздуется, покраснеет, и на рожистое воспаление это очень похоже. Чтобы вылечить – стоит проколоть щеку снаружи насквозь и выпустить воздух.
Стягивая под коленом кожу в складки (с захватом жил) и продевая сквозь морщины свиную щетину на иголке, добивались искусственного сведения ноги; щетина оставалась в жилах. Распарив ногу в бане и вынув щетину, можно и в бега уйти.[38]38
Вместо щетины для этой же цели берут нитку из дерева, называемого волчье лыко. Кончик нитки оставляют торчать наружу, чтобы после вытянуть, ибо лыко не щетина, держать долго нельзя; делается краснота и приключается большой жар.
[Закрыть] Сушат ногу от колена до ступни тем, что под самым коленом перетягивают саржевым или шелковым платком и поманивают водою, и пр., и пр.
Впрочем, некоторые арестанты наивны, как школьники, и идут на смотр к доктору, наколов булавкою десну или ноздри, и, приняв кровь на рубашку, уверяют в кровохаркании; другие (геморроидалисты) подвязывают живот и жалуются на спазмы. Однако в тех и других случаях легко достигают цели, доктора уступают их настоятельным заявлениям на отдых и, обманутые и не обманутые, застаивают у ссыльных рабочих несколько времени, давая им перевести дух и расправить натруженные члены на больничных койках. Зато и арестанты считают их своими первыми благодетелями и на поселении всегда с любовью вспоминают о них.
Замечательно, что подобного рода притворщики (по личному признанию самих арестантов) в тюремной иерархии занимают невидное место. Это – плебс, черный народ, который возбуждает в товарищах малое сострадание в таком только исключительном случае, когда подлог их обличится, не достигнув цели. Сами они по большей части не заботятся о возвышении своего нравственного уровня, мало блюдут за своими падениями и довольны бывают тем унижением, в какое сумеют поставить их товарищи-аристократы из бродяг. Их обыкновенно называют «жиганами». Роль их тогда бывает незавидна и была бы тяжела для них, если бы они в то же время не были (за недостатком практической изобретательности) крайними бедняками, голышами. Конечно, в тюрьме найдутся средства кое-как добыть кое-какие деньги, но для того требуется унижение, а раз униженному далеко до уважения, даже и до такого, каким, например, пользуются бродяги. Бродяга скорее вытерпит всякую невзгоду, вынесет на обтертых и привычных плечах всякую каторжную работу, раз десять обманет сторожей и пристава и смотрителя, но до крайнего унижения своей личности не дойдет. Бродяга не унизится перед богатым, не пойдет он по заказу его уткою1, не согласится, когда заломается арестант-богач, чувствуя в кармане деньги, и велит подать ему воды, принести какую-нибудь вещь, чтобы за такую услугу, за удовлетворение праздного каприза, выдать прислужившемуся грош или пятак.
Настоящий бродяга настолько практик, чтобы но быть трусом и побежденным, и настолько свободен он и не побежден, что готов попасть опять на старое; каторжное пепелище, но предварительно побывав в бегах. В бега, одним словом, идут только те люди, которые одарены волею и характером, точно так же как в госпиталь ложится только живой мертвец, побежденный и безнадежный.
Из нерчинских тюрем (да и вообще из тюрем Восточной Сибири) побеги совершаются замечательно часто и в огромном числе. Какие обстоятельства предшествуют и какими случайностями обставляются побеги – этим всего более обрисовывается каторжный быт.
{1 В числе игр, выдуманных арестантами в тюрьмах для общего и частного (по заказу богачей) развлечения, чаще других употребляется эта утка. Желающему быть общим посмешищем и получить за то, смотря по обоюдному договору, пятачок серебра или гривенник, арестанты связывают на спине обе руки веревкою и таким образом, чтобы между ладонями можно было укрепить сальную свечку. Свечка эта зажигается. Нанятый шут обязан, не погасив огарка, ползти на брюхе с одного края казармы до другого и по тому грязно-скользкому полу, каков, например, в тюрьме Нижне-Карийского промысла, где эта игра в большом употреблении. Прополз потешник на брюхе, не погасив свечки, он получает договоренную монету; погасил на дороге – даром все труды пропадают.
– Да еще и попадает сверх того! – прибавляли мне рассказчики.
– Бьют?
– Бить не бьют, а поднимут на глум, да так, что в этот раз битье-то, пожалуй, лучше бы…
Замечательно, что все тюремные забавы – как и быть, впрочем, следует – грубого дела и большею частью основаны на испытании крепости зубов, волос, кожи и пр., на манер семинарских бурс. Таковы, между прочим, и те игры, которые известны, например, в петербургском остроге: масло ковырять, покойника отпевать, пальто шить, колокола лить, на оленях катать, присяга на верноподданство по замку, Киршин портрет, жгуты, голоса слушать и проч. В сибирских тюрьмах любимая забава прилепить спящему к подошве голой ноги смазанную салом бумагу и зажечь ее.}
Глава III
В БЕГАХ
Нерчинские горы и богатство их. – Серебро. – Зерентуйский рудник. – Внутренность рудника. – Рудниковая каторга. – Штольня. – Шахта. – Лихтлог. – Несчастья на каторге этого вида. – Рудниковый хозяин. – Заводские служители. – Что такое каторга? – Каторга золотых промыслов. – Заводская каторга: солеваренная и винокуренная. – Улучшения на каторге. – Побеги с каторги во всем разнообразии способов. – Побеги из каторжных тюрем. – Беглый на балу. – Побег цепного. – Голый беглец. – Пособники. – Побеги с каторги. – Варнак и чалдон. – Лиса. – Побег на уру. – Самый крупный побег. – Хоронушки. – Приготовления к побегу. – Время побегов. – Первые шаги в бегах. – Неудачи. – Помощь караульных. – Часовые в бегах. – Обилие побегов. – Варнацкая дорога. – Зверское мщение. – Сыщики. – Бурята. – Похождения и злодейство бродяг. – Медведи. – Пристанодержательство. – Заимки. – Старовер Гурий Васильевич. – Преследования. – Кандалы. – Лесная птица во всем разнообразии. – Саранча. – Горбачи. – Избиение целой шайки бродяг. – Губернатор Руперт. – Сыщик Карым. – Убиенные горы. – Коурый. – Безопасные бродяги. – Левицкий на Лене и в нерчинской каторге. – Кяхтинский мещанин. – Бродяги на Байкале, на Ангаре, под Казанью, в Петербурге. – Бродяжья судьба в дороге. – Сибирские притоны и обычаи. – Пределы бродяжничества. – Вооруженные черкесы в бегах. – Черкесы в степи. – Бродяги в Астрахани.
Отъезжайте от так называемого Большого Нерчинского завода верст на десять (хотя, например, по направлению к Зерентую, на север), выберите возвышенное место на попутной горе и оглянитесь назад! Полный, широкий кругозор неба, к которому так привыкает глаз на безбрежных степях и пустынях, на этот раз уменьшился больше чем наполовину и отливает вверху неопределенным, примечательно тусклым светом. Живые и резкие вечные краски его потускнели, истощив свою силу перед тем, что уменьшает округлость и широту небесного горизонта, что заслоняет от нас больше, чем половину его, и что распласталось внизу. Непрерывною грядою и цепью тянется там сплошная стена гор, подтянувшихся одна к другой и сплотившихся вместе. Форма этих гор и этой цепи на первый взгляд поражает чем-то оригинальным, своеобразным и незнакомым, но, всмотревшись, узнаешь, однако, кое-какие черты знакомые, выясняешь кое-где определенные образы.
Море, казалось нам, свободное и беспредельное море всколебалось до самого дна в то время, когда внутри его скопилась громадная сила и поверхность его, не выдержав напора внутренней силы, широким и порывистым взмахом разбилась на густые и широкие волны. Волны эти разметались в прихотливо-разнообразных группах, где простому глазу и издалека приметны даже и брызги, густые и мелкие, сбившиеся на хребтах волн, и самая волна, во всю длину ее, вздувшаяся до того состояния, когда ей предстоит одна возможность уничтожиться от собственной тяжести и исчезнуть во вновь набежавшей. И вот, в это самое время, когда внутренняя сила, управляющая волнами, готова была на новый напор снизу и на ту же работу наверху, – взволнованное и рассерженное море вдруг онемело и застыло. Черты и краски, которые могли исчезнуть без следа, чтобы уступить место иным и свежим, стали теперь вечными и неизменными. Мало таких картин на всем широком просторе России, хотя и много там гор, холмов и пригорков! Мало таких гор и по внутреннему достоинству, по подземному богатству их, как горы Нерчинского края, хотя и есть в России Урал, Колыванские и Кузнецкие горы. Серебром наполнены их горные недра; по золотому песку текут выходящие из гор этих реки и увалами, своеобразным видом, отливают все эти горы потому именно, что обладают они таким особенным даром, что стоит за ними громадное, до сих пор еще вполне не оцененное преимущество. Некрасивы они, когда подойдешь к ним слишком близко. Сумрачны издалека эти каменные горы, голые, скудные растительностью, силу которой как будто взобрали в себя, обездолив поверхность, внутренние богатства, подспудные и подземные сокровища этих гор. Но вид на группу, на всю сплошную массу Нерчинских гор издали, не теряет всего обаяния и всей своей прелести, подкупаемой, сверх того, тем представлением, какое дают практические наблюдения. К ним-то мы и подходим теперь, опираясь на те данные, которые добыты горною наукою.
Нерчинский горный округ, наполовину обследованный, но далеко еще не вполне разработанный, представляет одно из сильных и богатых мест в свете по разнообразию всякого рода горных пород металлов и минералов. Окрестности Петровского завода и Тункинские горы, в западной половине Забайкалья, богаты магнитным железняком. Тот же железняк находится на восточной стороне Яблонового хребта, разделяющего Забайкальскую область на две половины: по рекам Урову (впадающему в реку Аргунь) и по Тайне (притоку реки Газимура). Горы между Нижнею и Среднею Борзею столь богаты тем же магнитным железняком, что тамошние жители называют их не иначе, как "железною цепью". Системы рек Витима и Чикоя (в западной половине Забайкалья) и Карийская и Шахтаминская системы (в восточной половине) давно уже известны разработками золота. В этой последней части везде, где господствуют гранито-сиениты, почти сплошная золотоносная система; таковы россыпи: Лунжанка, Казакова, Култума, Солкокон, Тайна, Быстрая и другие. В 1855 году поисковая казенная партия нашла золото и в западной части Нерчинского округа, в глухом, необитаемом юго-западном углу, ограниченном китайскою границею и Яблоновым хребтом, разделяющим округ на две почти равные половины. По реке Прямой-Бальдже при шурфовке найдены благонадежные признаки, а по рекам: Елатую, Каролу, Долтонде, Цагано, Иорухану и Бираю, также богатые россыпи, послужившие к быстрым и серьезным обогащениям, когда дозволена была добыча частным людям в начале 60-х годов нынешнего столетия и когда золото найдено на реке Нерче, почти под самым городом Нерчинском;. Золото – одним словом – оказалось везде там, где господствуют сланцы. Как только эти последние уступают место гранитам, там, вместе с этим, исчезает и самая золотоносность. Шахтама и Култума, сверх содержания золота, обещают добычу ртути, обладая большим количеством киновари; в Нерчинском горном округе – единственное в России место нахождения олова. Все горные покатости к югу от системы притоков реки Шилки, по системам притоков Аргуни, с давних времен дают в замечательном избытке серебро, которое прославило Нерчинский округ. Это – самый главный продукт земных сокровищ Нерчинских гор, и Нерчинские заводы обязаны главною добычею его с той самой поры, когда край этот, один из богатых серебром в целом свете, сделался собственностью России. Серебряные рудники открыты здесь давно и в примечательном обилии.
В 1722 году император Петр I именным указом своим велел всех освобожденных от каторжных работ в России и назначенных к ссылке в Сибирь в дальние города посылать в Дауры на серебряные заводы. В 50-х годах нынешнего столетия разработка серебряных руд приостановлена и на нынешнее время значительно против прежнего ослаблена. Нерчинский же горный округ с его россыпями и промыслами золотыми и с его заводами еще до сих пор представляет для нас интерес ссыльного места, а потому мы и останавливаемся на нем, как на месте работ, предназначенных для ссыльнокаторжных.
Вот один из таких серебряных рудников (Зерентуйский) у нас перед глазами. Он открыт в 1825 году, вместе с Благодатским. Толщина его не более 2 сажен, месторождение заключается в известняке, падает почти вертикально и наполнено преимущественно тальком, в котором железисто-свинцовые охры со свинцовым блеском и белою свинцового рудою попадаются небольшими гнездами. В пуде руды 1 /2 золотника серебра и 1 фунт свинцу, но, через промывку, руды обогащаются серебром до 1 1 /2 золотника и свинцом до 4 фунтов. Работа начата шахтою и продолжалась гезенгами и дворами[39]39
Дворы – обыкновенные горизонтальные работы (орты и форшлаги), проводимые непосредственно одно над другими. Они всегда идут по рудам и употребляются более для выемки их на очистку, также и для преследования их по падению. Сначала ведут по руде обыкновенный горизонтальный ход, укрепляемый временною или фальшивою крепью из двух стоек и переклада на 1–2 сажени; потом эту крепь заменяют настоящею.
[Закрыть] в 34-саженной глубине. Для движения воздуха углублена шахта в висячем боку месторождения.
Мы у подошвы горы, которая отлого (тянигусом – по-сибирски) взбирается ввысь и там, где-то не на виду у нас, сливается с другими горами, а может быть, и с целою грядою гор. Гора наша, по наружному виду, ничем не отличается от окрестных: те же голыши и камни, обещающие скудную растительность в живое время, то же обилие моху и по местам примечательно-ничтожное количество снегу, когда все кругом завалено им. Разница одна: у нашей горы, позади нас и не в дальнем расстоянии, раскинулось довольно большое селение со старыми, гнилыми домами, разбросанными в беспорядке и доказывающими наружным видом своим, что хозяева их самые бедные и несчастные люди во всем свете: нет ни одного дома, который говорил бы даже о кое-каком достатке. Селение это казенное и приписано к руднику. В горе нашей находится самый рудник серебряный, давно уже существующий, как сказано выше.
Прямо перед нами бревенчатый сарайчик, по местам обшитый досками и одним краем своим вплотную примкнутый к горе, у самой подошвы ее. Досчатая дверь вводит вас в этот теплый и натапливаемый домик. Здесь предлагают нам снять шубу на том основании, что без нее будет свободнее ходить по руднику, где, говорят, теплее, чем в этом домике, тепло, как в бане. Но, помня, что на дворе с лишком 30° мороза, мы не решаемся расстаться с шубою (в чем, однако, пришлось нам потом раскаяться). Нам надевают на шею, на длинной веревке, плоский фонарь с зажженною свечою, и мы направляемся в то чистилище, о котором с самого детства слыхали так много страшного. Вот за этою-то новою дверью (и опять досчатою) – думалось нам на тот раз – те каторжные норы, где мучилось столько «несчастных» и погибло в них без следа и воспоминаний. За нею-то, за дверью этою, один из тех рудников, о которых ходят по всей России такие мрачные и страшные рассказы. И теперь мы с трудом отделываемся от неприятного чувства боязни, бессознательного страха и тоски, до такой степени неодолимых, что были моменты, когда мы готовы были оставить наше намерение и вернуться назад из опасения не подвергать себя крупным и тяжелым впечатлениям. Потребовалось энергическое усилие воли, чтобы направиться дальше за эту таинственную дверь, и, раз решившись идти вперед, мы принудили себя безропотно подчиниться провожатым; но неприятное чувство душевной тяжести и безотчетного сердечного трепета нас не покидает. Отворилась дверь, словно в ад, и истинное подобие его представилось нам тотчас же, как только глаза наши встретили за дверью непроглядный, мертвенный сумрак. К тому же по нескольким ступеням мы опустились вниз, на несколько аршин ниже подошвы горы. Высокая гора, всею массою, всею своею громадою стояла теперь над нами, усиливая тяжесть наших впечатлений. Мы в горе и под землею, словом – мы в руднике.
Слишком резкий, крайний переход от дневного света прирудниковой светлицы-передней во мрак самого подземелья не позволяет глазам нашим что-либо видеть, что-либо понять изо всего того, что творится перед нами, сзади нас и по бокам. Мы слышим голоса, но они кажутся нам такими глухими и робкими, что как будто и они, как и наш голос, выходят из сдавленной и натруженной груди. Где-то впереди, как волчьи глаза, мелькают огоньки, но свет их, поглощаемый густотою окрестного мрака, до того слаб, что кажется особенным, рудниковым. Висящий на груди у нас фонарь наш делает не больше того: свет его чуть брезжится, ударяет в спину проводников, освещая две-три заплаты на полушубках. При поворотах в сторону свет сальной свечки успевает обнаружить в себе присутствие силы настолько, что мы различаем досчатые стены, мокрые, сырые, и такие же доски наверху, на потолке. Когда глаз успел приноровиться, мы – что называется – огляделись: перед нами и позади нас оказался несомненный коридор, такой же точно, как и те, до которых такие охотники петербургские домовладельцы и архитекторы, доказывающие этим бессилие своей изобретательности и несостоятельность своей науки; этот коридор намеревался доказать противное. Он был такой же узкий и теплый и в таком же прямом направлении тянется куда-то вдаль. Мы идем ни ниже, ни выше, идем так же свободно и теперь, как шли сначала, и идем как будто уже много сажен, не один десяток сажен – и останавливаемся. Перед нами третья дверь, и обитый досками коридор кончился.
– Что это значит?
– Коридор, – отвечают нам, – туннель этот называется штольнею. Та часть штольни, которую мы прошли и которая сверху, снизу и с боков забрана досками, уже выработана и к делу не годится. Рабочие в ней только для того, чтобы положить досчатые заплаты там, где старые доски прогнили до слез. Разрабатывается вот эта…
Отворили дверь – мы снова погрузились во мрак, который кажется нам еще гуще и непрогляднее. Мы с трудом передвигаем ноги, которые на каждом шагу встречают какие-то рытвины, какие-то камни, а между ними, по самой середине дороги нашей, тянется целый желоб. По бокам, в стенах – каменные глыбы; наверху, на потолке такие же голые, неправильной формы обитые камни; и те и другие на ощупь холодны, сыры, слизисты. Фонарная свеча на большей части из них освещает ржавчину, окиси. Ощущения становятся еще тяжелее: каменные груды начинают давить нас нравственно всею тягостью внешнего вида своего, и мы снова с трудом владеем собою при объяснениях.
– Это известняк и глинистый сланец – подпороды, а вот и самая порода – наше богатство. Из нее-то мы добываем достославное серебро, которое и в наших руках стало в редкость, как говорят, редко оно и у вас, в России.
Через груды этих подпород и между глыбами породы пробираемся мы дальше. Начинаем приметно уставать: нам становится не только жарко, но даже душно (напрасно мы не оставили шубы в прихожей светлице). Духота, наполняющая на этот раз штольню, напомнила нам ту насыщенную влагою атмосферу бани, когда разредился пар, в обилии сорвавшийся с каменки. В духоте этой (думалось и выговорилось нами) один из видов каторги, и духота эта, между прочим, полагалась одною из мер наказания некогда работавшим здесь преступникам; духота эта едва выносима.
– Отворите дверь! – закричал один из проводников в ответ на замечание наше.
Крепкая струя морозного воздуха мгновенно и с неудержимою силою ворвалась в штольню и выхватила и унесла вперед в широкое отверстие шахты весь тот удушливый и гнилой воздух, который до этой поры тяготил нас. Пока задняя входная дверь стояла открытою, мы с трудом удерживали на головах шапки: до того была сильна тяга воздуха, которая, имея для нас значение сквозного ветра, становилась уже излишнею и делалась опасною для здоровья. Пока мы подвигались дальше, в штольне опять накопилось достаточно теплоты, чтобы снова жаловаться на шубу.
В одном месте, влево от нас, из штольни потянулся глухой и тупой, без пролета, коридор, никуда не выводящий, и, в отличие от штольни, на горном языке известный под именем лихтлога. Свет фонаря осветил нам его начало и пропал в той густоте мрака, которую не разрежал ни разу луч солнечного света и с которою ведет по временам борьбу свет шестериковых сальных свеч в фонарях рабочих.
Войти в лихтлог мы не решились и не пошли туда по той простой причине, что лихтлог – тоже штольня, только поперечная, боковая, без выхода; боковая оттого, что увела ее туда серебряная жила, ударившаяся в бок от основной, давшей направление штольне. Без выхода лихтлог потому, что на тупом конце его оборвалась надежда на добычу: серебра стало меньше, и дальнейшая работа не обещала возврата затраченных сил и капитала. Штольня повела нас дальше и прямо, один лихтлог остался в стороне направо, другой – налево.
Каменные груды с боков и над ними, не укрепленные искусством и сдерживаемые только силою взаимного тяготения и упора, – грозят опасностью. Вода, в избытке просачивающаяся между камнями, усиливает представление этой опасности для нас, непривычных, бессильных схватить все подробности дела и на тот раз понять всю систему предосторожностей. Мы радуемся за каждый шаг, который завоевываем при выходе из штольни и не бессознательно вздрагиваем в боязни за себя, когда слышим предостережение провожатых спрятаться где-нибудь около стенки, в первое попавшееся углубление в ней. Пример тому видим на всех наших спутниках, и, спрятавшись как умели и успели, мы вздрагиваем во второй раз от сильного удара, который глухим и тупым раскатом потряс всю штольню и исчез без отголоска.
– Что это такое?
– Забой делали, взрыв произведен.
Ощущаем пороховой запах, видим впереди себя новую вспышку и тотчас новый глухой стук взрыва, причем снова ощущаем запах пороха. Идем к тому месту и видим или, лучше, слепо различаем на полу какие-то дыры, видим буравы в руках рабочих; нам объясняют:
– Бурав вертит на земле скважину, и оттого скважине этой даем название буровой. Она заряжается порохом, порох рвет часть грунта, выхватывает те камни, которые мешают нам прокладывать желоб. Желоб этот по середине пола штольни надобен нам для стока воды. Вода одолевает наши работы безгранично; оставить ее на собственный произвол и не выводить вон, значит, поступиться всем рудником: вода зальет его, как залила уже все разработанные и покинутые или по воле начальства, или потому, что они уже сами по себе перестали служить свою полезную службу.
– Желоба для стока воды мы закрываем досками, чтобы легче ходить и работать, желоб облегчит работы в забоях. Пол облегчит перевозку руды в тачках по штольне до шахты.
– Но где же каторга, где те работы, которые мы привыкли считать самыми тяжелыми, называть каторжными?
– Таких работ нет в рудниках. Здесь мы даем молоток и лом. Молотком рабочий обивает породу, освобождает ее от сопровождающих ненужных нам подпород; ломом вынимаем ту глыбу, которую нам нужно и которую указывает и объясняет знающий дело распорядитель работ. Глыба эта подается на лом, когда молот сумел хорошо распорядиться около нее. Вынутая из своего места, она кладется на носилки или в тачку, и рабочий везет один или несет с товарищем к бадье, спущенной на дно широчайшей трубы, идущей от вершины горы до самой подошвы ее и называемой шахтою. Когда рабочий опростает свою ношу, то кричит наверх. Бадью верхние рабочие поднимают воротом на самый верх горы. Там опоражнивают бадью, складывая руду на носилки. Тачек рабочие не любят и предпочитают им носилки, всегда предполагающие товарища, когда и труд разделен, и есть с кем перекинуться разговором. Добытую породу сносят верхние рабочие в указанное место в кучу, из которой она уже поступает для сортировки в так называемую рудораздельную светлицу. Выйдем через шахту наверх, я вам и это все покажу.
Вот до нас начинают добираться лучи дневного света, падающие сверху. Свет нашего фонаря блекнет, мы стоим под крутою деревянною лестницею. Мы взбираемся по этой отвесно поставленной лестнице с широко расставленными приступками, с обязательно неизбежными перилами. Лестница плотно приделана железными закрепами к каменной стене шахты. С трудом и надсаживая грудь, при помощи перил, поднимаемся мы наверх и с трудом переводим дыхание, очутившись на первой площадке. Площадка– эта одним краем опять уходит в сырой и непроглядно мрачный лихтлог, идущий параллельно нижней штольне и составляющий в руднике как бы второй этаж его. Другой конец площадки обрывается в ту огромную яму, которая прорыта до самой подошвы горы и до дна той штольни, в которой мы были, и освещается такою же широкою, как нижняя яма, трубою, составляющею ее Продолжение и выходящею на верхушку горы. Отдохнув, осиливаем вторую лестницу, такую же отвесную и крутую, такую же неподатливую, с такими же крепко захватанными перилами, снова устаем до изнеможения и с радостью узнаем на второй площадке, что конец мучениям близок. Узнаем здесь, что зерентуйская шахта, которая кажется нам теперь глубоким и широким колодцем, имеет глубины 24 сажени: первая лестница 11 сажен, вторая 13; что бревенчатый сарай над шахтою колодцем сооружен уже на крайней вершине горы, что вся зерентуйская штольня длиною в 160 сажен, но что делают новую, «Надежду», которая будет еще больше, еще длиннее, но в другом месте.
Отрадно было, по выходе из шахты, взглянуть на свет Божий. Весело было вздохнуть свежим, хотя на этот раз и крепко морозным воздухом, и еще краше и веселее глядели теперь на нас со всех сторон окрестные валуны, эти застывшие морские волны. Еще сумрачнее, тяжелее и каторжнее показалась нам вся темная мгла подземельев – штолен, лихтлогов и тяжелый полумрак шахты.
Целыми десятками лет не одною тысячью преступных и неприступных рук рылись эти каторжные подземелья, и рудник, оцененный десятками тысяч рублей, неизмеримо высоко поднимается в цене от того множества слез и стонов, которые вызваны были среди сумрачных каменных стен на тяжелой опасной работе и которые вверены были тем же бездушным стенам и тем же безгласным и холодным камням. Через чистую и свежую ключевую воду проходит все то золото, которым покупается целый свет, и только в немногих местах к ключевой воде этой примешиваются и мутят и темнят эту воду горькие слезы несчастных. Все серебро, накипевшее в недрах земных, добытое в сибирских рудниках, прошло через горькие и также ключом бьющие слезы несчастных. Сколько смертей, нежданных и негаданных, накидывалось там, в этих темных и сырых подземельях, на терпеливую, замечательно выносливую и крепкую натуру русского человека, хотя на этот раз и обездоленную крутым житейским переломом и крутым, большею частью непредвиденным несчастьем. Известен, между прочим, следующий трагический случай в руднике «Тайне», около Газимурского завода, в одном из наибольших за Байкалом. В одной из штолен этого рудника работали трое: два поляка и русский. Разложенный на дне шахты огонь, при запертых дверях, наполнил весь коридор убийственным серным газом. Дым, валивший из этого отделения, достиг и того, где эти трое кирками обивали оловянно-серебряную руду, соединенную с серою. Будучи не в состоянии дольше оставаться в атмосфере, насыщенной газами, поляки по лестнице поднялись на свежий воздух. Один из поляков, видя, что товарищ (русский) остался внизу и долго не выходит, крикнул ему сверху, чтобы поспешил выбираться, иначе непременно погибнет. Не получив ответа, поляк Рожанский сошел по лестнице вниз и едва успел ступить на дно штольни, как упал без чувств, отравленный серными газами. Товарищ его (Вржос) в беспокойстве и с боязнью выжидал земляка и, не дождавшись, поспешил спуститься в рудник и нашел обоих товарищей в беспамятстве лежащими на полу. Он схватил прежде всего земляка своего и понес по лестнице. Чувствуя приступы отравы, он собирал последние силы, дошел уже до половины лестницы, но здесь силы его оставили, он опрокинулся с крутизны навзничь и размозжил свою и товарища голову о камни. Через несколько дней потом лазившие на дно штольни нашли три трупа. Один из них обхватил рукою другого; оставалось одно: похоронить обоих в одном гробу.
Отпустят работника в полусвет шахты, проведут его в непроглядный мрак штольни – везде одно: та же сосредоточенная, кропотливая, тяжелая работа, с которою и самая песня, плохо прилаживаясь, недружно живет. Дружно живет один вымысел, сильно работает одно только воображение, досужее рисовать по готовым образцам все, что угодно. Ему ли оставлять свою работу и поступаться свободою в то время, когда все является на помощь и содействие: мрак кругом и только тусклый мерцающий полусвет около, да неожиданный блеск, яркая вспышка где-то вдалеке и в том подземелье, где всякий звук, всякий стук молотов возвращается назад усиленным, но не разбросанным тупым эхом, подчас извращенным, смотря по тем условиям, в коих находится в то время слух и воображение. Падение водяных струй и капель со стен и потолка, треск осколков пород и шлепанье глиняных глыб, шум забоев, грохот от взрывов, каждый легкий шорох – все это дает пищу одиноко поставленному и предоставленному самому себе воображению. Раздражается оно неизбежно и при этом с такою быстротою и силою, на которые способно суеверное воображение всякого русского рабочего, и будет преисполняться каждый из них суеверным страхом и неестественными представлениями, потому что всякое движение, всякий шаг в подземелье представляется в ином виде, отшибается неправильным и извращенным отголоском. Работы в забоях, мрак лихтлогов, полусвет шахты, при слабом освещении фонарем, удлиняющим и укорачивающим тени людей и окружающих предметов по прихотливому произволу, существование больших и крупных крыс, которые любят возиться, пищать, грызть, шуметь и больше всего поживляться около сальных огарков в фонарях и называются хозяином. Все это нам объясняет существование множества рассказов и о домовом – рудниковом хозяине, и о лешем – враге человека и здесь, в этих каторжных норах. С бесчисленным множеством рассказов о нежити – нечистой силе – выходят оттуда рудниковые рабочие, суеверие которых вообще сильнее здесь, чем где-либо в другом месте. Так, например, на этом же Зерентуйском руднике, подле самой шахты две горы, из которых одну прозвали Шумихою, а другую Звонухою (за какие-то непонятные и хорошо не исследованные шум и звон, происходящие около них и в них при известных ветрах), ссыльные и вольные рабочие считают страшными. Они указывают на них, как на несомненное гнездилище вражьей нечистой силы. Ночные страхи здесь деятельнее, чем в других местах, потому что в рудниковых подземельях вечная ночь, как питательное начало, и действительнее уже потому, что рабочие на целый день, со своею пищею, уходят сюда в густой мрак. Они кончают работу и выходят на вольный воздух, когда уже точно такой же мрак покрывает землю и облекает собою все живущее на ней некаторжною жизнью.








