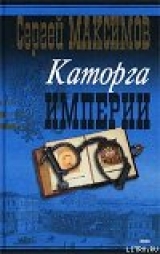
Текст книги "Сибирь и каторга. Часть первая"
Автор книги: Сергей Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
7) За продажу припасов (куда входят также и табак[32]32
Табак, впрочем, вдет иногда, при большой массе арестантов, отдельным майданом на откуп. За право продажи нюхательного и курительного табаку откупщик платит в артель от 2 до 8 руб. Обязательная такса очень умеренная: покупка из осторожности и ввиду конфискации производится по мелочам: берут на одну трубку (или, что то же, папиросу) много на три разом. Вся торговля майданщиков самая дробная.
[Закрыть] и сласти) платится от 5 до 10 руб. в месяц, смотря по числу потребителей. При продаже этой статья назначается обязательная такса для всех жизненных припасов, употребляемых в остроге. Дивиденду назначается не более 20 %. Майданщик и этой статьи, как и двух остальных (игорной и водочной), обязан верить бродягам на заветные и неизменные 1 1 /2 рубля. И у этого майданщика бывает долгам лахман, когда откуп переходит в руки другого. Но существуют и исключения: если майданщик понесет каким-нибудь случайные, не предвиденные артелью убытки – тогда долги становятся для всех обязательными. Они вычитаются потом при общем дележе каких-либо случайных доходов (каковыми бывают обыкновенно подаяния) или долги эти переходят к следующему майданщику, а этот выплачивает уже их своему предшественнику.
Всякий новичок, поступая в острог и в тюремную общину, обязан внести известное количество денег, так называемого влазного. Крестьянин и всякого свободного состояния человек вносит единовременно 3 руб. сер.; поселенец (т. е. идущий на поселение) – 50 коп.; бродяга – 3 коп..[33]33
Взнос влазного – остаток весьма древнего обычая, перешедший из рук властей к арестантам и уничтоженный еще в конце XVII века, когда воспрещен был этот побор с «колодников, приводимых на тюремный двор и за решетку, чтобы в том бедным людям тяготства и мучительства не было». В тобольском остроге и эта статья сбора влазного с вновь поступающих отдавалась иногда на откуп. Взявший ее вносил от 2 до 3 рублей в месяц и обязывался на свой счет нанимать профосов, но пользовался за себя и за своих помощников двойною против других дележкою.
[Закрыть] Вообще же всякий неопытный и неискусившийся новичок, поступая в тюрьму, делается предметом насмешек и притеснений. Если у него заметят деньги, то стараются их возможно больше выманить; если он доверчив и простосердечен, его спешат запугать всякими страхами, уничтожить в нем личное самолюбие и самосознание. Доведя его до желаемой грани, помещают обыкновенно в разряд чернорабочих, т. е. станут употреблять на побегушки, в сторожа майданов карточного и винного, заставят выносить ночное ведро, так называемую парашу, или чистить отхожие места (что, как известно, лежит на обязанности арестантов[34]34
Эта часть также иногда отдавалась на отдельный откуп, как и право собирать влазное. Новичок, чтобы откупиться от параши, платил в артель обыкновенно от 3 до 5 руб. сер.; опытные и тут попадали на 50 коп.; но бродяги вносили только 3 коп. Право топить баню артель также продавала одному лицу, называемому банщиком. Стоило право 2–3 руб., а гарантия этих денег заключалась в Устройстве за условную (и довольно высокую) плату любовных свиданий.
[Закрыть]). Слабые сдаются, твердые начинают вдумываться и задумываться, а кончают тем, что обращаются за советом к бывальцам. У этих за деньги и водку нет ничего заветного и запретного: милости просим! Правил немного, но все приперты крепко, стоят твердо, незыблемо и нерушимо. Вот они: «за товарищей горою; свято хранить тайны, и если нет выхода, подопрут рогатиною в угол, старайся впутывать в вину свою и свое дело побольше таких арестантов, у которых денег много, которые богаты; и путай их больше, сколько возможно больше: начальники деньги любят; начальников за деньги всегда можно купить. Твоих, голыш, денег не хватит, а богатые начальника купят непременно и примеров таких не было, чтобы арестанты начальников своих не подкупали. А купят, так тебя и на цепь не посадят и в кучумку не запрут; самое большое, что на розгах дело сойдется; а любят тебя богатые товарищи, так и того не будет».
Второе дело для новичка: заставь себя полюбить! Полюбят – не выдадут да еще уму-разуму научат. Научат, как врать на показаниях, если живешь в тюрьме подсудимых; научат, как оговаривать и куда, в какие дальние места отправлять за справками, чтобы таким образом, отдалить время наказания или ослабить меру его, и проч. На этот предмет, как известно, существует в тюрьмах особая самостоятельная наука, имеются профессора-законники, которым позавидовали бы московские стряпчие, имевшие притоны свои около Иверской часовни. Около законников своих новичок-арестант, в весьма непродолжительное время, становится тем, чем он должен быть, т. е. арестантом. Его трудно было ловить на следствиях, его мудрено было спутать на очных ставках, его не устрашить тюрьмою, и в самой каторге он уже не видит того страха, каким преисполнялось его тревожное воображение с самого раннего возраста.
Потом вновь поступивший, без руководства и объяснений, понимает уже весь внутренний смысл тюремного быта на практике, в самом течении дел, и через неделю он – полноправный член этой общины, у которой существуют свои тенденции, свои правила, как многомогущий рычаг и двигатель.
Артельный капитал, образуемый, таким образом, из оброчных статей, простирается от 50 до 100 руб., которые обыкновенно и делятся поровну между всеми арестантами.
При этом выдается двойная дележка старосте и парашникам. Новички при этом обделяются: сидящим недели две – ничего не дают. Утроенная часть (за троих) полагается палачу. Ему, сверх того, выдается на рогожу из общей кассы (образуемой добровольными подаяниями и неприкосновенной до конца тюремных сроков); выдается на рогожку всегда, когда отправляют к наказанию бродягу. Кроме того, палач считает «рогожкою» и все те подаяния, которые сходятся к преступнику за то время, когда ведут последнего из тюрьмы на эшафот, к месту торговой казни.
Деньги, уходящие из острога вон, на покупку вина, карт и съестных припасов, пополняются преимущественно вновь поступающими арестантами. Мы не говорим уже о тех деньгах, которые попадают с воли в острог и в руки искусников, владеющих каким-либо мастерством или досужеством, на изделия, нужные или ненужные там, за острожными стенами. Водятся в тюрьмах такие искусники, которые отлично приготовляют игрушки, безделушки: из лучинок или тоненьких планочек мастерят таких голубков, которых ни один купец средней руки не задумается для украшения подвесить в средине потолка гостиной или залы. Детские игрушки, в особенности, отличаются замысловатостью и тщательною отделкою из хлеба, из вываренной говяжьей кости. Мудрено вообразить себе какое-либо местечко или городок, соседние с каторжною тюрьмою, где бы ни показывали каких-либо мастерских изделий арестантов, преимущественно столярных и токарных. В Сибири пользовался сильною известностью повсюду Цезик, успевший побывать и пожить во многих тюрьмах. В этом человеке тюремное досужество дошло до своего апогея и выразилось уже в замечательном искусстве лепных работ. Работа Цезика для сибиряка предмет серьезного значения и высокой цены в нравственном и материальном значении слова; в особенности редки и ценны стали его работы со смертью мастера, самого старика, сосланного сюда в 1830 году из Литвы во время польского мятежа. За недостатком его работ, которыми кичились и хвастались самые богатые и изысканные кабинеты золотопромышленников и сибирских начальников, стали охотливо удовлетворяться работами его сына, но уже почти ничего не имеющими общего с художественными работами отца. И за эти работы продолжали платить хорошие деньги. Старик передал сыну секрет составлять различных сортов в цветов глину, завещал несколько образчиков лепных фигур, силуэтов и проч., но унес с собою в могилу тот секрет, который оживлял все его работы, прыскал в них живою водою смысла и значения. В истинном широком значении слова Цезик-отец художником не был, но искусство делать миниатюрные работы действительно достойно всякого изумления; особенно если верить преданию, уверяющему в том, что некоторые работы производил он в тюрьме, не имея ничего острого (по общему тюремному положению), – осколком стакана, обломком гвоздя и проч. Приняв меры против возможно кругового и постоянного перелива денег из рук в руки в тюремных стенах, арестанты бессильны против неизбежного выхода их за тюремные стены или в руки приставников. В сибирских же тюрьмах прибылых денег от подавателей бывает очень мало по той причине, что сибирские купцы дают больше натурою: молоком кислым, булками, калачами, солониною и прочими припасами, большею частью порчеными, каковые арестанты либо бросают, когда подарок обзавелся червями, либо съедят, когда приношение только дух дает.
Арестанты в видах усиления денежного обращения в общине своей принуждены бывают искать побочных средств и путей. Путей этих очень много, и за ними следить трудно, но известно, например, что тобольский острог искони славился мастерством приготовлять фальшивую монету серебряную (из олова).[35]35
Чтобы дольше и прочнее держалась ртуть на олове, приготовленный для монеты оловянный кружок арестанты кладут в рот на целую ночь, чтобы, таким образом, отделить с него окись.
[Закрыть] Рубль продавался обыкновенно за 30 копеек, и караульные солдаты охотно брали эти деньги за таковую плату для сбыта темным киргизам, остякам и татарам. Вторую статью дохода и в том же тобольском остроге составляла продажа фальшивых печатей и видов; печать стояла в цене между полтинником и рублем, а вид продавался от одного до трех рублей серебром. Продается между собою все, что продать можно, и в этих случаях расходуются больше других прихотливые; так, например, продаются на нарах места с краю, как самые удобные, а потому и соблазнительные среди общей и всегдашней тюремной тесноты. Цена за место стоит между 2 коп. и 1 рублем. Продавший место спит уже на полу. Иркутский острог придумал новую статью откупа, воспользовавшись тем обстоятельством, что за водою для арестантов надо было ходить чуть не за версту – на реку Ушаковку. Воду эту арестанты сдали на откуп водоносам, а в водоносы записались те два компаньона, которые исключительно стали заниматься этою работою и затем неустанно таскали воду целый день с утра до вечера (воды на большой острог требуется много). Во время этих прогулок оба возмещали с большим избытком те два-три рубля, которые внесены ими в артель за право, – подаяниями, полученными на переходах до реки и тюрьмы, от всяких благотворителей, клавших в руки гроши и копейки добровольно или по вызову, по просьбе самих арестантов.[36]36
Во время Святой недели откуп воды сдавался рублей за семь.
[Закрыть] Для мастеровых и ремесленников в сибирских тюрьмах, за приметным недостатком в Сибири таких людей, всегда находится работа и лишние деньги в тюремные капиталы, про домашний обиход. Арестанты работают дурно, наспех, казенными испорченными инструментами, но хорошо и то, когда нет ничего, а тем более что и плата арестанту зависит от властей и начальства: ближайшему даром, дальнейшему за полцены. Все-таки это игры не останавливает; приобретению вина и иных сластей благоприятно даже и в том случае, если мастеровых мало, но подрядчикам настоит нужда в поденных работниках. Если арестанту и гривенник один дадут за день – он поворчит и на другой день охотливо лезет в казенную шинель или полушубок, чтобы и этот гривенник из рук не выскочил и можно было подышать вольным воздухом, в кабак забежать, а, пожалуй, на риск и совсем убежать в леса темные, дебри дремучие.
Всех этих удобств почти не ведают, и измыслить что-нибудь подходящее собственно каторжные тюрьмы не могут. Эти тюрьмы, например карийские, самые бедные своими домашними внутренними средствами и здесь проигрывается и пропивается все казенное: и одежда, и даже пища. Тюремные деньги свободно выплывают на волю. На карийских промыслах деньги на вино и вещи на чужой обиход сбываются тем бывалым тюремщикам, которые вышли из тюрьмы на так называемое пропитание и на краю селения, в особой слободке, обзавелись домком-лачужкою, а в ней и юрдовкою, т. е. заведением, удовлетворяющим всем арестантским нуждам и аппетиту на вино и харчи, на игру и мазих. Вещи, сбываемые сюда всегда в наличности, уходили, хотя и на наличные деньги или на обмен, ухо на ухо, уходили, разумеется, далеко ниже своей стоимости; например, шинель, стоившая казне 2 руб. 17 коп., отдавалась в юрдовках за 75 коп. и, самое большее, за полтора рубля. Передача вещей вольным людям производится там во время работ на разрезе, но часто и непосредственно и в самых торговых и промышленных заведениях.
В каторжных тюрьмах сходство приемов и правил с тюрьмами русскими и сибирскими пересыльными поразительно: и в них бродяга – почетный человек, любимое и нежное детище всей тюремной общины, хотя в каторжной он уже и носит название оборотня – не в смысле зверя мифического, но по тому обстоятельству, что бродяга, попавший на нерчинскую каторгу, был уже когда-то здесь, жил в одной из здешних тюрем и теперь оборочен (обращен), возвращен назад после полученного им наказания где-нибудь в России или в той же Сибири.
В бродяге товарищи видят человека, много испытавшего на своем веку, много видавшего и потому опытного; за многочисленные страдания ему уважение от сердца, за его опытность почтение из практического расчета самим поучиться. Возводя бродягу в идеал тюремного быта, тюремные сидельцы любуются в нем образом мученика, страдальца (и притом многострадального). Арестанты убеждены, что одна часть совершенных им преступлений невольная, сделанная от простоты, другая часть ему приписана судьями, о чем он узнал только тогда, когда уже очутился в тюрьме. Знают арестанты, что для товарища их и в будущем нет ничего отрадного и живого. В силу этих положений идеал бродяги для всех любезен и все относятся к нему с любовью и простосердечием, сколько по преданию и предрассудкам тюремным, столько же и потому, что в участи бродяги провидят свою будущую. Тип этот, в свою очередь, вырабатывается так кругло и определенно, что, с какой стороны ни подходи к нему, арестант везде встретит черты, ему любезные и понятные. Бездольная жизнь по тюрьмам, тасканье по этапам – породили в бродяге непонимание, отчуждение, даже отвращение ко всякого рода собственности. Он не ценит и ворует чужую, не питает никакой привязанности, не понимает и своей личной собственности (арестанты давно уже выговорили про себя: "едим прошенное, носим брошенное, живем краденым"). Бродяга сделался простосердечен и добр до того, что, если у него завелись деньги, ступай к нему смело всякий – отказа не получит. Бродяге ничего не нужно, бродяга потерял к себе всякое уважение и себя не ценит ни в грош, ни в денежку. Вот за это-то и ценят его другие, такие же, как он, бездольные и скорбные люди, которые сами через год, много через два, бегут с каторги, сделаются такими же бездомными бобылями, бродягами. У бродяг нет никогда денег (и это новый повод к сочувствию к ним), но зато они богаты сердцем и, в сущности, люди не злые, хотя иногда и озлобленные. Тюремные сидельцы, впрочем, и не требуют этой мягкости и, по особому складу ума своего и понятий, готовы полюбить в бродяге и противоположный образ – злодея, лишь бы только злодей этот удовлетворял главным требованиям: был человеком твердого нрайа и несокрушимого характера, был предан товариществу, общине, был ловок на проступки и умел концы хоронить, никого не задевая и не путая; не делал бы никаких уступок начальству, преследовал бы его на каждом шагу, насколько это в его тюремных средствах, и вымогал от него всякими средствами льготы (не себе, а товарищам), а главное, умел бы смотреть легко на жизнь и на себя самого. Во имя этих доблестей, об его старых грехах никто не помнит, никто не знает да и знать не хочет; довольно, если он теперь добрый молодец удалой, хотя бы вроде Коренева (который обязывает нас отдельным рассказом).
Арестанты, по свидетельству всех стоявших к ним близко, неохотно и очень редко рассказывают о своих похождениях, о злодействах же никогда. Когда бывали попытки, то вся община строго приказывала смельчаку молчать. Бывали случаи, что арестанты рассказывали о своих похождениях легковерным, всегда с крайностями и циническим преувеличением мнимых подвигов, но делали это в надежде большого вознаграждения за рассказы. Возвратясь к своим, рассказчики эти вслух глумились над легковерием любопытных.
Арестанты, окруженные и вещественною, и нравственною грязью, сами делаются циниками и затем уже озлобленно питают отвращение к тем людям и тем постановлениям, которые, доведя их до преступления, лишили свободы. Вырабатывая свои правила, часто смешные, редко несправедливые, они в правилах этих бывают жестоки и всегда оригинальны. Так, например: не привыкая хвастаться своими преступлениями и видеть в них какое-нибудь удальство, арестанты все-таки с большим уважением относятся к тому из бродяг, который испробовал уже кнут и плети, стало быть, повинен в сильном уголовном преступлении. Такие бродяги почетнее кротких. Имена их делаются именами историческими, как бы имена героев, на манер Суворова, Кутузова, Паскевича. Таким образом, тобольская тюрьма помнит имена бродяг: Жуковского, Туманова, Островского (просидевшего на стенной цепи в Тобольске десять лет), Коренева; нерчинские тюрьмы: Горкина, Апрелкова, Смолкина, Дубровина, Невзорова и др. Память о них переходит из артели в артель с приличными рассказами и легендами, а так как легенды эти имеют много жизненного смысла и силы, то они в то же время служат поучительным образцом и руководством.
Чтобы судить о степени влияния на артель тюремную этих бродяг из злодеев, мы приводим одну из множества легенд, сказывающую в то же время, до какой степени плотно и прочно тюремное товарищество. Дело – говорят – происходило в тобольском остроге, в старом, стоявшем на обрыве над оврагом (нынешний новый замок построен на берегу Иртыша).
Живет в тюрьме, в ожидании судебного приговора, один из бродяг – Туманов. Много преступлений скопилось на его голове, от многих он отвертывался, впутывал разных лиц, затягивал следствия на целый год и под шумок судопроизводства жил себе в тюрьме припеваючи, пользуясь всякими ее благодатями. К концу года Туманов сообразил, что время его близко, раскинул умом и вышло, что быть решению скоро и решение выйдет немилостивое, от военного суда. Ему ли, старому бродяге-законнику, не знать того, что шпицрутенов изломанной спине его не миновать. Он и число палок сосчитал вперед, не хуже любого законника. Рассказал он об этом соузникам и попечалился им. Не шутя и чуть не через слезы, высказал он им, что все это надоело ему крепко. Он говорил им: "Братцы, для меня кнут бы еще ничего, не люблю я солдатских палок, да и нерчинская каторга дело бывалое. Вся беда в том, что каторга эта стоит далеко, скоро ли с каторги этой выберешься? А уж мне это надоело, два раза уходил оттуда. Не надоела мне мать-Россия: в ней дураков больно много, а народ в ней прост и нашему брату лучше там жить, способнее. Как-никак, а мне уходить от каторги надо дальше, ближе к России. Пособите, братцы! Вся моя просьба: больше молчите теперь, а смекайте дело после. Так или этак, а бежать мне надо! Так это дело я порешил в себе и средства придумал: вы только не мешайте, об одном прошу".
Было за этим Тумановым художество: умел он фокусы показывать; дело, собственно, внимания не стоящее и в тюрьме пригодное в досужий час, как праздничная забава. Поиграй оловянными рублевиками – товарищи посмотрят, глотай горячую смолу – они подивятся, привесь смешливому товарищу замок к щеке – посмеются. Да и не учащай этого дела, не налегай на него: дураком почтут, уважение всякое потеряешь; в тюрьме живет народ угрюмый, серьезный, формалист и большой рутинер.
Туманов так и поступал до сих пор. Но с некоторого времени арестанты стали замечать, что Туманов начал старые штуки припоминать, новые выдумывать и даром их не показывает. Кто смотреть желает – давай деньги! Смекнули это арестанты и, памятуя наказ и просьбу, помогать ему стали. Отгородили ему место на нарах, занавеску приделали изо всякой рвани, солдат повестили, что у них теперь «киятры» будет Туманов показывать. Театр в Тобольске дело редкостное, любопытное, охотников нашлось. Со своих товарищей Туманов брал грош, с солдат пятак. Копились у него деньги, но росла и слава, лучи которой сначала достигали до караулки, а потом хватили и до квартиры смотрителя. Приходил и он, старичок, с семейством, похвалил Туманова и заплатил ему четвертак за посмотренье. Не великое дело четвертак, больше четушки водки его не вытянешь, но велика сила, что смотритель его дал. Теперь можно вести себя посмелее, бить наверняка. Туманов и начал бить.
Ни с того ни с чего началась в казармах возня и ломка: Туманов командует всеми, ставит одного к стене, другого к нему на плечи, поставит двух рядом и опять к ним одного на плечи. Целое утро возится Туманов с арестантскими ногами: и на одной оставляет многих, и чуть у других из вертлюгов не выворачивает. В казарме пыль столбом, смех и шум. Сторожа смотрят на все это, ничего не подозревают, думая: "Казенного добра арестанты не портят, стекол не бьют, штукатурку не обламывают, пусть себе ломаются Туманов с арестантами, стало быть, потешное что-нибудь надумали. Дело же подходит к празднику, нам же арестанты забаву готовят, нас хотят тешить. Придет к ним и начальство смотреть, благо раз уже удостоило". Молчали солдаты.
Подошли тем временем праздники. Пошел по казармам слух, что Туманов намерен дать "чрезвычайное и небывалое представление", пройдет он с шестом и изобразит живую пирамиду, но так как дело это в казармах сделать неспособно – потолок помешает, то и не худо бы представить все это на тюремном дворе, на просторе, позволит ли только начальство, т. е. смотритель?
– Пусть, – говорит, – представляют! Я сам приду посмотреть.
– А нельзя ли (просят) на том дворе, который к задам идет, земля там глаже и делать способнее?
– Можно (велит передать), можно и на задах сделать.
Назначен день представления. На выбранном месте арестанты скамеечку для начальства приладили, обещалось начальство прибыть не одно, а с гостями. Сбежался на представление чуть ли не весь острог: прибежали солдаты из караулки, хотя одним глазком посмотреть, дежурный офицер явился в кивере и чешуйки расстегнул, ждали гостей начальника и его самого – дождались!
Шли сначала мелкие фокусы, из таких, которые уже видели; были такие, которых не видывали. Дошло дело до пирамиды. Стали ее ладить: стала пирамида, что один человек, словно из меди вылитая. Взгромоздился на самый верх Туманов, шест в руки взял. Пошла пирамида неразрывною стеною… Туманов шестом заиграл. Шла пирамида тихо, торжественно. Туманову снизу полушубок бросили, подхватил и не оборвался, новую штуку показал: на ногах устоял. Арестанты закричали, гул подняли. Дежурный офицер, из выгнанных кадет, захлопал в ладоши, чтобы показать свое столичное происхождение перед дураками из смотрительских гостей. Все, одним словом, остались довольны.
А пирамида шла себе дальше, не шелохнувшись, а Туманов стоит себе выше всех, выше стены тюремной. Держится пирамида ближе к стене, подошла к углу, остановилась. Глянули зрители наверх: нет Туманова, только пятки сверкнули. Пока опомнились (а опомнился первым смотритель), пока побежали через двор (а двор очень длинный), сбили команду, побежала команда кругом острога, а острожная стена еще длиннее, – прошло времени битых полчаса. Стали искать – и следов не нашли! Шла битая тропинка круто под гору, ускоряя шаг и поталкивая, и вились цепкие, густые кусты, которым не было конца. А там овраги, глубокие овраги пошли в пустые места, чуть ли не до самой Тюмени. Черт в этих оврагах заблудится, дьявол в этих кустах увидит! И зачем тропа, и зачем овраги, когда, может быть, лежит Туманов под стеною с изломанною ногою, с отшибленным легким? Оглядели то место по приметам: и трава отошла и ничего и никакого следу не видно. Полезли на стену и увидели, что стену арестанты ловко и предусмотрительно обдумали: стена была ординарная в этом углу, тогда как во всех других и на всем дальнем пространстве она была двойная. И на стене нет Туманова. Нашли только на гвозде его большую кудельную бороду. Для смеху ее Туманов привязывал. Взяли это отребье, принесли к смотрителю. Смотритель рапорт написал по форме, бороду к рапорту приложил и припечатал, а сам поехал с докладом к губернатору. Генерал рассердился, раскричался на смотрителя. Вырвал у него из рук не рапорт, а куделю, приложил кудельную бороду к бритому подбородку смотрителя, да и вымолвил:
– Вот велю привязать тебе, дураку, эту бороду и станешь ты ходить с нею до гробовой доски. Ну, зачем ты мне принес ее, а не привел беглого? Зачем? Отчего? Почему?..
Кричал начальник долго, а Туманов тем временем был уже далеко.
– Пошехонцы в трех соснах заблудились, как сказывают, а нашему брату, бродяге, два дерева, только два дерева дай: мы так спрячемся, что десять человек не найдут. Дело это для нас плевое, потому как мы на том стоим, все в лесах живем, все около деревьев этих водимся, одно слово – лесные бродяги.
Вот что рассказывают сами бродяги, которые знали Туманова лично, но что с ним сталось дальше – рассказать не могли, не знали. Знали только то, что генерал простил смотрителя и дал арестантам возможность еще не один раз над ним посмеяться.
– Смешной был человек, смотритель этот! – рассказывали мне. – Дурак не дурак, а с роду так. Бежал у нас один арестант через трубу из нужного места, бежал и тоже след простыл. Сказали смотрителю. Пришел он в тюрьму, зашел к нам, в казарму подсудимых, зашел и головкою седенькой помахивает.
"– Этакая (говорит) скотина, в какое место полез!.. И как ему в голову это пришло? И как, ребята, лез он туда, окаянный?
– Головой, думаем, ногами неспособно.
– Перепачкался, поди, весь!
– И что за охота, что за охота собачьему сыну лезть?! Черт, дьявол толкал его, распроклятого. Что за охота!!
Головушкой трясет старичок и все одно слово повторяет. Мы глядели, глядели на него да так и фыркнули всей казармой. Сам, мол, ты дурак, седой черт! Не знаешь, что и крепка твоя тюрьма, да черт ли ей рад? Воля, мол, лучше доли; коли отвага кандалы трет, так она ведь и медь пьет".
Но как ни сильна эта отвага, побеги собственно из казематов совершаются реже и притом, как замечено, на побег решается удалый и бывалый и притом из тюрем так называемых пересыльных. Правда, что арестант не упустит ни одного случая малейшей оплошности конвойных, особенно за стенами острога на работах, и бежит, но все-таки побег не единственный выход из бездолья каторжного. Существуют и другие пути, которыми идут арестанты к призрачной свободе, и подкопом под тюрьму завоевывают временное облегчение участи. Случаями этими особенно богаты собственно каторжные тюрьмы.
Казенная работа изо дня в день одна и та же, до возмутительно однообразных и мелких подробностей, помимо физического истомления, истощает все нравственные силы и, как вампир, высасывает запас терпения даже и у тех, которых мягкость нрава, нерешительность характера и слабодушие – прирожденные черты характера. Таким людям до побега далеко. Малодушные выбирают другие средства и, не богатые вымыслом и смелостью, кидаются на ближайшее.
Летом арестант надрезывает (до время работ) чем-нибудь острым (осколком стекла, кусочком железа, кремнем) кожу какой-нибудь части своего тела (больше на половых органах) и в свежую рану пропускает свой или конский волос. Добившись местного воспаления, нагноения, он идет к лекарю, фельдшеру и попадает в госпиталь за сифилитика. Туда же идут арестанты с распухшими щеками по зимам, когда, по их опыту, стоит только наколоть внутри щеки булавкою и выставить эту щеку на мороз. На Карийских промыслах очень часто, во время утренних раскомандировок по работам, попадаются арестанты с ознобленными пальцами на руках. Наблюдения и разыскания убеждают в том, что арестанты, обыкновенно ночью, смачивают какой-нибудь палец подручною жидкостью и достаточно нагретый и теплый палец мгновенно спешат высунуть в форточку окна на мороз. Опыты подобного рода арестанты любят учащать на том основании, что, вовремя не захваченный, озноб скоро ведет за собою поражение отмороженного члена антоновым огнем, а отрезанный лекарем палец спасает несчастного от исполнения полного числа уроков. Вот почему в числе запретных вещей арестанты любят добывать всякие едкие, разъедающие жидкости. Сюда доктор Кашин ("Московская Медицинская Газета" 1860 года) относит известь и колчедан, а также и шерсть. "Другие арестанты, – говорит он, – производят язвы приложением к телу листьев прострела (Anemone pulsatilla)". Для распознавания язвы такого рода доктор советует перевязывать их самому врачу, под бинт подкладывать вощеную бумагу и всю повязку припечатывать. Употребление вощеной бумаги необходимо для того, чтобы арестант не раздражал язвы иглою, которую он пропускает в таком случае через наложенную повязку. Сделанные иглою отверстия сейчас можно видеть на бумаге. "К притворным болезням арестантов и ссыльных, – говорит далее г. Кашин, – относятся также слепота, сведение конечностей и падучая болезнь; но во всем этом весьма легко удостовериться при некотором внимании и ловкости. При слепоте я подносил к глазу свечу или иглу, сказав, что хочу делать операцию, и обман открывался скоро. В притворных сведениях стоит только сделать значительный удар ладонью по верхнему плечу или по ляжке – и больной от боли выпрямляет конечности. Отсутствие пены и сведение большого пальца внутрь ладони служит верным распознавателем притворной падучей болезни; также внезапные впрыскиванья холодною водою и чувствительность при уколе иглою какой-нибудь части тела. Но зато чесотка (Scabies) – непременная принадлежность тюрем; язвы от скорбутного худосочия и ревматической боли от трения кандалами, также сифилис в страшных формах и часто первичные язвы не на тех местах, где показано, a circaanum или же in recto, как следствия педерастии. Называют эту болезнь хомутом (насадили хомут – заболел). Скорбут, дизентерии и тиф – болезни очень обыкновенные. Ознобления и отморожения от недостатка обуви и вследствие побегов и бродяжества – явления столь частые, что их можно считать обыкновенными не только на этапах, но и в тюрьмах. Замечено неоднократно воспаление глаз (ophtalmiacarceralis), зависящее от сероводородного газа как домашнего продукта собственного арестантского изделия".
Вытяжкою сонной одури они делают искусственную слепоту: пуская жидкость в глаз, увеличивают (расширяют) зрачки и, выставляя глаз кверху при осмотре, кажутся как бы действительно слепыми. При помощи жженой извести с мушкою или купоросной кислоты вытравляли клейма, но не совсем удачно: оставалась белизна и большие шрамы. Это – старый способ. Так же стар и нерчинский способ вызывать на месте клейма местное воспаление, а потом нагноение посредством травы прострела (на щеках) и прижигания трутом (на лбу). Трут, обычное народное средство при заволоках, в особого вида фонтанелях (едно) и проч. заменен был новым средством – ляписом (lapis inferaalis), на покупку которого не щадили больших денег. Новейший, самый последний способ уничтожать клейма, теперь уже отмененный, вернее достигал цели: помогала высокая трава с желтыми цветочками (Ranunculus acris), растущая тут же перед глазами, на острожных дворах. Обварив клейменные места кипятком, бьющим ключом, немедленно прикладывали эту траву и, вынеся жестокую пытку от боли, достигали цели тем, что траву эту держали на обваренном месте недолго (не более получаса). Рука краснела, а если припухала при этом, то творог прекращал страдания и воспаление: выходило ровно и гладко, словно во младенчестве мать ошпарила.[37]37
См. доктора Кривошапкина «Описание Енисейской губернии».
[Закрыть]
Принимая натощак столовую ложку прошки (нюхательного табаку), арестанты достигали того, что их клали в больницу, принимая за начальные припадки серьезной болезни происходившее от того отравление, сопровождаемое тошнотою, бледностью кожи, биением жил и общею слабостью. Принимавшие целую деревянную ложку толченого стручкового перцу с сахаром добивались грыжи и пили потом натощак по таковой же ложке соку из репчатого луку, когда грыжа надоедала и делалась ненужною. Той же грыжи добивались те, у которых достаточно было смелости на то, чтобы проглотить серебро, и столько терпения в надсаде и прыганьях, чтобы, долго натуживаясь, добиться-таки желаемой гостьи. В расчете на глухоту, клали в ухо смесь вроде кашицы из травяного соку, меду и гнилого сыра; последний, разлагаясь, вытекал наружу жидкостью, по дурному запаху и белому цвету весьма удовлетворительного характера. Порошком, наточенным в древесных дуплах червяком, дуют в глаза желающему спекулировать бельмом, которое, однако, скоро проходит.







