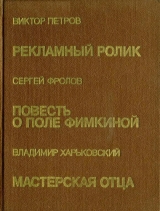
Текст книги "Повесть о Поле Фимкиной"
Автор книги: Сергей Фролов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Стихи
Мы сидим с бабкой на глиняной завалинке.
Стоит осень, вторая после начала войны.
Луна, поднимаясь, становится все меньше, светлей и бело освещает пустынную улицу. Бабка о чем-то думает и смотрит в степь. Я шепотом твержу стихи и вдруг сбиваюсь.
– Баб, – говорю, – стих забыл.
– Ну, ступай к деду.
За выгоном пашут на быках колхозное поле. Это метрах в трехстах, но мне, пятилетнему, идти туда далеко и боязно.
Под сандалиями шуршат стебли лебеды, уже отшумевшей свое лето. Часто оглядываюсь назад: светлые крыши, темная бабка на завалинке. Впереди на лунном небе, там, где его край подходит к сумеркам земли, появляются и исчезают силуэты: спины быка, шапки пахаря, взмахнувшей кнутом руки. Слышны протяжные крики:
– Цоб, цобе!
У костра возле пашни стоит бабка Щербуха и, смеясь, кричит:
– Трохим Григорич, к тебе унучек. Опять стих забыл!
Мимо по борозде проходит упряжка быков с плугом, которым правит дед. Догоняю, берусь за ручку плуга, чтобы не отстать. Прохладно пахнет свежей развороченной землей.
– Забыл? – спрашивает дед.
– Да.
– С каких пор?
– «Или ешь овса не вволю…»
– «Или сбруя не красна…» – ласково и устало напоминает дед.
Скоро пахари собираются на отдых у костра. Мне дают черную, подгоревшую в костре картофелину, подшучивают надо мной и просят рассказать «наизус про коня».
Становлюсь посреди круга и читаю задорно и звонко, тонкий голос готов оборваться в тишине. После чтения все молчат и смотрят на огонь. Только бабка Щербуха вздыхает на всю степь:
– Ох, господи, тожить про войну!
Стремительно падал снег наискосок к избам и полям. Земля медленно скрывалась под ровной пеленой: стало пегим, а потом совсем белым, недавно вспаханное поле.
Задули вьюги, частые в нашей плоской поволжской степи, перегородили улицу от дома к дому хребтами сугробов.
Из окон горницы в проталины видны колхозные амбары, за ними степь, проселочная дорога с тонкими вешками из лозин вдоль нее. Эта узенькая санная колея связывала село с внешним миром. В сумерках среди безбрежных снегов на ней обычно появляется едва заметная точка. Медленно приближаясь, она увеличивается, и скоро можно различить санки, седока спиной к ветру и мельтешащие ноги лошади. В такое время всегда возвращался почтарь – спокойный старик-бобыль с седыми усами и тяжелой сумкой. По этой же дороге приходили странники и беженцы.
В окна кухни видны унавоженный скотный двор, длинные сараи, крытые соломой, с торчащими на коньке рогулинами жердей, замерзшая речка. Со двора бегут табуном лошади к проруби. Ветром относит им в сторону хвосты и гривы. И так целыми днями – мир в окно: занесенные дома, серые плетни двора. Тоскливо и сумеречно в доме. От скуки подкрадешься к печке, где бабка гремит ухватами, лизнешь из горшка сметаны, но тут бабка обернется и больно стегнет тряпкой по спине. Стрелой взлетишь на печку и, схоронясь в дальнем углу, затаишься, чуть дыша.
Хочется на улицу, но нечего обуть. Тут же на печке залезаю в бабкины валенки и повисаю в них, не достав ногами дна. Думаю, как бы обрезать им голенища, но боюсь порки.
К вечеру под окнами горницы скрипнет натужно, как кто живой, застучит: тэк-тук, так-тук. Насторожишься: стук повторяется, становится долгим и однообразным. Значит, усиливается ветер и сердито дергает ставни.
Но вдруг с резким печальным стоном откроется застоявшаяся дверь сеней. В сенях, как рожь в поле, зашумит щелястыми стенами ветер, и в избу войдет мать с охапкой объедьев. Пронесет охапку к голландке и, на ходу лаская меня взглядом, невесело улыбнется, не размыкая скорбных губ.
Войдет почтарь в валенках, по колени в снегу, мать подбежит, надеждой засветятся ее глаза. Почтарь молча, томительно долго возится озябшими руками в сумке и достает газету. Руки матери с газеткой опускаются и тускнеет лицо: от отца давно нет писем. Почтарь с минуту стоит у порога и трет руки.
– А на улице снегурки бегают, – говорит он мне, берясь за скобу двери. – Айда, пымаем.
По ночам мать дежурит на МТФ. Иногда она остается дома, и тогда я сплю с ней в ее кровати. Она подолгу не засыпает и тайком чуть слышно всхлипывает. Прижавшись к ней, я слышу, как у нее сипит в горле, когда она сглатывает слезы.
Бабка молится тут же в темноте горницы, стоя на коленях, и громким шепотом просит:
– Господи, царица небесная, заступница милосердная, сохрани и помилуй… защити от стрелы, праща и огня…
С дедом всегда веселей. Он приходит вечером, обсыпанный соломенной трухой, шумно хлопает рукавицами. У него озабоченное худое лицо с черной короткой бородой, строгие серые глаза. Он раздевается и, вдруг заметив меня, светлеет.
– Эк, а ведь я забыл. Тебе лисица гостинец прислала, – он достает из кармана полушубка белый от инея ломоть хлеба. – Едем мы, а она выбегает и говорит: «У вас там внучек есть, хороший такой парнишка, я вот ему калач спекла».
Зажигают свет, садимся ужинать. Хлебаем постные щи, едим печеную картошку, запивая ее чаем с «курягой» – сушеной свеклой. После ужина дед ставит лампу на лавку, садится подле на поваленный табурет подшивать валенки. Я примащиваюсь поближе и не отрываясь слежу за его руками. Когда у деда хорошее настроение, он начинает напевать без слов песню. Я смелею от его доброго расположения.
– Деда, стих расскажи. А, деда… – прошу.
Я знаю от него уже много стихов.
Вечер был, сверкали звезды,
На дворе мороз трещал.
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно…
Авторов некоторых стихов не знаю и сейчас.
– Опять стих? – удивляется дед и, клонясь над работой, начинает тихо, распевно говорить:
Под большим шатром
Голубых небес…
Голос у деда то звучит высоко, то плавно понижается. Под конец он становится тверже, торжественней. Отложив работу, сверкая глазами, он смотрит на меня и машет зажатым в руке шилом.
И уж есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью.
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в беде
Сложить голову.
Разучивая стих, повторяю за дедом слова, громко кричу, и пламя в лампе моргает. Оба мы разгорячимся, раззадоримся, нам весело.
А однажды среди ночи запоздавший почтарь привез извещение о том, что отец «пропал без вести». До сих пор помню ту полуночную тревогу, поднявшуюся в доме, которую я ощутил сквозь сон, – приглушенный говор, всполошный топот ног, хлопанье дверей. Но не могу проснуться, только слышу, как дед, прижимаясь к моему лицу, обдает горячим дыханием, щекочет бородой, и теплые дедовы слезы холодеющими ручейками текут по моим щекам.
В тот день снежная гора, на которую меня изредка пускали, показалась маленькой и бедной, а санки – наскучившей игрушкой.
Скоро забрали мать рыть окопы. Дом еще больше опустел. Дед ходил осунувшийся и почти ни с кем не разговаривал. Только иногда посадит меня на колени и, покачивая, молча поглаживает по голове.
А зиме и навалившейся на дом тоске, казалось, не будет конца.
Помню вечер. Дед лежит на печке, прикрыв глаза ладонью: Я сижу в углу у его ног. Над печным окошком вздрагивает свесившаяся со стрехи солома. В белой вьюге гнутся под ветром косматые призрачные ивы. Я уже давно привык, что жизнь превратилась в бесконечное ожидание несытного обеда, ужина и сна. И теперь жду, когда совсем стемнеет, зажгут свет, и бабка соберет на стол.
Неожиданно дед приподнялся, заглянул в окошечко и, чуть помолчав, вдруг заговорил нараспев:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя.
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
Сжавшись, я слушаю деда. По спине проходит дрожь, словно по ней провели холодной рукой. Как это верно говорилось и про плачущую вьюгу, и про соломенную крышу. Я даже посмотрел вниз на промерзшие окна избы, где темными всполохами пролетал ветер и снег. Мне показалось, что там стоит одинокий иззябший путник.
– Ну, как? – спрашивает дед. – Хорошо сказано?
Я киваю головой.
– То-то же. Это Пушкин сочинил.
– Пушкин… – повторяю я, силясь представить этого человека, тормошу деда расспросами о нем. Дед слезает с печки и приносит из горницы книгу в потемневшем переплете. Я тоже заглядываю в книгу и вижу на бумаге множество маленьких, черных, как букашки, букв. Дед показывает мне портрет курчавого человека с очень живыми глазами, но одетого странно, не по-нашему.
– А он где сейчас? – спрашиваю я деда.
– Э-э! – значительно говорит дед и машет рукой. – Далеко…
– А ты его привези к нам, домой. Ладно? – упрашиваю я.
Дед загадочно усмехается и говорит, что этого сделать нельзя. Но я не отстаю и твержу свое. Я представляю, как холодно Пушкину сейчас с непокрытой головой, и он ходит где-то далеко по темным полям, а может, близко подходит к нашему селу, смотрит на огни и не смеет зайти в тепло, и опять упрашиваю деда. Дед, наконец, соглашается и, смеясь, треплет мне волосы. Он смотрит на меня потеплевшими, влажно блестящими глазами, снова говорит, выпевая слова:
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя…
На другое утро он еще затемно собирается ехать за соломой, и я наказываю ему взять еще одну шубу.
– Зачем? – спрашивает дед.
– Да Пушкину-то! – досадую я на его забывчивость.
– Ах ты, и правда ведь надо взять! – успокаивает меня дед.
Остаемся с бабкой. Она разжигает печку от вчерашних углей, а я хожу по кухне и громко читаю стихи.
– Окаянный, – ворчит бабка, – все уши прозвенел.
И едва только вечером открывается дверь, подбегаю к деду.
– Привез?
– Кого? – спрашивает дед.
– Пушкина-то! – опять обижает меня забывчивость деда.
– Нет, не сустрелся, – отвечает. – А вот калач лиса опять прислала.
Долго хожу опечаленный, неутешенный, не притрагиваясь к калачу. Дед замечает мое уныние и берет меня за плечи.
– Да не горюй ты! Он еще сустренется. Непременно сустренется.
Возвращение
Саша Вдовин убежал со стройки. Вдруг… Никому не сказав ни слова.
Город еще спал, когда он торопливо вскочил в вагон утреннего поезда, волоча за собой задевающий в проходах чемодан.
В пустом прохладном купе он сел у окна, зажался в угол и с нетерпением стал ждать отправки.
Наконец состав потихоньку пошел, и скоро, словно подталкиваемый кем-то, начал набирать скорость. Под ладный, успокаивающий стук колес тревога Саши отодвинулась, утихла. Надоевший город остался позади. Промелькнули и исчезли высоковольтные мачты, густо, коридором подступавшие к подстанциям металлургического комбината. Поезд вырвался на степной простор, весь в желтых квадратах августовских хлебов.
Промелькнуло село на взгорке и щемяще напомнило родную деревню. Уж там-то заживет он по-новому! Что особенного, если не по душе ему ни город, ни стройка? И без него в городе людей хватает. Обойдутся.
И колеса подтверждали: «Так! Так-так! Так!..»
Сладко, дремотно смежаются глаза. И уже вроде не в поезде едет он, а вся земля, от края до края в цветах, разнотравье, в тучных хлебах, как могучий плот, несет его мягко и стремительно, так что замирает сердце.
Состав качнуло на стрелках, и Саша проснулся среди шумной дорожной сутолоки в вагоне – хождений, разговоров, тесноты. Солнце поднялось уже высоко, время приближалось к девяти часам.
На стройке теперь вовсю шла работа. Кругом перезвон кранов, треск сварки, запах карбида. Надрываются в пыли машины с грунтом, кирпичом, бетоном, плывут громадные конструкции на тросах. С каждым днем все выше поднимается корпус доменной печи.
Как несовершеннолетний Саша приходил на работу на час позже. Девчата встречали его веселыми выкриками.
– Санек Малышка пришел!
– Неужели? Ну, теперь держись!
– Нинка, любовь-то твоя, глянь…
– Ха-ха-ха! – заливается хохотушка Вера.
Нина Федорова не слушает вздора – работает. Только глянет с высоты, улыбнется Саше. Она к тому времени успевает поднять две высоких штрабы, чтобы Саша, зачаливая шнур между ними, заполнял стену кладкой. Никита Васильевич, бригадир, молча покажет ему в сторону Нины – значит, работать с ней. У него уйма дел. Он все на стройке знает, везде успевает и все замечает.
– Саша, шов толстый гонишь! Раствор не жалеешь! – кричит он издалека, хотя сам занят своим делом и даже стоит к нему спиной.
А то подойдет и начнет поправлять Сашину кладку. Пристукнет мастерком один кирпич, подобьет другой, третий, и неуклюжая, кособокая стена выправится, станет как натянутая струна. Саша всегда с недоумением смотрел на эту враз преображенную свою работу.
«Обойдутся», – вздохнул он, стараясь отмахнуться от мыслей о бригаде…
К вечеру он был дома.
Мать прибежала со скотного двора в сапогах, измазанных навозом, на халате и платке сенная труха, а вся такая домашняя, родная. Глаза ее сияли, будто кто-то веселил их изнутри.
После радостно-суетливых минут встречи оба вдруг спохватились, что пора и делом заняться. Саша побежал носить дрова и воду в баню, мать загремела кастрюлями на кухне.
Потом, спохватившись, выбежала во двор, крикнула:
– Отец-то у нас допоздна на уборке! Ведь он про тебя не знает. Пойду на ток, с шоферами передам, может, отпросится!
За стол сели после бани, когда уже совсем стемнело. Отца так и не дождались. У Саши глаза разбегались от разнообразия еды. Тут тебе и глазунья на сале, и румяные намасленные блины, мед с дедовой пасеки, молоко вечерней дойки с теплой шепчущей пеной. Мать сидит напротив, сама к еде не притрагивается, задумчиво поглаживает рукой скатерть да глаз с него не спускает.
– Ешь, сынок, ешь, – угощает она.
– Мам, а там, в городе, молоко какое-то порошковое, что ли. Даже не пахнет им.
– Ну, попей, попей настоящего, домашнего.
Саша на минуту отложил ложку, прислушался к тишине за темным окном, оглядел избу.
– Хорошо-то как тут, покойно, – проговорил он.
– Тут эдак. Ночью залает собака – я уж по голосу узнаю: нашего деда Жучка.
– Даже не верится… Домой приехал, – Саша чуть заметно передернул плечами, усмехнулся: – Все кажется, вроде за спиной гудит стройка.
– Или не показалось в городе-то? – осторожно спросила мать.
– Да так-то ничего. Но дома лучше, – уклончиво ответил Саша, низко наклоняясь к еде.
– Устал, видно. Отдохнешь немного, и все пройдет, – утешила мать, а сама затревожилась: что-то недоговаривает сын.
Саша лег спать в горнице. Мать осталась прибираться, потом прошла к сыну и, не зажигая света, присела в изголовье. Саша, казалось, спал, но вдруг он шевельнулся в глубине подушек.
– Отец так и не приехал. Разве позволят в такое время остановить комбайн. Погода как по заказу, только убирать, – проговорила она.
Помолчали. Тихо было в избе.
– Мам, а летом на стройке бывают сильные ветра, тогда сплошная пыль поднимается… – пожаловался Саша. – Шлак, цемент, известь – все летит в лицо. Бригадир кричит, рабочие не слышат – ветер мешает, А зимой тоже кладку ведут. Раствор льдом покрывается, лицо деревенеет. Когда пурга – снегом заносит конструкции, кирпич. Целыми днями откапываем. Весной заладят дожди, машины с раствором и кирпичом буксуют в грязи, бульдозера их вытаскивают. А мы поработаем немного – бежим в бытовку сушиться. Потом опять идем работать. К концу дня все равно вымокнем до нитки.
Саша замолчал, он выговорил все, что готовился сказать мамане по приезде, что накипело в нем против стройки, против города. Тогда ему представлялось, как она скажет: «Господи, да на кой шут тебе такие мытарства среди чужих людей? Иль у нас в колхозе дел нет!?»
Но мать после его жалоб притихла, ушла в себя.
– А я ведь говорила тебе, сынок, – с мягким укором наконец сказала она, – не уезжай, оставайся дома. Чем тут не жизнь?
Саша, виноватый за свое давнее ослушание, покаянно примолк, и мать, считая, что сказала слишком резко, успокоила:
– Ладно, спи. Я тоже пойду прилягу. Отца, видно, не дождешься…
Она ушла, и тут в горле у Саши вдруг вскипели и стали душить слезы. Он резко повернулся со спины на живот, уткнулся лицом в подушку. Несчастнее его, думал сейчас Саша, не было на свете человека. Никто не хочет понять, даже мать, как ему одиноко и тоскливо в чужом городе.
Больше всех винил он в своих несчастьях учительницу, преподававшую им в восьмом классе математику. Невзлюбила она его, ставила весь год несправедливые двойки. Саше учительница тоже опротивела, ее вид и даже голос раздражали его. Она вообще отбила у Саши всякое желание к учебе. И он не пошел в девятый класс. Тем же летом им вздумалось с Вовкой Крыловым прокатиться на председательской «Ниве». Хотели успеть, пока шофер ходил обедать, выехать на автостраду, промчать с ветерком по асфальту и вернуться, поставить машину на место. Но шофер догнал их на другой машине, отвез в райцентр и сдал в милицию. После этого никакой жизни не стало Саше в селе, и осенью он уговорил старшего брата взять его к себе в город. На дорогу отец сказал совсем обидное: «Пусть его там жареный петух поклюет, куда следует». Он не мог простить Саше угона машины. Хотя сам, когда был маленький, катался с ребятишками верхом на телятах. Телята паслись за селом, они ловили их и обучали езде. Все это Саша знает со слов самого отца. Однажды он ехал на телке по выгону, а навстречу шла бабка Анюта. «Милок, это никак наш телок. У нашего такая же масть: пегый и звездочка на лбу». – «Так я тебе, бабка Анюта, и отдам своего телка. Наш тоже «пегый», только обученный, а ваш нет. Ты сначала обучи своего пегого со звездочкой…»
В городе Сашу нигде не брали на работу, потому что он был малолетка. Наконец брат устроил его каменщиком, но жена брата оказалась неприветливой. Косилась на каждый его шаг в квартире, не ускользало от ее внимания любое Сашино движение. Стоило ему помыться в ванной, она затем долго натирала ее содой. И Саша ушел в общежитие.
В комнате общежития соседи по койкам все были старше его, в выходные дни часто устраивали гулянки. Саша в них участия не принимал. Вольный разговор и шутки в компании, громкая магнитофонная музыка звучали для него тоскливо и непонятно. Он уходил на улицу, где в парках и скверах распускались не те цветы, которые он привык видеть. Листья на кленах и тополях хоть и походили на листья сельских деревьев, но все равно были чужими. Ему хотелось своего воздуха и своего солнца.
Глубоко за полночь его будил кто-то, весь пропахший бензином, звал голосом отца: «Сань, Саньк! Проснись, а то мы с тобой так и не увидимся! Проснись же! Не хочешь? Ну, ладно, тогда приезжай ко мне на поле. Приедешь?»
А утром заявился дед. Тут Саша уже не спал, потягиваясь, нежился в постели, с неловкостью вспоминал недавние ночные слезы. То, что вчера было безысходным, сегодня виделось простым и ясным. Вот сейчас он встанет, оденется и, выйдя на кухню, скажет матери свое решение.
Но пока на кухне кряхтел дед. Постукивая палкой об пол, он прошел к своему обычному месту, к лавке у столба, подпирающего матицу. Слышно было, как уселся.
– Что, Лукерья, никак Санек возвернулся?
– Приехал.
– В отпуск или как?
– Кто его знает. Жалуется, тяжело.
– Тяжело… – повторил дед и погрузился в долгое стариковское молчание. Потом сказал: – Пусть приходит, как встанет.
Саша застал деда во дворе. Он что-то стругал на верстаке. В открытую Сашей калитку влетел ветер, пробежался по двору.
– А, Санек, здорово, здорово! С прибытием!
Бабка заохала, застонала и пошла по избе вспугнутой наседкой. Собрала на стол, уселись кушать, но для деда это застолье было только предлогом. Он тут же приступил к расспросам.
– Ну-ка, расскажи, какие там дела вершишь?
– А какие? Стены кладем…
– Что за стены?
– Доменную печь строим.
– Какую такую печь, ай ты печник?!
– Нет, дед, в доменных печах металл плавят.
– Вот как! – изумился дед. – Металл! Тогда слушай: у нас тут на вилы и топоры нехватка, а без них в хозяйстве не обойтись. Ты не можешь там посодействовать, чтоб их больше выпускали? Я тебе вот какую штуку покажу, а ты полюбуйся… – Дед расторопно вышел из избы и принес со двора заржавевший, треснутый на изношенном обухе колун, стал вертеть его перед Сашей в заскорузлых руках. – Полюбуйся! Чем мне дрова колоть, особо коряги, свилеватые чурбаки?..
– Что ты всякую нечистоту несешь к столу? – упрекнула его бабка.
– Ты не мешайся… – дед отложил колун, вытер руки и снова сел за стол. – А у тебя там как раз по этой части можно…
– Ладно тебе, пристал к парнишке, – недовольно выговорила бабка.
– Доменную печь наш Саша строит! Доменную, поняла? Металл будут в ней варить! – дед повысил голос и потряс ложкой. – Не то что вон твоя дымилка. Ему на нее раз плюнуть – и сделает. Вот завалится она у тебя, а он приедет и новую складет. Только кирпичи успевай подавать.
…Из гостей Саша ушел в досаде на деда. Совсем заговорил его старый, а Саше и рта не дал открыть. «Печку бабке сложить… Поезжай, посмотри какие там «печки» ложат, про свою тогда и не заикнешься».
Мать была на откормочном комплексе. Саша неприкаянно ходил по пустому двору, вокруг дома. Поездку к отцу в поле все откладывал. Что-то его удерживало. Можно бы заняться делом, помочь матери по хозяйству, но на душе было неспокойно, работа не шла на ум.
Прибежала на обед мать, всполошилась:
– Сынок, ты к отцу-то иль не ездил? Да как же так? Он ведь теперь заждался. Езжай! Прямо с тока машины ходят. Спросишь, котора от Вдовина комбайна хлеб возит?
Сашу ободрили слова матери, он повеселел. Собрала она и узелок, гостинец отцу. Когда Саша вышел, мать крикнула в дверь, с намеком помигала глазами:
– Ты там это… уж разговаривай с отцом-то. Может, он тебе чё скажет…
Скоро он мчал в машине по проселочной дороге. Отец работал на самом дальнем отделении, путь был неблизкий. Быстрая езда еще больше возбудила Сашу. Летели навстречу, мелькали мимо валки пшеницы, убранные поля со сдвинутой к краю соломой, молодой, золотисто сверкающей на солнце. По жнивью кое-где уже пролегли черные полосы пашни. Все это – и быстро летящая навстречу черная пашня, и валки, и блестящая стерня – медленными от горизонта кругами уплывало назад, оставаясь где-то за пыльным хвостом машины.
Шофер, командированный горожанин, свернул с дороги и прямо по стерне поехал к пылящим недалеко комбайнам. Пристроился к одному из них и вел автомобиль следом уже на малой скорости. Саша увидел отца со спины в открытой кабине, по лесенке вбежал наверх, стал сзади отца.
– Пап! – радостно крикнул он сквозь шум.
Не оборачиваясь, отец быстро передернул рычагами, остановил машину.
– Санька! Сын! – запыленное лицо отца сморщилось, в глазах влажно заблестело.
Сейчас, крепко стиснутый в его объятиях, Саша особенно явственно ощутил степные запахи страды. Горклый, теплый запах пыли вперемешку с запахом мякины и пшеничного зерна исходил от рук и рубашки отца, витал над комбайном, над шумными вращающимися частями его.
– Будил, будил тебя утром! – говорил сияющий отец. – Как богатырь спишь. Ну, что? Как твои дела?
– Да, нормально! – тоже весело отвечал Саша.
– Вот и отлично! Айда, поработай со мной. Заодно повидаемся, да наговоримся вдоволь. Я ведь как привязанный тут. Хлеб-то не бросишь. Видишь, сколько его?! – он повел рукой и тут же хозяйски махнул шоферу: – Подъезжай, грузись!
Весь день веяло над полем пшеничным духом, измельченной, перебитой в чреве комбайна соломой. Отец, внимательно следя за подборщиком, иногда оборачивался к Саше, приветливо сияя белозубой улыбкой, рассказывал:
– Косил на свал. На этом же поле. Полоска все уже, уже. Гляжу: зайцы в ней начали метаться. И тут серые клубки – как стреканули! Веером – на весь белый свет!
Отец не успевал закончить свой рассказ, а улыбка с лица его сама собой исчезала. Работа затягивала, не давала возможности отвлечься надолго. Но отец все же выбирал время, оборачивался. Однажды спросил:
– Что ж, отпуск себе заработал?
– Ну да! – сказал Саша и даже не успел смутиться: отец, отведя назад руку, еще раз обнял его за плечи, похвалил:
– Совсем ты у меня взрослым, самостоятельным становишься. Молодец!
Да и забылась она скоро, эта досадная промашка с ответом. Пока комбайн уходил в один конец поля, другой далеко и надолго скрывался. Машины не успевали увозить намолоченную пшеницу. А тут еще приходилось деревянной рейкой проталкивать зерно при разгрузке, когда оно зависало в бункере над отверстием в шнек. Устраняли они и мелкие поломки. Под присмотром отца Саша пробовал даже управлять комбайном. Сначала дух захватило от робости: вся махина в своем движении, в шуме и грохоте вдруг оказалась в его руках, но, к удивлению, покорно слушалась.
– Давай заночуем здесь? А? – уже на заходе солнца предложил отец. – У нас не все ездят домой. Далеко. Туда да обратно – час с лишним уходит. За это время можно и вздремнуть, и комбайн смазать.
– Конечно, заночуем! – обрадовался Саша случаю переспать в поле.
– Договорились! Тогда съезди, мать предупреди и возвращайся. Фуфайку себе на ночь не забудь прихватить.
Когда он вернулся, поле светилось огнями, комбайны работали без остановки. В свете фар над полем клубилась пыль, ярко высверкивала поднятая в воздух мякина. Руки отца с въевшимся в них мазутом и землей теперь уже с заметной усталостью крутили руль «Нивы». Но работу прекратили лишь около часу ночи.
Ужинали на полевом стане вместе с другими комбайнерами. Под пологом над столом горела лампа, а вокруг стояла густая непроглядная тьма. Как редко выпадающее счастье, был для Саши этот ночной ужин с горячим пшенным супом с дымящимися кусками мяса в нем, в кругу усталых молчаливых людей.
Спать улеглись вдвоем у копны. Сухая солома звонко звенела в тишине, когда отец делал из нее постель. Наконец легли, успокоились. Саша, глядя на высокие звезды, слушал, как возится в копне мышь.
– Пап! А что же шофера у вас одни городские? – начал он с дальним подходом. – Да и комбайнеры не все сельские…
– Обокрали села людьми, потому и нет своих. Вот теперь и приходится обратным заходом городским же хлеб убирать… – Отец, зашуршав соломой, повернулся со спины на бок; чтобы Саша не обиделся, потрепал его за плечо, засмеялся: – Ты тоже, помнишь, пошоферить хотел, да в каменщики переметнулся…
– Пап, а если бы у тебя был помощник, – опять вкрадчиво намекнул Саша, – можно бы и днем и ночью хлеб убирать иль косить? Попеременно. Один отдохнул – другой поработал.
– Еще как можно! Особенно на свал косить. Но помощников нету. Мать вон на откорме – ей скоро на пенсию выходить. Доярки тоже все уж в годах. Придется со временем вам самим скотину убирать и коров доить. – Близко ходил словами отец возле Сашиной задумки, но единственного, обнадеживающего – не говорил. А Саша, затаясь, ждал его. Но отец спросил совсем о другом:
– Стены-то хорошо научился класть?
– Как сказать… Другие лучше умеют.
– Если, к примеру, коровник сложишь – не завалится?
– Ого, сказанул, коровник! Разве я осилю?
– К нам армяне приезжали – осилили. Будто в сказке, выросла у них кошара. Только сквозь стены небо можно разглядеть. Как в решето. Почти насухо уложили кирпич… Цыганский табор стоял, мужики из него нанялись бороны отремонтировать – те еще хлеще устроили. Бороны покрасили, в пирамиду составили: внутри гнутые, поломаные, снаружи – хорошие. Завмастерскими крепко угостили, он им пьяной рукой акт подписал. Во-о, Санек, дела! За кровные деньги колхоза, за тыщи немалые двойной разор ему же делают. Получайте после этого, люди, и хлеб, и мясо..
– Нет, наш бригадир строгий.
– У вас что же, завод литье-то дает?
– Давно. Сейчас пятую домну строим. И сталь в мартеновских печах плавят.
Отец, удобней укладываясь, снова пошевелился на соломе.
Значит, если взять мой комбайн – все железо, считай, оттуда?.. – Он глубоко, протяжно зевнул и замолк, не дожидаясь ответа. Одинокий комар, когда Саша уже засыпал, подлетел к самому лицу, пропел: «Дзуууг!» – «Ишь, какой подлиза, – подумал Саша. – Подкрадывается: «Друууг!» Он смахнул его сонной рукой.
Утром, лишь только занялся рассвет, его разбудил треск моторов. Отец уже ходил вокруг своей «Нивы». Саша подбежал, принялся помогать отцу – шприцем нагнетал солидол в подшипники валов, затем полынным веником обмел мостик, лесенку, сам корпус комбайна. В полях стало совсем светло. Не дожидаясь завтрака, комбайнеры вывели машины со стана.
– Начнем и мы рабочий день? – спросил отец.
Но едва приступили к подбору валков, он сразу углубился в работу, реже отвлекался на разговоры. Просторно лежала земля в утреннем покое, четко видная убегающей стерней, пролегшими по холмам дорогами, отдаленными телеграфными столбами по-над самым горизонтом. Заглядишься на нее, и в голову сами собой приходят серьезные мысли. Вроде бы какой-то вечный, неотвязчивый вопрос задает она человеку своим молчанием. Отец сидит пропыленной спиной к Саше, покачивая головой в мелкой тряске при езде, и как бы машинально крутит руль, а сам давно, может, уже много лет думает над ее молчаливым вопросом.
За межой, на земле соседнего колхоза, оранжевый «Кировец» прорезал по светлому жнивью черную, прямую, как тетива, полосу пашни, утянув ее за край, и сам скрылся там, в незнакомых полях.
И на них, подумалось Саше, так же трудятся люди и машины. А еще дальше стоит в дымах город металлургов. На лесах бытового корпуса возле возводимой домны рассыпалась его бригада, ложит стены, позвякивая мастерками о кирпич. Бригадир Никита Васильевич, всегда хмурый в начале дня, ходит по настилу, устраняет неполадки, командует, куда в первую очередь подать краном материалы. Нина Федорова ведет теперь кладку одна, по привычке оглядывается, видит Сашино место пустым и гадает: что же с ним могло случиться?
Когда работали они вместе и выдавалась свободная минута, Нина обычно садилась против Саши, заглядывала ему в лицо.
– Сашенька, по дому скучаешь?
– Да, – кивает Саша.
– Ох, и скучливые мы с тобой. Ну, ничего, как-нибудь выдюжим, – и поправляет его волосы, прячет под фуражку. – Какие они у тебя мягкие, ласковые, как вода.
Но о Нине лучше не вспоминать. Даже отсюда, издалека, стыдно заглянуть ей в глаза. И хотя в такую рань никого не должно быть на лесах быткорпуса, Саше все равно чудится дружное позвякивание мастерков о кирпич. Стараясь отвлечься от видения своей бригады, он смотрит на пшеничный валок, нескончаемо бегущий в подборщик, и чувствует себя праздным не у дел человеком. Ему становится неловко за свою неопределенность в жизни. Он снова приходит в уныние. Как только подъехала первая машина к наполненному зерном бункеру, Саша тронул отца за плечо.
– Пап, – кричит он ему на ухо, – я домой поеду!
– А что? – оборачивает отец серое в щетине лицо, губы слегка кривятся виноватой улыбкой. – По матери соскучился?
– Да нет, просто так…
– Ну, езжай.
Все еще было раннее утро, а он был уже дома. Мать еще не успела уйти на работу.
– Ну, как у вас там дела? – она испытующе оглядела Сашу с ног до головы. Пристальней посмотрела в глаза.








