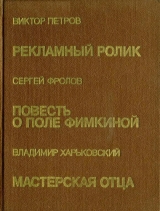
Текст книги "Повесть о Поле Фимкиной"
Автор книги: Сергей Фролов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Дуне Рубчихе, конечно, легко судить со стороны, замечать, как сноха подсолнухом тянется за Вовкой. О чужих людях посторонний человек все знать не может, видит лишь, что в глаза бросается. Сначала и самой Поле нравилось, любовалась детьми: «Как голубки!» Но потом надоело. Только и знают, что милуются, в глаза друг дружке глядят. Жизни вокруг себя не хотят видеть, как будто она их не касается. Но Поля-то знает: висят они на нитке, опоры под ногами никакой не имеют. В один миг могут сорваться и полететь в пропасть. Подсолнух-то тянется за солнцем, но корнями в земле держится, соки себе из нее берет. А у Полиных детей все в воздухе. Как вон то облако в небе. Вроде плывет, красуется, через некоторое время глянул – нету его, ветер разметал на клочки.
Никто не знает, Поля скрыла, что у них весной получилось. Вовка в то время на посевной с утра до ночи пропадал, а сноха тут начала метаться, места себе не находила. И, греху случиться, встретилась ей, это уж потом Поля узнала, какая-то Вовкина невеста, будто бы еще до армии с ним дружила. Пригрозила снохе кислотой глаза облить. Кто такая, до сих пор Поля не знает. Их перед службой много к нему прямо на дом ходило. Да он с ними не очень связывался. В тот день и зашла Поля к снохе, а она вся в слезах, ревет навзрыд. Стала ее Поля расспрашивать, но она огрызнулась и давай на своем языке, по-черкесски ругаться. Ни одного слова не разобрала Поля из ее крика, только видит, как губы тонкие извиваются, и глаза из мокроты сверлят злые, пронзительные. А то вдруг взвизгнет и руками перед собой как вроде материю с треском разорвет. И опять рыдать возьмется. Но к себе подступиться совсем не дает. Только Поля шагнет к ней, она ногами так мелко затопает и еще сильней визжать примется. Совсем дикая стала. Того гляди и Полю разорвет на части, если бросится. Внучка тоже плачет не своим голосом. Сплошной вой стоит в доме. Впору хоть самой Поле становиться рядом с ними и голосить. Взяла Поля девчонку на руки, успокоить, а сноха-то прямо рывком как выхватит ее и опять начала ругаться и глазами злыми пронзать. Изо всего только и поняла Поля, как сноха вроде с проклятьем произносит слово «Вова». Что-то сыну уж больно доставалось. Почуяла тогда Поля неладное и побежала попутную искать, к Вовке хотела съездить. Вернулась, может, через час, машину не нашла, а в доме ни ее, ни девчонки. Тишина кругом, только ветер, как сегодня, свистит в загородке. Ноги-то у Поли и подкосились. Сердце сразу беду почуяло. Жуть страшная охватила, вроде мертвый стал дом. Какая-никакая жена, а держава семьи. Без ног побежала Поля опять по селу, все закоулки обглядела – нету нигде. Повстречался Лешка Ситников на бензовозе: «Тетка Поля, я твою молодую в район, в Киселевку, подбросил». И домой не заглянула она, прямо с улицы села устремилась по дороге в район. Полпути пешком одолела, потом чья-то бортовая подобрала. Там – и на автовокзал забежала, и в столовую, и по магазинам – куда только не заглядывала! Но сноха как будто испарилась вместе с дитем. Последний автобус уходил в город, Поля в салон зашла, каждой женщине в лицо всматривалась: может, в ком сноха померещится. Домой шла уже в сумерках, жить совсем не хотелось, молила: хоть бы земля под ногами разверзнулась, насовсем поглотила! Опять один лишь путь держала – к сыну, в беду эту, в разруху. Открыла дверь – мать ты моя родная! – сидят, и она, и Вовка, на диване. Как нечистая сила откуда ее вынесла. Только сидят в разных концах. Вовка ей что-то говорит, она спиной повернулась, головой кивает. Слушала, слушала, потом спинку-то свою узкую согнула, подвинулась к нему и говорит: «Вова, ударь меня, побей».
Так вот и горемычит Поля со своими детьми. Выкинут иной раз штучку – голова кругом идет. У нее и посейчас, если в доме никого нет и двор пустой, начинают дрожать коленки, как в тот раз. С тех пор живет Поля и постоянно ждет беду. А захомуталась бы сноха, по мысли Поли, в делах, в заботы с макушкой скрылась – дурь-то из головы вылетела бы.
– Нет, дочка моя дорогая, – вслух заговорила Поля, – давай засучай рукава, с тобой рядом стану, все будешь делать, как я. Никуда ты от меня не денешься…
Поля спохватилась, поглядела в сторону сарая.
– Господи, да чо ж она не идет-то! Ай куда опять шмыгнула?
И вышла на середину двора, голосисто окликнула, как будто разыскивает сноху:
– Маша! Дочка, где ты?
Немного погодя послышался легкий хруст за сараем, и показалась сноха. Глянула издалека своими темными смутами, не размыкая губ, улыбнулась.
– Вот ты где! А мы все сено просушили, отпустили нас совсем. Давай помогу тебе с делами. Зорьку доила?
– Нет, собираюсь идти, – проговорила она, направляясь в дом. Вот так сноха частенько с ней, Полей, когда нет Вовки, обходится: ресницы опустит, будто два черных шнурочка пролягут, тень непроглядную наведет ими на плоское лицо и пройдет мимо, плечом не колыхнет. А Поля гадай, какой сатана у нее в душе засел.
– Айда, дочка, вместе сходим… – подлаживаясь под настроение снохи, говорит Поля ей вслед.
По пути к речке, где находится стойло, Поля, довольная, что сноха идет с ней рядом плечо в плечо (пусть народ посмотрит, полюбуется!), все наставляла ее:
– Завсегда, дочка, так: первые месяцы после отела любую корову доят три раза на день. А ваша первотелка, ее тем более надо раздаивать. Потом она зальет тебя молоком. А с ним – и маслице у тебя, и сметана, и творог…
Когда сноха села доить, Поля отошла в сторонку, но Зорька тянула к ней морду и чуть слышно помыкивала. Поля подняла с земли прут, погрозила:
– Я те… Вон куда гляди, там твоя хозяйка!
К концу доения она подошла к снохе, стала подсказывать:
– До конца, дочка, все остатки вытягивай. Чтоб молока ни грамма не оставалось. Так, так… Вот и все, вот и хорошо! – похвалила.
Вернулись со стойла, опустили молоко в погреб.
– Какие молодчины мы с тобой, одно уже спроворили, – подбодрила она сноху.
Серафимка еще спала. Возле стола у снохи лежал ворох белья, и были приготовлены утюг и гладильная доска.
– Гладить собралась? Давай пока занимайся, а я погляжу, что у меня дома творится.
Дома она бегом поделала то, что было неотложно, на ходу перекусила и быстро вернулась, прихватив с собой мотыгу и грабли. По пути увидела: Козанков трактор так и стоит, с места не стронулся.
Сноха еще гладила, и Поля принялась сгребать во дворе мусор – щепки от дров. Выглядывала эта убогость из травы, зарастать начала. Собрала большую кучу, прошлась еще веником и все отнесла за сарай.
Вышла сноха с Серафимкой, остановилась на крыльце.
– Ой, мама, что же меня не позвала?
– Ладно, ладно. Ты тоже делом занималась. Давай корми дочь, да наделаем с тобой вареников. Пусть готовые лежат. А картошку закончим полоть – сварим на ужин.
Под конец сноха стала веселой. Когда пололи картошку, Серафимку тоже взяли на огород. Она, держась за стебли ботвы, переходила от куста к кусту, а они со снохой то и дело окликали ее, забавляя. Если стебли обрывались, и внучка падала, обе со смехом бежали ее выручать. Хорошо стало и ей, Поле, и снохе. Поля видела, как та увлеклась работой. Вот так, с богом, потихоньку все и наладится у них. С Вовкой-то она справится, его она и обидеть не побоится, в глаза любую правду скажет.
Солнце начало снижаться, слабее припекать. Вернулся с работы Вовка.
– Привет единоличникам! – крикнул он и огляделся по двору. – Субботник, что ли, сделали? В честь какого праздника?
– В честь такого, учись, как хозяйствовать надо! – ответила ему Поля.
Вовка зафыркал под душем, начал ходить по двору, подтягиваться на турнике, и сноха опять заоглядывалась, стала сбиваться в работе.
– Айда, тяпай, дочка, немного осталось… – подгоняла ее Поля.
Вовка зашел в квартиру, раскрыл настежь окно и уселся на подоконнике с гитарой. Звякнул по струнам, заперебирал. «Милая моя-а-а… – запел, – взял бы я тебя-а-а». Сноха, бедняжка, вся извертелась: и из-под локтя взглянет, и повернется к дому передом, вроде тяпает, а глаза ей, как магнитом, тянет к окну.
– Сейчас же затвори окно, мух в дом напустишь!
Вовка захлопнул створки, но включил магнитофон и вышел на крыльцо уже принаряженный в белую рубашку, черные брюки, пиджак форсисто наброшен на плечи. Принялся поддразнивать:
– Ты, мать, жену у меня стахановкой сделаешь!
Маша рассмеялась, запрокинула лицо в небо, так что тугая коса повисла в воздухе. Манера у нее, давно заметила Поля, смеяться так, когда в хорошем настроении, веселая и все по ее идет. И сейчас понравилось ей, что муж обратил внимание, пошутил. Лицо-то хоть и запрокинула, а сама ненароком стрельнула на него темными щелками.
«Эх, глупенькая ты, – по-женски посочувствовала ей Поля, – простецкая… Все козыря у тебя на виду… не прячешь. Не дай бог, воспользуется он, начнет дуроломить…»
А тот все поддразнивал, улыбался; издали было видно – янтарь заиграл в глазах. Вроде специально передал ему батя свои зенки, на память Поле. Да чтоб девок с ума сводить. И брови отцовы, и лицо матовое, приятного цвета. Они-то с Машей освещались закатным солнышком, а он в тени от дома стоял. И вот отсюда хорошо проглядывалась в нем сейчас батина колодка. Тот тоже беспечный был, неимоверно, последнюю рубаху с себя снимал. Кто знает, где он и сгинул…
– Ты, чать, не картинка, – распрямившись, крикнула Поля. – Стоишь рисуешься. Я утром что велела сделать? Выключи свою музыку.
– По-твоему, как папа Карла, паши, не разгибайся…
– Я те сейчас покажу Карлу! – вытянув дряблую шею, Поля с поднятой мотыгой грозно устремилась к крыльцу.
Вовка, смеясь, попятился к двери и даже потянулся рукой снять пиджак.
– Сейчас же бери в руки молоток!
Поля вернулась и научила сноху:
– А ты, дочка, тоже скажи ему… Мол, надо, Вова, забор делать.
Та обернулась, крикнула:
– Вова, делай, мама же велит…
– Ох, да зачем ты мамкаешь! – опять вполголоса упрекнула Поля. – Сама заставляй, да построже!
Но Вовка все же взялся стучать. Они со снохой уже подходили к концу огорода. На душе у Поли стало совсем хорошо оттого, что все были при деле.
– Вот так вот вам и жить надо, – тяпая рядом со снохой, передавала она ей свои мысли. – Сама тоже становись хозяйкой, бери его покрепче в руки. Я вот что скажу, дочка, а ты послушайся меня: будет он ночью к тебе… ласкаться, ты ему скажи: «Не буду я с тобой… Какой ты мужик, у тебя двор разгорожен…» Иль еще что-нибудь про хозяйство… Скажи: «Сколь же мы цыганами будем жить!»
– Ай, мама, – засмущалась сноха, ниже склоняясь к мотыге, – я так не могу…
– Ничё, ничё, сможешь. Ночная кукушка все равно перекукует. Цену себе немного знай. Силой своей, хитростью бабьей бери его. Сдастся, никуда не денется. Хозяином будет…
Сноха не ответила. Поля вспомнила, как Козанчиха обозвала ее «немтыркой». Нюське бы поучиться у снохи так чисто говорить. Только слова у нее редкие. А на людях, в магазин ли придет, дичится всех, сроду рта не откроет.
Уже и солнце близилось к закату. Вовка расстучался – слушать приятно. Только не переодел чистую рубаху с брюками, шайтан. Тоже выхваляется перед женой. Картошке вот-вот конец придет, последние рядочки оставались. Проходили соседи, бросали веселые упреки:
– Глядите, как они разработались, кабы ночи не прихватили!
– Сноха у меня такая! – смеялась Поля. – Не отпускает, давай, говорит, мама, закончим!..
И уже окучив последний куст, воскликнула Поля голосисто и радостно:
– Все! Шабаш! Корми, молодая хозяйка, работников ужином!
И хотя надо было бежать домой, вот-вот должны были пригнать стадо, все же дождалась Поля, когда сварится ужин, все уселись за стол, и только после этого засобиралась.
– Мама, а кушать? – удержала привыкшая к ней за день сноха.
– Потом, дочка, корову подою, приду.
6
На другое утро она задержалась дома: все-таки дел набралось много. Полила помидоры с огурцами: какие бы дожди ни шли, а ветром за неделю высушило землю, коркой взялась. Собрала клубнику – опять туда, своим отнести. Подумала: когда у самих-то все будет, земля ведь одинаковая? И все же сегодня Поля проснулась – в груди не так давили эти проклятые глудки. А теперь и вовсе рассосались. Зорька не приходила, не проспала сноха. Забыла ей сказать вчера, чтобы по холодку лук с морковкой прополола, тоже в бурьяне все, как в лесу. Может, сама догадается. Нюська Козанчиха что-то не выглядывает, тихо во дворе. А то бы Поля ей за вчерашнее все вылепила. За загородкой окликнула Тараторка:
– Подруга, здорова ли?
– А то как же, здорова, айда, заходи!
– Я тебе сказать: Самоха-кладовщик поросят продает, будешь брать?
– Надо бы. И себе, и молодым своим, – опять хоть словом поддержала она своих детей.
– Тогда торопись, не достанется.
Сбегала к Самохе на самый конец села. По пути всерьез решила взять двух поросят. Все-таки успела, последних забрала. Одного пустила к себе в закуток, второго понесла к сыну. Только у них пусто было в доме.
– Что ты будешь делать? Опять шаром покати! Провалиться бы от такой семьи! – огорчилась она. Глянула на солнце: – Десять либ уже? Куда умыкнула?
Подобрала во дворе две доски, отгородила в сарае угол для поросенка. Притрусила ему пол соломой и еще в сторонке сложила небольшой кучкой. Ночью, вдруг станет холодно, зароется в нее.
Сноху она нашла у Вовки возле мастерских. Вовка под комбайном лежит, железками позвякивает, она ему ключи подает. Серафимка тут же на разостланной пеленке на припеке играет. Поля, хоть и была не в духе, все же стерпела, не накричала на сноху.
– Вот они где! Чё ж ты, дочка, дома-то все бросила? – только и спросила.
– Я Вове завтрак приносила.
– Иль утром не ел?
– Мы, мать, немного проспали, – отозвался Вовка.
– И Зорьку не подоила? – встревожилась Поля.
– Подоила и в стадо выгнала. Это уже потом задремала.
– Вот те раз, – не скрыла своего недовольства Поля.
Вовка все гремел ключами, а потом огрызнулся из-под комбайна:
– Опять не по-твоему? Что ты все ходишь, что тебе надо?
– Ниче мне не надо. У меня все есть.
– Вот и хорошо, – пробурчал Вовка.
– А я хочу, чтобы и у вас было, – Поля присела возле внучки, перенесла ее к себе на колени. – Поросенка вам взяла, принесла, а дома никого нет.
– Поросе-е-енка? – удивился Вовка и захохотал. – С тобой, мать, скучно не будет! Вот дает!
Сноха помалкивает. Учила, учила ее вчера, чтобы мужа в руки брала – толку нет. И не возьмешь ты его, если сама утром спишь, завтрак не успела сготовить.
– Да, сыночек. Я вам все даю, пока в силах еще, – ответила она. – Это вы не думаете, а я все просчитала. Осенью баранчика зарежете, до Нового года с мясом протянете. К тому времени этот поросенок пудов шесть наберет – вот вам опять мясо.
– Мясо в колхозе выписать можно.
– Шиш тебе… У колхоза все подчистую государство метет. Он сам у населения закупает.
Сноха свой молчаливый заговор с мужем поддерживает, угнулась, травинки рукой срывает.
– Айда, дочка, собирайся домой, – настаивала на своем Поля.
– Никуда она не пойдет! – приказал из-под комбайна Вовка.
– Это почему?
– Мне сейчас тут поддерживать надо, прокручивается, зараза!
– Чё ж она с тобой ребенка морить на жаре будет?
– Ребенка, если хочешь, забирай и иди!
Поля совсем рассерчала. Не о чем с ними толковать. Взяла внучку на руки и ушла.
– Черти бы вас забрали. Никак не расстанутся. Если бы ты, сношенька, в мою дудку дула, мы его б живо обратали. А ты в его норовишь дуть, ему подыгрываешь, хоть и молчишь, – ворчала она по дороге. И, поцеловав внучку, заговорила с ней: – Вот кто у меня умница-то. Ну их, скажи, Фима, подальше папку с мамкой.
– Фи-ма, – в растяжку, тоненько повторяла внучка.
– Фима моя золотко, сейчас мы с тобой попьем, потом баба кашки Фиме сварит, спать уложит. А папка с мамкой измучили Фиму на жаре.
Все это, конечно, Поля сделала: и накормила внучку, и спать уложила. Обоим поросятам молока дала. Подступило время Зорьку доить, а снохи все не было. Пришлось идти самой. И со стойла вернулась, ее все еще не было. Поля обиделась, не пошла больше к мастерским. Пусть как хотят, так делают. Но все же взялась полоть грядки. Земля не виновата, что ее так запустили, кричит и просит ухода. Поневоле берет жалость к ней. Прополола Поля и грядки. Потом наносила из колонки воду, полила их. Напротив через улицу закладывали новый дом, Поля попросила у строителей несколько ведер песка, сделала площадку у крыльца и дорожку до калитки, чтобы в дождь не тащилась в дом грязь.
Серафимка уже успела проснуться, они перебили мух во всех комнатах. Затем вместе сходили домой к Поле, а сноха все не приходила. Пришлось самой варить для них ужин. Обедать-то, может, в столовую ходили, там рядом она, а ужином в столовой не кормят…
Наконец от мастерских потянулись рабочие, пришли и сын со снохой. У снохи лицо и платье запачканы мазутом. «Что делает, – подумала Поля, – хоть бы деньги платили, а то за просто так платье угваздала». Но она не стала разговаривать с ними, не шла на поклон.
Вовка заставил жену мыться под душем, и она взвизгивала там от холодной воды, а он стоял во дворе, подбадривал:
– Привыкай, казак, атаманом будешь!
Бегали по двору, смеялись, кричали, но спасибо матери никто не сказал, что она им тут порядок навела. Вроде и не увидели.
Налила ужинать (борщ с солониной сварила, опять же своего мяса принесла, у них откуда). И сама села, Серафимку на колени взяла, кормит ее, с ней разговаривает. К ним на поклон не идет. А они и не больно нуждаются, друг к дружке склоняются, меж собой говорят и смеются. Какие беззаботные – трава не расти. К поросенку ни он, ни она даже и не заглянули. Борщ хлебают, хоть бы спросили: «Мам, откуда это у нас мясо?» Уж спасибо вашего не надо, не дождешься. Поля чувствует, как у нее от обиды закипает, жжет внутри, того и гляди заплачет. Веки сильнее наплыли на глаза, моргать неловко, и кожа на лице одрябла, тоже, чувствует она, висит тряпками. Вовка то вскинет на нее свои янтари, светлые, прозрачные, поглядит с веселой усмешечкой, то опять с женой заговорит. А о чем – из гордости Поля даже не прислушивается. Давай, говорит она в мыслях сыну, усмехайся своими лупастыми, что мать до слез доводишь.
После ужина Вовка обычно свою музыку заводил, садился читать под нее. На этот раз прошел на лавочку крыльца. Сноха посуду быстро помыла, пошвыряла и, как хвост, – за ним… Что ж, мамка все за вас поделала, вам только ножки свесить осталось. Солнце вон еще где, а в доме ничто рук не просит.
На крыльце послышался смех и негромкий говор. Поля еще раз посуду перетерла, последнюю чашку начищала дольше всех. «Че я ее тру, на кой она мне сдалась, так совсем чистая-пречистая…» Но руки продолжали тереть тряпкой, окунутой в соду, блестящую, как зеркало, эмаль.
Вовка прервал смех, позвал:
– Идем, мать, посидим…
«Гляди-ка, приветливый с чего-то стал, иль дошло, что родную мать за добро, какое для них делаю, обидел».
Поля долго не задержалась, взяла внучку на руки, села напротив, на другую скамеечку. Подождала, когда они заговорят, пусть хоть не прощения попросят, а в голосе вина почувствуется. Но Вовка все веселится, поглядывает на нее. Губы трубкой в усмешечке складывает. («Господи, вроде и не говорил матери обидного!»)
– Все, мать, комбайн сегодня опробовал, как часы идет, – заговорил, наконец, Вовка и расплылся в улыбке. – Завтра выезжаю рожь на сено косить.
– С богом, – только и сказала Поля.
Все же после его слов жгучая кипень в груди, вроде огонь убавили, стала заметно утихать.
Сноха перекинула косу наперед, пальцами играла ею, покачивая ногами. Вовка опять все складывал губы трубкой. Потом обернулся к жене.
– Знаешь, Маша, ведь мать у нас тоже механизатор, на тракторе работала.
Сноха перестала играть косой, вскинула на Полю черные, как чугуны, глаза.
– Правда, мама? – удивилась она.
Полю совсем подкупил голос снохи, и остаток ее обиды на детей как бы истаял окончательно.
– Да это, дочка, в войну, – проговорила она хрипловатым от долгого молчания голосом. – Когда всех мужиков позабирали.
– А какие трактора тогда были?
– Трактора-то? У-2, на колесах. Бескишечным мы его звали. Он больше ломался, чем работал.
– Мать у нас тогда диверсанта задержала. Ей чуть медаль не дали, – опять повернувшись к жене, насмешливо сказал Вовка.
– Ты уж не собирай чего не следует-то! Я и сама не знаю, кто это был. Может, дезертир.
– Ну, расскажи, расскажи… – подзадоривал Вовка.
– Да и рассказывать-то путем нечего. Я помню только, как до села бежала… Ночь была. Пахала. Чёй-то он у меня заглох. Ковыряюсь в моторе, факел зажгла. А сама там ни шайтана не понимаю. Девчушка глупая была, семнадцать только исполнилось. Оглянулась, как вроде что-то хрустнуло сзади, а он стоит, рожа огромадная, заросшая. Я как заору благим матом! И бежать… в село!
– Может, никого и не было, тебе показалось?
– Как же, домой прибежала – у кофты сзади клок спущен, вся спина голая. В руке большой гаечный ключ зажат намертво. Им его и оглушила, наверно, в беспамятстве. Два дня с постели не поднималась, как в лихорадке трясло. То в жар бросит, то в озноб.
– А как его нашли?
– По следу кровяному. Егран Терешонок, еще двое стариков, поймали да связали. Он в Битюкову балку заполз и уснул.
– Герой ты у нас, мать.
– Из-за него на меня слава легла. Народ-то разный в селе, насмешники стали слух пускать: дезертир меня ссильничал. Война кончилась, какие женихи пришли – к другим потянулись, мимо меня. Ладно, твой отец. Теперь ты вот живешь на свете. Оказывается, добра без худа не бывает.
– Это точно, – философски заметил Вовка, явно потерявший интерес к рассказу матери. А сноха вдруг забеспокоилась, стала дергать мужа за рукав, склонилась, что-то пошептала ему на ухо.
– Ага, ага, – закивал тот, улыбаясь.
– Расскажи, – потребовала она, – мама же не знает, почему я не пришла, сердится.
– Чей-то хотите рассказать? – насторожилась Поля, как недобрый знак вспомнив их сегодняшнюю веселость.
– Да это нынче… – тянул Вовка. – Когда ты с Серафимкой ушла, механик заявился. Я ему: «Завтра косить – помощника до сих пор нет». Комбайн старый, никто не идет. Он на Машу показывает: «А она тебе не помощник? Пусть оформляется!»
– Ну и что? – Поля с тревогой посмотрела на сноху. Та заранее, еще до того, как Вовка ответил, отважно улыбнулась ей.
– Головой-то не крути, а говори как следует! – прикрикнула Поля на сына.
– Что говорить-то… Пошли в правление, заявление написали…
Скамейка под Полей так и поплыла, и она вместе с ней. В голове звон пошел. Сноха и сын стали отдаляться, только видно, как улыбаются, да Вовка вроде за глухой стеной твердит:
– Председатель ей руку пожал…
А Поля все плыла. Перерубил сын веревочку, какую она старалась вила. Как топором, одним махом… Все рухнуло. Она ночами не спала – думала о них. Каждую былинку несла им в дом, все помогала обжиться. А они весь ее замысел взяли и разрушили – бездумные, беззаботные. Поля продолжала уплывать, сопротивляясь, держась за руку внучки, которая стояла у ее ног. Но Поля была отважная старуха, сдаваться не привыкла. Она тут же попробовала выкарабкаться из уносящего ее течения, напряглась и закричала, не слыша себя:
– Ты что ж, негодный, наделал?
– Я-то при чем? Она сама захотела, – опять, как за стеной, сказал Вовка.
– Лупить тебя некому, и у меня сил нет! – Поля наконец услышала свой голос, скамейка вернулась на место, и близко стали видны лица сына и снохи. – Шуточное дело! Уборка начнется, только ночевать будете приезжать, и то в полночь. Утром чуть свет – на поле надо ехать.
– Ну и что?
– Мама, Вова не виноват. Я сама.
– А хозяйство? – возразила она одному только сыну, сноху не взяла во внимание. – Корову утром надо подоить, в стадо выгнать. Вечером – встретить, опять подоить. Разве Маша осилит такое? Она же в один момент сломается! С хозяйством, милый мой, не шутят!
– Ладно тебе! Зарядила: хозяйство, хозяйство… Я твою мысль давно раскусил. Зануздаться, что ли, им, хозяйством, и удил изо рта не выпускать до пены на губах.
– Где она у тебя, пена? Что-то не больно видно!
– У меня ее от такого дела и не будет.
– Что с тобой говорить! – Поля махнула рукой.
– Конечно. А все же говоришь, допекаешь! Может, мне Козанком заделаться? Гляжу, он тебе покоя не дает своим хозяйством!
– Э-эх! Забуробил буроба…
– Нет уж, видал бы я его… в белых тапочках! – Вовка сердито отвернулся, и тут же часто и трудно засопел, раздувая ноздри. Обычно незлобивые, с веселым блеском глаза его вспыхнули гневом. Сноха рядом с ним совсем стала тихая, незаметная. Никогда до этого не упоминал он о своем давнем, еще с детства, обидчике, вроде бы презирал одним молчанием. А тут вспыхнул, как будто порох.
– Не сплетай чего не следует-то. Тебе о другом говорят, – запоздало урезонила его Поля, удивленная выказанной в сыне незнакомой ей стороной характера.
– Он чересчур хитроумный, пусть как хочет, меня это не трогает. Я сам знаю, что мне делать! – Рассерженный Вовка совсем не слушал Полю, доказывая свое. – И ей, – не оборачиваясь, он кивнул на жену, – нечего с этих пор плесневеть дома! Еще успеет…
Внучка только что научилась ходить без помощи. Ковыляя и вытягивая руки, она со страхом преодолевала пространство от колен отца до бабки. Добежав до опоры, запрокидывала лицо, радостно смеялась, заглядывая в глаза взрослым. Но ее не замечали.
– Корову, овец, теперь поросенка… Потом еще одну корову заведем, да овец прибавим! – разошелся Вовка. Поля молчала, пусть сын выскажется, если такой умный. – Зимой жадность заговорит, захочется, чтобы на стол посочней мясо подавалось – и пойду ночью на ферму за силосом…
– Только спробуй! – пригрозила Поля. – Мать ваша жизнь прожила – крохой ворованной рот не осквернила. Бог избавил от греха.
– Точно так будет. Все с малого начинают. Нам замполит в армии говорил, – начал вспоминать Вовка и обернулся, наконец; на губах опять появилась усмешечка, и глаза потеплели, завеселились. – Сказать, мать, чему нас замполит учил? Если, говорил, хочешь быть свободным, счастливым – не обременяй душу свою. Не давай ей обрасти жиром. Птица, думаешь, почему летает? Она себе ненужного ничего не берет. Твоих, мать, гусей ведь в небо не заставишь подняться?
– Давай, летай. Не знаю, где вы со своим замполитом сядете. Птицы.
Поля обиженно уставилась через головы Вовки и снохи в невозмутимый и далекий от людской суеты аквамариновый цвет вечернего неба. Четко вписанные в него шатровые крыши колхозных домов с тревожно белеющим на закате солнца шифером ровным рядом уходили в степь. Тянулись обнесенные прямыми линиями штакетника палисадники с деревцами, беспризорно, по макушку заросшими.
Из ближнего к Вовкиному дому двора вышла молодая хозяйка, месяца два назад приехавшая с мужем в колхоз. Вышла босая, в новом ярком сарафане, с неряшливым, запачканным у кухонной плиты подолом. Обхватив руками голые плечи, она направилась в их сторону, глядела под ноги, выбирая, где ступить. А у самой губы все растягивались в сдерживаемой улыбке. Подошла, налегла грудью на изгородь.
– Вов, я думала, ты ночью свою корову пасти выгоняешь, – сказала она, все так же посмеиваясь. – Гляжу: откроет калитку и гонит палкой. Утром встаю – вашей Зорьки на дворе нету, Маша не доит. К матери, что ли, выпроваживал?
Вовка захохотал, даже ноги дурашливо задрал, держась руками за лавочку.
– Иди, соседка, не разоблачай тут, – махнул он на нее.
– Эх, безмозглый ты, безмозглый, – с бессильной укоризной покачала Поля головой.
– Вова! – изумилась сноха в своей догадке. – Я просыпала – ты будильник выключал?
– Коровы нет на дворе, зачем ему звенеть? – снова рассмеялся сын и сказал, вдруг посерьезнев: – Ладно, мать. Лето как-нибудь, а осенью распродавай все свое и, – он присвистнул, согнутой рукой, как кочергой, загреб издали к себе, – перебирайся к нам.
– А то как же, летать с тобой… в небеси.
– А мы закажем мужика, – оставил без ответа ее слова сын и наклонился к Серафимке. – Да, Фима? Чтоб настоящий помощник был отцу.
– Чей-то, чей-то ты сказал? – насторожилась Поля.
– Да так. Ничего… А Фима будет телятницей. По наследству от прабабки! Верно, дочь?!
– Прабабка-то только зимой за телятами ходила, – поправила его Поля и поглядела на сноху. – Дочка ты, дочка, в какую пеклу кинулась, глаза зажмуривши. Надорвешься ты там.
– Нет, мама, – с бесстрашием возразила сноха.
– Когда выходить-то?
– Завтра.
– Она уже и спецовку получила, – подтвердил сын.
– Какие вы скорые-то. Разом все решили за себя и за меня. Мне теперь хоть разорвись на два двора.
– До осени, до осени, мать… – сказал Вовка.
Посидели некоторое время молча.
– Пойду стадо встречу, – вздохнула Поля. – Зорьку вашу к себе загоню. Уж ты теперь, дочка, не доильщица. Будешь там носом клевать, да под колесо угодишь…
У калитки она вдруг остановилась.
– А с поросенком-то как же теперь быть? – спросила, поглядев на сына.
– Откуда я знаю, – ответил Вовка.
Поля тяжело, устало прошла к сараю.
7
Утром она провожала детей на работу. Вовка был спокоен. Сноха переживала, суетилась. И все-таки не поспевала. Вовка уже за калитку вышел, сноха выскочила на крыльцо, растерянно оглядываясь.
– Во-ов! – окликнула, сбегая по ступенькам, на ходу повязывая косынку.
– И куда ты, чадушка моя, бежишь-торопишься? Неумелая, глупая и бесстрашная! – загоревала Поля, глядя ей вслед.
Она тоже не распланировала утро, много и бестолково бегала от одного дому к другому с внучкой на руках. Скоро она показалась Поле тяжелой, как камень. Стала сокращать дорогу, ходить напрямую по задам. Козанков трактор травой окружило – колеса скрылись. Нюськи тоже нигде не видать, во дворе тишина, и дом стоит как нежилой, стены тоску наводят.
Пробовала Поля пройтись с тяпкой по своей картошке. Кое-где стала трава появляться. Но не дотяпала и до забора – вспомнила про Козанков топор: где-то тут, недалеко, он упал. И сразу же увидела его, выглянул меж кустов. Лежит, нечистая сила, всеми позабытый. Поля кинула тяпку на крышу катуха и с легкостью на сердце ушла с внучкой в дом к сыну.
Часам к десяти в конце ржаного поля за речкой остановился комбайн. Рожь волновалась; ветер так и ходил по белесым колосьям темными неспокойными залысинами от края до горизонта. Комбайн постоял, вроде раздумывал, как усмирить разбушевавшуюся стихию. Пустил из трубы дымок и пошел вдоль края, захватывая под себя мотовилом живые волны колосьев. Комбайн шел ходко, уверенно, поравнялся с селом, и Поля стала различать шум и движение его частей, а в открытой кабине рядом с сыном увидела белую косынку снохи. Но скоро дальность и марево поглотили и белое пятно косынки, и вращение мотовила. Да и сам комбайн уменьшился до точки и скрылся за краем черты, ушел в самый конец гона. Через некоторое время, позабывшись в делах, она оглянулась на поле и увидела его еще больше урезанным с ближнего к речке края. Там, где недавно беспокоилась рожь, ровной щетиной торчала недвижная стерня, с горбатыми валками по ней, быстро, на глазах белеющими от ветра и солнца. А комбайн урчал, выпуская мгновенно исчезаемый в воздухе над рожью сизый дымок, заходил на третий круг. И тут Поля различила склоненную над рулем белую косынку, а рядом, возвышаясь над снохой, стоял сын в своей полинявшей гимнастерке и тоже, видать, придерживал рукой руль.








