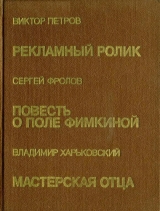
Текст книги "Повесть о Поле Фимкиной"
Автор книги: Сергей Фролов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
– Тетке Поле не грех и утешиться в жизни, пора. Кто-кто, а она-то уж хлебнула… – опять сказал из кабины Терешонок. – Это не сноха у тебя, а прямо клад. Ты гляди, тетка Поля, за ней. Мы ее зимой подучим – «Ниву» новую дадим.
– Еграныч, я гляжу! Вот и сюда пришла…
– Нет, ты гляди лучше! – нетерпеливо перебил ее Суходолов. – Береги, другой такой снохи у тебя не будет!
– Ну а как же, Юра, я и так берегу, – оправдывалась ободренная их словами Поля, не упуская случая отметить веселое возбуждение на лице Суходолова. А в тот раз бежал к правлению будто кем-то в голову ушибленный и только в землю перед собой глядел. Алена на охламонов ему показала, но не очень-то он услышал ее. Может, и оглядываться нет силы на таких людей. Кому они в радость-то…
– И гляжу, и берегу, Юра, а как же… – подтвердила еще раз Поля.
Суходолов посмотрел на нее пристально, с намеком на то, что она так до конца и не поняла смысл его слов, коротко махнул рукой, и дверца за ним закрылась.
Поля возвращалась домой темной улицей, и щеки у нее по-молодому горели огнем. В голове, как на испорченной пластинке, повторялись слова Терешонка и Суходолова.
В разных концах села слышались редкие голоса расходившихся с гулянки девчат. У мастерской громко хлобыстнула бортами подскочившая на ухабах машина Терешонка. На Молодежной улице кто-то из девчат запел Вовкину песню:
Миленький ты мой, возьми меня с собо-о-й.
Там в стране далеко-о-й, буду тебе жено-о-й.
На подходе к дому Поля спохватилась: опять она увлеклась, разгулялась, а девчонка-то у нее с каких пор оставлена одна. И прибавила шаг.
Серафимка преспокойно спала. На какой бок ее уложила, так и не шевельнулась. Поля постелила было и себе, но что-то томило ее в избе, вытесняло на улицу. И она нашла предлог выйти – проверить накладки на дверях катушков. Только себя не обманешь: просто Поле хотелось еще раз услышать голоса девчат в ночи. Может, и машина Терешонка где-нибудь неуспокоенно брякнет вдалеке. Но совсем глухо стало в селе.
Накладки оказались на месте. Во дворе на теплой земле лежали, шумно посапывая, овцы и корова с Зорькой. Было очень тихо, малейшего шороха не мог уловить слух. Даже шага лишнего не хотелось сделать, чтобы не нарушить покоя. За спиной под крышей Козанкова дома что-то явственно ворохнулось. Поля не повернула головы, но напряглась вся. Стало опять тихо. Легкий испуг не стронул ее с места, она продолжала стоять. И тут вдруг Поля почувствовала, как сзади ее обступает крадучись невидимая жуткая сила. Мысли ее пугливо скакнули, и волосы под платком, холодя кожу, стали подыматься. Она оглянулась на дом Козанка и сразу поняла, что страх идет изнутри затаившихся стен его, как бы просачивается через толстые плахи. И сам дом надвигался на нее, давил зловещим молчанием.
Полю как будто смело со двора, так быстро она влетела в избу. Подхватила на руки Серафимку и, хлопая за собой дверями, только и думала на обратном пути, как бы ей нечаянно не взглянуть на этот проклятый дом – так сильно разобрала ее паника.
Она почти с закрытыми глазами перебежала на другую сторону улицы, но все же не удержалась, посмотрела на Козанково подворье. Поле опять показалось, что над крышей дома и над сараями за высоким забором в темном мерцании неба витает, как испарение, враждебный, недобрый дух. И тут она побежала так быстро, что звуки шагов своих слышала далеко от себя.
Опомнилась Поля только возле Вовкиного дома. Сын со снохой постелили себе на крыльце – жарко им показалось в квартире. Поля присела на ступеньку, отдышалась немного. Нет, что это с ней такое случилось? Такой страх она испытала лишь раз, в сорок втором, когда бежала от дезертира.
Сейчас ей спокойно стало рядом с детьми. Только во всем теле чувствовалась слабость. Но время от времени она мысленно оглядывалась туда, откуда прибежала, и запоздало вздрагивала, прижимая лежащую на коленях внучку.
Поля долго сидела не шелохнувшись среди тихого двора, может, одна-разъединая не уснувшая во всем селе. И тут ей показалось, что вроде бы из нее самой, клушкой раз-гнездившейся на ступеньке, вышла другая Поля, отделилась совсем легко и безболезненно. Она стала напротив, посмотрела на эту глупую, торчащую в темноте без сна Полю ее же калмыцкими усталыми глазами, махнула перед лицом рукой и заговорила разумным, похожим на Дунин, подруженьки поперечной, голосом: «Будет уж маяться-то, успокойся немного! Не живется тебе… Погляди, чем у тебя дела-то плохи? Дети спят в обнимочку. Внучка, золотая девчушка, на коленях посапывает, тепло от нее идет к тебе. Все бы ты добро да покой грабастала руками своими жадными. Все только тебе, все только тебе дай! А шиш не хочешь? Какая самолюбка нашлась! Другим людям, по-твоему, ничего не надо! Что? Вылепила я тебе правду? А ты возьми в ум, что сказала. Хватит дурить-то…» Та, стоявшая перед крыльцом Поля, намахалась руками, умолкла и снова незаметно вошла в ее нутро, покойно уместилась в ней, сидящей на ступеньке Поле…
Очнувшись, она прерывисто вздохнула, изумляясь явившемуся диву – только что отзвучавшему над ней вроде бы и ее и вроде постороннему голосу. Но диво не хотело оставлять Полю в эту ночь.
Короткая дрема совсем взбодрила и прояснила ее сознание. Ночь забралась в середину мироздания, темную и высокую, но оставалась еще теплой к людям. И уже совсем не было в ней той тягостной немоты, так устрашившей ее у Козанкова дома. За Вовкиным огородом покойно лежало не видимое во тьме пшеничное поле. А за сараем ниже кизячных скирд густо разрослась полынь. За день все накалилось под зноем. И теперь от ранних колосьев пшеницы и от горьких цветов полыни все еще веяло душистым сухим теплом.
Такие редкостные ночи устанавливаются ненадолго в июне, в сенокосную пору. Темное, в густых звездах небо делало свой медленный ход над землей. В такую ночь, если сидеть затаившись, можно услышать, как живет и дышит земля. Невидимые, недремлющие силы, скрытые в ней, подают к корням свои соки и гонят их через пшеничные стебли и стебли травы на свет, к людям. И можно услышать сейчас движение этих соков. Земля никогда не оскудеет, потому что она щедра, всю отдает себя. Да, пусть умирают люди и отмирают травы – но они не гибнут, а живут, включаются в земной процесс творенья. И то, что раньше было травой, колосом, человеком, все, что шумело на ветру, ликовало и смеялось, страдало и плакало – все это опять живет в вечном круговороте. И дух былой жизни, снова воскресшей, безъязыко витает над травами и пшеничным полем. Ничья жизнь не пропала, не сгинула без следа.
И прах изношенной обуви Еграна Терешонка, неугомонного, бессонного топтуна, в заботах своих исследившего колхозную землю, и былые радости и горести давних Полиных сельчан многократно проросли и отшумели на ветру.
Никак не могли не вернуться в родные пределы: хоть с попутным ветром, а долетят сюда все помыслы и чаяния тех, что махали на прощание с увозивших подвод родным и близким и пали в своих и иноземных тоскливых полях.
Души многих-многих людей, памятных Поле еще с детства, витают сейчас в воздухе, разглядывают, что сделали оставленные ими на жизнь чада. Так же беспокоятся за всех, как и при жизни, не знают угомона. Наверно, плохо им, когда видят, какую неразумность творят на земле иные люди, и заслоняют в горе и плаче глаза от обиды.
И мамки Фимки дух тоже витает где-то рядом, вместе со всеми, печалится о Поле и ее детях. А может, узнаёт себя в Фиме и ликует, только сейчас возмещает радостью свою горемычную долю. И не теплый ночной воздух, а мамакины касания ощущают они с Фимой кожей лица. Совсем рядом она с ними, даже вроде слышно ее дыхание, только сказать ничего не может.
Маленькая Поля, когда похоронили мать, все время верила, что она вот-вот придет к ней, как возвращаются те, кого заждались из долгой отлучки. Поля, хоть и было ей всего семь лет, хорошо помнит, как умирала мать. Она лежала с землисто-серым лицом, а Поля сидела у ее изголовья. Мать вдруг открыла округлившиеся в страхе, почти уже без мысли глаза, вскрикнула: «Дочка, ведь я умираю!» Торопливо притянула Полю, хотела прижать ее к себе бессильными руками, но по ним прошли только чуть слышные судороги, руки ослабли и мертво опали по бокам. Из полуоткрытых глаз ее выкатились две блестки – последнее, что напоминало недавнюю жизнь в матери. Когда хоронили мать, накрывали ее крышкой и навсегда уходил из глаз ее лик, а потом засыпали гроб землей, маленькая Поля не верила, что мать взаправду покинула ее насовсем. Она верила в могучую силу, какая бывает только у любимых, почти обожествленных детьми матерей, верила, что мать поднимет насыпанную на нее тяжесть и придет к ней. Затаившись в постели, в колхозной сторожке, она считала ее шаги по ночной дороге от кладбища до двора. Вот еще немного… скрипнет дверь, и мать, совсем-совсем живая, склонится над своей истосковавшейся Полей.
И чудо это свершилось. Мать пришла на этот свет маленькой Фимой, и они опять вместе. Такие чудеса может творить только земная сила.
За ее спиной завозились, и Поля оглянулась. Вовка, поворачиваясь во сне, утянул со снохи одеяло. Завернувшаяся сорочка оголила ее тело. Поля, ничуть не смутившись, потянулась через Фиму, одела сноху.
Она еще раз посмотрела в темные поля, и тут ее настигла новая мысль, что вот спать давно пора, а ей не хочется возвращаться домой. Она вспомнила пережитый страх и поняла, что не сможет заставить себя сделать сейчас в ту сторону и одного шага. Пока сидела на крылечке, переживая счастливые минуты, в которые жизнь ей представилась нескончаемой, успела расположиться душой к дому своих детей.
– Айда, Фимочка, уложу тебя, – приговаривала Поля, осторожно пробираясь по краю крыльца мимо детей в квартиру. – Стулья подставлю, фуфайкой застелю и сосну с тобой рядышком до коров…
Земля детей твоих
1
Пойти на рыбалку сговорились еще вчера. Леня встал рано, но тесто для наживки все не мог приготовить. Только он юркнет в амбарушку за мукой, мать уже кричит:
– Лень, ты где? Не видишь, гуси опять с речки идут, прогони! Ни до чего тебе дела нет!
Тесто он спрятал в лопухах за сараем, разбудил брата Толика и еще сонного усадил с хворостиной, чтобы отгонял кур.
Мать пекла на кухне оладьи. Леня опять выжидал момент, чтобы незаметно отнести несколько оладий брату. Подвижная и ловкая, мать споро управлялась с делами. Полноватые руки ее ни минуты не оставались в покое – разольют по сковороде тесто и тут же протирают тряпкой лавку, клеенку стола, споласкивают в воде кастрюлю, оставляя после себя порядок, чистоту. Она двигалась по кухне, и веселый блеск, как маленькое солнце, завороженно сиял в ее белокурых, ковыльного цвета волосах. Как бы она ни повернулась, куда бы ни шагнула, он все время бежал за ней, скользя по ее аккуратной, гладко причесанной голове, всегда со стороны утреннего света в окне. Иногда мать вскидывала оживленное работой, кругловатое лицо, взглядывала поражающе черными, маленькими, как смородины, глазами, будто спрашивая: «Ты, сын, что-нибудь задумал?»
Все же она вышла зачем-то в сени, и Леня, завернув в тряпицу с пяток горячих оладий, бочком, бочком выскочил из дома. Когда он снова вернулся, мать держала на коленях меньшака Славку, кормила его грудью.
Уже смышленый Славик от порога увидел Леню и, не отрываясь от груди, поглядывал на брата смеющимися глазами, звал заметить его, поиграть. Белая грудь матери мягко лежала поверх кофты, синие жилки в ней напряглись от Славкиного усердия.
– Ух он, дудоня! – склонился Леня над братом. – Не стыдно? Второй год ему, а он все дудонит мамкино молоко!
До появления Славки Леня не знал, откуда берутся дети, потому что в селе маленьких почти нет. И на улицах оттого всегда пусто, хоть шаром покати. Когда родился Толик, Леня сам был еще глуп. Однажды он заметил: у матери начал бочонком вздуваться под платьем живот. Леня очень испугался, подумал, что мать заболела и скоро умрет. Но ни отец с Лениной бабкой, ни соседи как бы не замечали материной хвори. А взрослые все чаще приставали с расспросами: «Лень, кого же тебе мать подарит? Сестренку или братика?» И для Лени однажды открылась стыдливая истина материного положения. Он стал избегать ее, при разговоре отводил в сторону глаза, а когда она с большим трудом, почти мукой, усаживалась доить корову, в мыслях упрекал: «Так тебе и надо! Чтобы знала…»
Лицо матери, до рождения брата тяжелое, одутловатое, как бы всем недовольное, с появлением Славика преобразилось, снова стало живым и приветливым. А сам Леня с первых дней так привязался к меньшему брату, что казалось: вроде бы он всегда был в их семье. И теперь становилось страшно, если Леня порой лишь в мыслях допускал, что Славик вдруг почему-то не появился бы на свет.
– Вот сейчас его коза забодает, забодает! – Он направил на брата сделанные рожками пальцы. Славик, не отрываясь от груди, смеялся, и молоко струилось по его подбородку.
– Лешка, не дури, поперхнется ведь! – отогнала его мать. – Хорошо ты играешь, когда он у меня на руках! Может, на денек, вместо бабки, останешься с ним? А?
Леня тут же шмыгнул по лавке за стол и притих. Его совсем не устраивали материны намеки. Скорей бы позавтракать, и Славку отнесут к бабке, в дом старшего брата отца. Затем мать на весь день уйдет на телятник, а отец в мастерские. Им с Толиком останется лишь удочки на плечи вскинуть и – на Степной пруд, удить карпов.
– Отец наш пропал в правлении, – вспомнила мать. – Как сделали звеньевым, только и знает свои разнарядки да заседания. Не зря мамаша ругалась. Скоро забудет, на какую сторону гайку заворачивать.
Леня, чтобы выдобриться сегодня перед матерью, решил рассмешить ее. Он встал, прошел в сени и оттуда, покряхтывая, заковылял обратно в избу, изображая свою бабку, заприпадал на одну ногу.
– Шур! Чё ж ты сидишь тут?! Чё сидишь! Ты хоть знаешь, где у тебя мужик-то? – по-бабкиному истошно, со страдальческой ноткой в голосе закричал он. – Ведь его у партийцы хотят зачислить, Илюшку-то нашего! Уж два часа кряду допрашивают. Бяги скорей, турни оттель! Из правления-то. Ох, головушка моя горькая… Теперь возьмется на этих собраниях табаком чадить! Про дело совсем забудет. Бяги, бяги…
Мать мелко, поощрительно рассмеялась. Видя необычные Ленины представления, Славик тоже закатывался в звонком, с икотой, неумелом смехе.
Вошел отец, легкий, подтянутый, в своем всегда опрятном комбинезоне. Что-то ясное и деловое являлось всюду с ним, куда бы он ни входил. Стали завтракать.
– А где же у нас Толик? – спохватилась мать.
– Наверно, гусей на речку отгоняет. Снова возвращались, – сказал Леня.
– Заразы такие, как на мед тянет их домой.
В дверь заглянул бригадир Ширмачек.
– Здравствуйте вам!
– Заходи, – пригласил его отец.
Ширмачек присел на стул недалеко от порога. Мать не обернулась к нему и слова не проронила на его приветствие, только напряглась вся спиной и затылком, с лица ее как бы смахнуло веселую утреннюю оживленность.
Ширмачек достал платок, утер пот со лба.
– Седня опять будет жарить, с утра припекает.
– На то и лето, – сказал отец.
– Рожь, считай, набрала зерно, не страшно. Пшеница…
– Пшенице дождя бы к наливу, – поддерживал разговор только отец.
– Да, а кукуруза пропа-ала… – со злорадством сказал Ширмачек. – Вчера еду мимо поля – от былки до былки ветра не слыхать. Триста гектар засушено. Кое-кто за это поплатится…
– А сколько на нем вина выпито, неужели высыхло? – Матери будто кто-то обхватил и так крепко держал сзади голову, что она не в силах была обернуться, и лишь недобро, мучительно скашивала глаза, но никак не могла достать Ширмачека взглядом по звуку его голоса. – Вот кто пахал-сеял, того и заставить убрать. Как споганили землю, так пусть она их и накормит. Да еще кое-кого… – мать с нажимом в тон Ширмачеку выговорила это «кое-кого». И Ширмачек понял ее намек.
– Ну, это ты зря… Бригадир за все трактора сразу не сядет… Один всю землю не обработает. Я чё зашел-то… Илья Платонович, на собрание нынче не забудь.
– Не забуду…
– И ты, Шур, приходи. Убирайтесь с телятами пораньше…
– А что мне торчать на твоем собрании? Я там дела своего не забыла! – отрезала мать.
– Евгения Васильевича переизбирать будем.
– Зачем? – спросил встревоженный этим известием Леня. Но его изумленный вопрос остался без ответа. Слухи о смене председателя ходили еще раньше. Потом они утихли, а теперь вот снова подтвердились.
– Не приду. Ноги зря бить не буду! – отвечала обращенная к бригадиру затылком мать. – Его, кому надо, давно уже переизбрали. Меня не спросили.
– Шура! – повысил голос отец. Мать примолкла.
Закряхтел недовольный ее словами Ширмачек. Похоже, ему обидно было уходить, не ответив как-то матери. Он встал и прошел к ведру, попить воды. Широкий бабий зад его плотно обтягивали брюки, рубашка на крутых плечах тоже готова была распороться по швам.
– Да зачем Евгения Васильевича-то сымать? – опять в одиночестве возмутился Леня. И опять все промолчали.
Ширмачек брякнул в ведре кружкой и стал вкусно пить крупными звучными глотками. Мать поморщилась и брезгливо дернула плечами. Готовая испепелить Ширмачека взглядом, она снова нетерпеливо покосилась в его сторону, но не дотянулась, удержала и на этот раз голову прямо.
– Меня, Шурочка дорогая, тоже не спросили, – Ширмачек утер ладонью губы и прошел к двери.
– И не стоит спрашивать. Такие-то и сжили парня, – смело бросила ему вдогонку мать.
Ширмачек, затворяя за собой дверь, оглянулся, жестко, с неприятным холодком посмотрел в упрямый затылок матери и хлопнул дверью.
– Паразит! – теперь со всей открытостью высказалась она. – Всю жизнь штанами трясет по селу. Нянчатся с дармоедом, как с малым детем! И завхозом был, и кладовщиком был… На какие только должности не сажали, да еще придерживают, чтобы не упал. А свалится, так подымут и снова за ручку в какую-нибудь инструменталку переведут. Все должности обошел, и везде дела завалил. Но хоть бы одну борозду в колхозе вспахал или разок навильник поднял. Захребетник, кровопивец людской, прости, господи! Сколько их развелось! Не дадут мне наган. На таких гадов и рука не дрогнет… Еще лезет рассуждать, как путевый: пшеница, кукуруза… А ты что в молчанку играешь!? – накинулась она на отца, не дождавшись от него поддержки словом. – Неправду, что ль, говорю? Или он захвалил тебя? «У Ильи золотые руки… Любую машину, как врач больного, обслухает». Работай, надрывайся! Он на таких до смерти своей кататься будет. Забыл, по весне Женька наказал его, направил к тебе в помощники бороны ремонтировать? Много он тебя помогнул? Наклонится болт поднять – роса на лбу тут же выссыкает! Сколько за день платков переменил!? Не работал, а только пот утирал. За то он и мстит Женьке. На кукурузу намекает… – мать метала взглядом ярый непримиримый огонь, который обжигал и отца, и Леню. Будто все для нее были виноваты в существовании ненавистного ей Ширмачека.
Ленино настроение тоже омрачилось. Потускнела радость предстоящей рыбалки.
Отец доел оладьи, выпил молоко и, тщательно утерев руки полотенцем, поднялся из-за стола.
– А что тут скажешь? – ответил отец. – Он никому не новость. Не одни мы с тобой, все знают, что за птица Ширмачек.
– Знать-то знают, а что толку! Места ему никто не укажет.
– Укажут, придет время…
– А Женьку-то и вправду, что ли, из-за таких гадов снимут? – как бы спохватившись, спросила мать.
Отец промолчал.
– Создатель! Что творится-то, что творится! – взмолилась она.
2
Оставшись дома один, Леня не теряя времени побежал к конюшне. Жеребца Белоногого, на котором ездил в последнее время председатель по полям, в станке не было. Только две незанаряженные в работу лошади понуро стояли у подпирающего крышу столба, взмахом хвостов секли тихий, сумрачный воздух сарая.
Леня снова вернулся домой. Сменив разомлевшего на солнцепеке Толика, он разрешил ему искупаться в речке. Жара усиливалась. Село опустело в оба конца, стало томительно и уныло на безлюдной, белой от зноя улице.
К правлению колхоза подкатил темно-зеленый «УАЗ». Из него вышли двое незнакомых, оба в белых рубашках, при галстуках. Один держался солидно и по-хозяйски взошел на крыльцо. Другой был скромнее. Выйдя из машины, он не привыкшим к местности, изучающим взглядом окинул село, затем, оступаясь на крылечке и продолжая оглядывать дома на улице, поднялся за первым.
Через некоторое время они вышли вместе с парторгом. «УАЗ», оставляя за собой рыжий недвижный хвост пыли, промчал по улице за село.
«На кукурузное поле поехали», – сделал свое заключение Леня.
Он вышел со двора и направился по раскаленной улице на выезд, через который возвращался обычно с полей Евгений Васильевич. Дорогой внимание его привлек Зуихин двор. Саму бабку Зуиху прошлым летом похоронили, а до смерти своей она, одетая во все черное, скорбное, целыми днями надоедливо и скучно сидела на лавочке возле совсем пустого своего дома. Голубые прозрачные руки ее всегда в одном положении покоились на переднике, из-под темного, в неярких цветах платка сквозь щелки век глядели на мир тусклые водянистые глаза. Время от времени, выпадая из забытья, Зуиха начинала вдруг креститься на белесое знойное небо – без слов, без молитвы, истово прикладывая к сморщенному лбу сухонькие персты.
– Бабушка, за кого ты молишься? – спросил ее однажды Леня.
– За весь род людской, дитятка… – В неподвижном, уставленном на Леню взгляде Зуихи была пугающая бессмысленность, будто у выжившего из ума человека.
Теперь и дом, и лавочка, где она коротала свое время, предоставлены только дождю, снегу, дню и ночи. Перед лавочкой, на вытоптанном некогда крохотном пятачке, где покоились ноги Зуихи, проросла дикая трава. А человеческая жизнь в ее доме совсем оборвалась.
Леня, поднял с дороги камень и с силой кинул его на крышу. Камень ударил по шиферу их подскоком затарахтел вниз. На одичавшем чердаке во всех концах дома тревожно застонали птенцы голубей. Лене стало вдруг не по себе, и он пустился наутек прочь от тоскливого стона.
На конце села, возле еще одного дома, тоже не озарявшего своих окон жилым светом по вечерам, давно забытого людскими голосами, Леня заглянул в колодец, чуть не до верха заполненный замшелой сорной водой. Тут он отвлекся немного, играя со своим отражением. Придавит, сделает себе пипкой нос и рассмеется. Или погрозит отражению пальцем, потянет его за ухо. Потом строил сам себе другие рожицы, пока не надоело.
За выгоном он сел на ковыльном взгорке, стал ждать. Наконец из-за косогора выехала бричка, запряженная карим жеребцом, мелькавшим в беге белыми, будто обутыми в чулки, ногами. Правил ею Евгений Васильевич. Поравнявшись, Белоногий покосился на Леню, на время укоротил бег, и Леня на ходу впрыгнул в бричку.
– Ну, что, Алексей Батькович, какие новости? – спросил председатель, отдавая ему вожжи.
– А никакие, – неохотно ответил Леня. – Рыбачить нынче пойдем. В Степной пруд.
– Это хорошо. Я бы тоже не отказался…
– Еще собрание, говорят, будет. Там тебя по головке, наверно, не погладят.
– Вот как? – насмешливо-снисходительно удивился Евгений Васильевич. Затем, растянув в невеселой улыбке запекшиеся губы, потрепал Лене вихор. – Что ж, не все только по головке гладят…
Леня недовольно повел худенькими плечами, отстраняясь от руки председателя. «Храбрится, – подумал он, – а на душе, поди, кошки царапают».
– Из района начальство приехало… С парторгом куда-то укатили, – досказал Леня.
– Ну-ну… – проговорил Евгений Васильевич и умолк.
У самого села Леня украдкой взглянул на председателя. Сидел он большой, грузный и невеселый. Сильное тело его обмякло, руки забылись на коленях. А раньше другой был. Зайдет к ним и крикнет: «Шура! Как жизнь молодая?.. Вот и хорошо! Зачерпни-ка, пожалуйста, водички постуденей да пополней!» Шумный такой, бодрый. И еще спросит: «А ты, Алексей, еще не все ноги избегал? Смотри, лето большое, избегаешь. Как потом в школу пойдешь?»
Сначала, по приезде в село, Евгений Васильевич работал агрономом. Затем его избрали председателем колхоза, и он стал чаще заходить к ним в школу, может, по своим делам к жене, их учительнице Таисии Михайловне. Однажды они сидели с Таисией Михайловной за ее столом и тихо переговаривались о чем-то. Потом председатель поднял голову, обвел взглядом реденьких учеников и остановился на Лене.
– В каком классе учишься, мальчик? – спросил он. (В одном кабинете у них разместились все начальные классы, но больше половины парт все равно пустовало.)
– В третьем! – вскочил и бойко, задорно ответил Леня.
– Боево-ой! А как успехи?
– Лучше всех! – снова звонком, на весь кабинет прозвенел он. Таисия Михайловна рассмеялась и прикрыла лицо ладонями.
– Во всей школе? – удивился председатель.
– Нет! Во всем классе!
– А сколько же вас в классе?
– Один я! – отчеканил Леня. Громко хохотали за его спиной ученики, Таисия Михайловна еще крепче прижала к лицу ладони, но налившиеся слезами смеха глаза выдавали ее.
– Мо-ло-дец! – в тон ему весело ответил Евгений Васильевич, наклонился к учительнице, и та подсказала председателю Ленино имя. – Молодец, Леня!..
Как только поравнялись с их двором, Леня придержал коня.
– Квасу попьешь? – спросил он председателя.
– Пожалуй…
Леня спрыгнул с брички и скоро вынес мокрый жестяной корец с квасом. Евгений Васильевич помедлил, наблюдая игру солнечной дроби в корце, дунул на соринку и припал губами к влажному краю. В это время в калитке появилась мать, опять простоволосая, ярко освещенная солнцем. Она, видно, приходила к бабке покормить Славика и заглянула на минутку домой.
– Тася тебе иль не сделает такой квас? – с храброй улыбкой подтрунила было над председателем мать, но тут же, вспыхнув, густо зарделась, точно ее изнутри охватило мгновенным пламенем, и оттого солнечный блеск в белокурых волосах заиграл еще ярче, нестерпимей.
Евгений Васильевич взглянул на мать и, ничего не сказав, пошел к правлению.
– Жень! – она разом встревожилась и подалась вслед председателю. – Правда, что ль, разговоры-то идут?
Тот на ходу пожал плечами.
– Куда так бежишь? Зайди поговорить-то…
– Шурочка, дорогая моя, некогда! – оглянувшись, председатель махнул рукой. – Потом как-нибудь…
Занося корец в дом, Леня прошел мимо матери, чувствуя неловкость за ее недавний, безответный порыв.
Затем он распряг коня, выкупал его на речке в затоне и, сверкающего от воды, провел на конюшню, дал овса. Белоногий с удовольствием хрустел овсом, а когда, шурша в кормушке, торопливо забирал его губами, получалось так, будто он шептался с кем.
В дверном проеме снова промелькнул райкомовский «УАЗ». Пробежала в клуб Настя-библиотекарь с красным свертком в руке, чтобы накрыть скатертью стол к собранию.
3
За полдень мальчики забрали, наконец, свои припасы и вышли из дома. Быстро перебежали шаткий переход через речку и за огородами выбрались на выгон.
Дорога, поднимаясь на пологое возвышение, огибала зеленое поле суданки, выносливой даже в засушливое лето, огромным массивом уходившей к раскаленному краю неба. Под ногами хлюпала пыль, разбитая колесами до тонкой пудры. Толик, звякая пустым бидончиком и отдуваясь от жары, едва успевал шагать за братом.
Знойной дорогой до пруда в сознании Лени навязчиво звучал веселый морозный скрип крылечка, возникший однажды в зимних сумерках под окном их дома. Как затем звуки шагов и говора переместились в сени, послышалось обивание голиком ног от снега, и снова наступило короткое затишье. К удивлению Лени, в распахнувшейся двери увидел он смущенную Таисию Михайловну, подбадриваемую сзади Евгением Васильевичем.
Леня и сейчас помнит особенный запах внесенного ими настывшего уличного воздуха и духов. Таисия Михайловна, в дорогой шубе, в заиндевелом пуховом платке, совсем не строгая, какой бывала в школе, робко огляделась, а председатель тем временем подмигнул Лене и позвал:
– Хозяева! Можно вас на часок?
Тут из горницы вышли отец и мать; мужчины поздоровались за руки, а женщины заохали, завосклицали, готовые уже и обняться, будто они всю жизнь были задушевными подругами.
Ново и весело стало в доме с необычными гостями за столом. Мать, точно окрыленная, то появлялась в горнице с чайной посудой и вареньем, то исчезала на кухне. После чаепития отыскали где-то завалявшуюся колоду карт. Отец, как понял Леня, играл в паре с Таисией Михайловной. Она путалась в картах, роняла и выказывала их, и оттого отец с ней всегда оставался в проигрыше. «Пустяки, Тася, кому не везет в карты, обязательно повезет в чем-нибудь другом…» – говорил ей Евгений Васильевич. Вообще вечер был веселый. Все смеялись, были так близко друг от друга их светлые, без обычных забот лица.
Недоговоренность в словах, шутки со скрытым смыслом, загадочные перегляды и улыбки приоткрывали Лене иные взаимоотношения взрослых, еще более тайные для него, в результате которых, стыдливо предполагал он, как-то совсем загадочно появляются на свет дети. А через некоторое время, словно в подтверждение его домыслов, Таисия Михайловна стала приходить на уроки в широком просторном платье. У нее появилась какая-то странная рассеянность, а когда писала на доске и за спиной ее вдруг раздавался чей-то смешок, она быстро оборачивалась и, краснея, беспомощно оглядывала класс, чего с ней раньше не было.
Дорога, наконец, поднялась на возвышение, поле суданки оборвалось, а на ковыльной равнине разлитым стеклом открылся пруд, заполнивший водой недавнее ложе дола и сбегающие к нему многочисленные долки.
Ближе к плотине одиноко сидели два рыбака, рядом с ними стоял мотоцикл.
– Городские уже тут, пораньше всех… Какие шустрые – на готовенькое-то! – Леня остановился у берега, не решаясь подойти к рыбакам, занявшим удобное место с глубоким, обрывистым дном.
Мальчики расположились, размотали удочки. Поплавки один за другим взметнулись в воздухе и упали почти возле берега.
Здесь было чуть свежей. Легкий, едва заметный ветерок пробегал рябью по пруду, веял слабой прохладой. Солнечный свет, отражаясь в воде, бликами играл на лицах и в одинаковых, цвета спелой смородины глазах братьев, мешал следить за поплавками, с безнадежным однообразием нырявшими в мелкой ряби. Мальчики притихли, ждали клева.
Вдруг поплавок Лениной удочки колыхнулся и задрожал на воде:
– Клюет, клюет! – страстным шепотом заторопил Толик брата.
Леня дернул удилище – на солнце сверкнул оголенный крючок.
– Ты сиди, я сам знаю! – выговорил он брату.
– Съел приманку! – удивился Толик. – Кто, карп?
– Нет, наверно, карась.
– А может, и карп. Поймать бы, – Толик кепкой вытер пот с лица.
Как изваяния, в терпеливой неподвижности сидели приезжие рыбаки. Но вот один из них привстал и, клонясь к воде, смешно заприседал. К нему подбежал второй. Они заговорили быстро, возбужденно. Первый резко дернул на себя удочку, леска, на миг задержав удилище, натянулась струной и вдруг словно оборвалась, удилище снова взлетело вверх, а следом что-то ярко блеснуло и упало далеко за спинами рыбаков.








