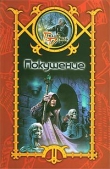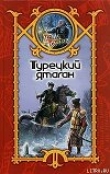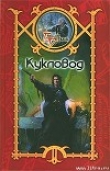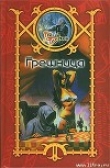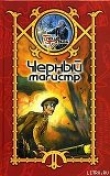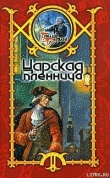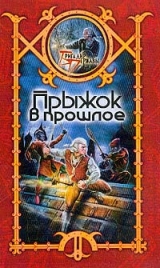
Текст книги "Прыжок в прошлое"
Автор книги: Сергей Шхиян
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Глава седьмая
Я уже почти втянулся в походную жизнь, одиночество меня пока не угнетало, а давешняя находка челна придала уверенность, что я в реальном, а не виртуальном мире.
В надежде на скорую встречу с людьми, дальше я двинулся мытый, бритый, сытый и почти довольный жизнью. Сомнения, что мне удастся выйти к какому-нибудь селению, меня не мучили. Было маловероятно, что берега такой реки окажутся незаселенными. Поэтому, когда менее чем через час пути я попал на скошенный луг с аккуратными копенками сена, я ничуть не удивился.
Луг был пойменный и очень большой. Я прошел по нему с километр, пока не увидел вдалеке цепью движущихся косцов. Видимо, цены на горючее заставили крестьян вернуться к дедовским способам заготовки сена. Я двинулся в их сторону и уже на полпути, кроме косарей, разглядел женщин с граблями, ворошащих траву. Вдалеке, на взгорке, видны были крестьянские избы.
До крестьян было еще далеко, с полкилометра, однако уже отсюда было видно, как они ритмично и широко взмахивают косами и движутся единым ровным фронтом. На лугу было человек двадцать мужчин и немного меньше женщин. Это меня немного удивило, обычно на полевых работах наблюдается совсем другая пропорция.
Чем ближе я подходил, тем медленнее делались движения работающих. Наконец, когда до них оставалось метров сто, мужчины и вовсе остановились, а женщины, сбившись в кучку, отошли в сторону. Такая реакция меня, честно говоря, удивила. То, как все следили за моим приближением, не давало мне повода думать, что причина внимания не я, а что-то другое.
Теперь, вблизи, когда я смог рассмотреть эту бригаду, мне было в пору самому остановиться и разинуть рот.
Похоже, я попал к каким-то староверам. Вся компания была одета в длинные светло-серые рубахи, все мужики, кому, естественно, позволял возраст, носили бороды, но больше всего меня удивили их странные хиппарские прически. Женщины были в таких же, как и у мужиков, рубахах, но подлиннее, а головы наглухо замотаны платками.
Встреча, похоже, мне предстояла и нежданная, и нерадостная. Если это не раскольники, то, вероятно, какая-нибудь религиозная коммуна. Судя по лицам, они никак не смахивали на одичавших оригиналов-интеллигентов, ушедших в народ.
Однако отступать было некуда, и я, по возможности естественным шагом, подошел к косцам:
– Бог в помощь, – произнес я подходящее к случаю приветствие и снял с головы бейсболку.
Косари с полминуты не отвечали, оторопело пялясь на меня, а потом вдруг, как по команде, поклонились мне в пояс.
После чего пожилой мужик с длинной сивой бородой и обстриженными по кругу волосами подал голос. Еще раз, низко поклонившись, он произнес:
– Благодарствуйте, барин, доброго вам здоровья.
Остальные мужики дружно поклонились вслед за ним и как-то робко отступили назад. Такое обращение мне совсем не понравилось. Уж на кого-кого, а на «барина» я, в джинсах, футболке и с рюкзаком за спиной, никак не походил.
Тем более странно, что такое обращение ко мне последнее время использовали совершенно разные люди.
Глядя на крестьян, я совершенно потерялся в догадках, кто же они такие. Предположить в простых колхозниках иронию я не мог, да и не походили они ни на шутников, ни на сектантов. Может быть, действительно староверы?
Правду сказать, о староверах я только читал, да и то у писателя прошлого века Мельникова-Печерского.
– До шоссе далеко ли? – спросил я, чтобы что-то сказать.
Сивобородый мужик с недоумением смотрел на меня, ничего не отвечая. Потом обернулся к своим товарищам, видимо, за поддержкой. Однако, те общей гурьбой отступили еще на пару шагов и ничем ему не помогли.
– Местные мы, – наконец нашелся он, – деревни Захаркино крестьяне.
До меня дошло, что он просто не понял моего вопроса. Видимо здесь слово «шоссе» не в ходу, нужно было спросить «большак» или «тракт».
– Большая дорога далеко ли? – выбрал я наиболее понятный синоним для слова шоссе.
Мужик вопрос понял, и лицо его прояснилось:
– Далеконько, барин, верст двадцать будет.
Обращение «барин» выговаривалось им так естественно, что у меня начали появляться в голове странные идеи.
– Это ваша деревня? – задал я для начала глупый вопрос.
– Наша, барин, – подтвердил с поклоном сивобородый.
– А какие вы крестьяне? – наугад спросил я, не зная толком, какие бывают крестьяне.
– Были казенные, государевы, – совершенно серьезно ответил собеседник, – а уже почитай тринадцатый год в крепости у помещиков Крыловых.
Диалог наш протекал неспешно и естественно, так, как будто мы говорили о самых обыденных вещах. Возможно, для него так оно и было.
«Неужели я попал в прошлое? – подумал с тревожной радостью. – Только вот, в какое время?»
Получалось прямо-таки как у поэта: «Какое нынче, милый, тысячелетье на дворе?»
Я начал приглядываться к крестьянам. Теперь было ясно, почему они показались мне странными. Одеты они были совершенно одинаково, в длинные, почти до колен, холщовые рубахи, и бесформенные, выше щиколоток, штаны. Все, видимо, по летнему времени, босоноги. Как я уже говорил, все взрослые мужики были бородаты.
Странно смотрелись кудлатые головы, стриженные «под горшок» и «скобкой». Было непонятно, чем они моют головы, но волосы у всех выглядели как всклоченная пакля.
К тому же крестьяне были очень низкорослы, самый крупный, тот, который разговаривал со мной, был едва ли метр семьдесят ростом. Остальные на полголовы, а то и на голову ниже. «Мелкими» назвать их было бы неверно, почти все были широкоплечи, с хорошо развитой мускулатурой.
Пока я разглядывал их, разговор как-то притух. Я пытался определить, из какой они эпохи. Что хотели понять во мне визави, не знаю, скорее всего, не из чертей ли я буду. То, что их из государевых крестьян перевели в помещичьи, значило…
Собственно, пока это ничего не значило. Вернее, говорило о разбросе во времени от Бориса Годунова до Николая Первого.
…В школе мне нужно было лучше учиться, чтобы иметь хоть какое-нибудь представление об отечественной истории. Не спрашивать же было у крестьян, какой у них нынче правит царь, и какой год от рождества Христова.
Я почувствовал, что пауза слишком затянулась, и молчание становится неприличным, если не угрожающим.
– А барин ваш где живет? – придумал наконец я, что спросить сивого мужика.
Его лицо осклабилось в щербатой улыбке.
– Здеся, барин, здеся, в емении, ежели будет твоя воля, кормилец ты наш, Архипка, сынок мой, тебя проводит.
Из-за спин мужиков выглянула физиономия белобрысого парнишки лет шестнадцати. У Архипки была детская мордаха и жуткое любопытство в глазах.
– Ты, барин, не сумлевайся, он проводит, – опять заговорил мужик, – он дело знает, ты не смотри… – не придумав, как еще продемонстрировать свою лояльность и способности сына, он строго приказал подростку: – Ты, Архипка, проводи барина до барина и смотри мне, не балуй!
Архипка хотел что-то ответить отцу, но не нашелся и застеснялся. Чувствуя, что проводы могут затянуться, я простился с косцами и сам пошел в деревню. Парнишка двинулся следом.
Было видно, что любопытство борется у него со страхом. Он то догонял меня и шел следом, почти наступая на пятки и дыша в спину, то отставал шагов на десять, и я даже опасался, что робость пересилит, и он сбежит.
Отойдя от крестьян на порядочное расстояние, я обернулся назад и увидел, что они объединились с женщинами и, так и не начав работу, дружно обсуждают мою персону.
Я глянул на своего провожатого. Он отстал уже шагов на пятнадцать и крутил головой, чтобы не встретиться со мной взглядом. Я подозвал его, он неохотно подошел.
– А хочешь, ты, Архипка, боярского лакомства? – спросил я его, вспомнив, как в повести Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» крестьянка называла сахар.
Парнишка не ответил, но зарделся и потупился. Я вытащил из пачки две жевательные резинки и одну протянул ему. Он взял и, не зная, что с ней делать, зажал в кулаке. Я развернул свою и демонстративно отправил в рот. Архипка неловко сделал то же самое.
– Теперь жуй, но не глотай, – проинструктировал его я. – Если сжуешь до конца, дам еще.
Архипка, глядя на меня округлившимися от страха глазами, начал послушно жевать пластинку. На его наивном лице отражались все чувства, связанные с рискованным предприятием, от недоверия до блаженства, особенно когда он прочувствовал вкус «боярского» лакомства. Апогей восторга пришелся на момент, когда я показал ему, как выдувать пузыри. Теперь пацан был мой и телом и душой. О недоверии больше не могло быть и речи. Робость его прошла, и он словоохотливо отвечал на все вопросы, успевая рассказывать немудрящие истории о себе и об односельчанах, и при том яростно жуя резинку.
К сожалению, его откровения почти не помогли мне определиться во времени и пространстве. Все его интересы находились в границах околицы. Царь был для него абстракцией, барин же слишком конкретен. Как оказалось, сейчас в имении жил молодой барин, появившейся здесь недавно, после смерти старого. Ничего конкретного о нем парнишка сказать не мог. Разве что, «Он ужасть какой строгий».
В Бога Архипка верил по-язычески, хотя почти точно прочитал наизусть молитву «Отче наш». Грамоты он, понятно, не знал и не очень ею интересовался, зато с увлечением принялся мне рассказывать про свое хозяйство, родителей и их первейшую роль в деревне.
За разговорами мы незаметно дошли до деревни, и я с интересом начал рассматривать обиталища наших предков.
Избы были построены вдоль реки. Никакой системы, плана застройки при их размещении, скорее всего, не было, хотя какая-то закономерность в расположении и чувствовалась.
Я, правда, не мог понять, какая именно. Последнее мое впечатление о сельских пенатах было от сгнившей деревушки Марфы Оковны. Эта, живая, приятно удивила респектабельным видом многих изб, опрятными палисадниками, кое-где даже претензией на щеголеватость подворий.
Большинство изб были срублены из качественных толстых бревен. Несколько домов, в том числе Архипкин, украшены фронтонами и наличниками.
Все эти поделки были очень примитивны и аляповаты. Впрочем, это дело вкуса. Кому нравится попадья, кому поповская дочка. Особенно умилили меня балкончики, приляпанные к чердачным фронтонам низеньких изб. Никакой функциональности у них, судя по размерам, не было, одна чистая эстетика.
В конце сельца, на самом высоком месте, над избами возвышалась маленькая церквушка с колокольней. Была она опрятна, ухожена, судя по цвету кирпичей – не очень старая.
Мы шли по главной и единственной сельской улице. Народа видно не было, вероятно, все работали. Навстречу нам попался возница на телеге антикварного вида с цельнодеревянными колесами, даже без железных полос. Влекла это сооружение маленькая мохнатая лошаденка. Увидев нас, возчик соскочил с телеги и низко поклонился.
Миновав церковь, на которую мы с Архипкой перекрестились, – он из суеверия, я из осторожности – мы вышли к околице, и я увидел стоящий примерно в километре помещичий дом со службами. Поместье окружал высокий тесовый забор. За ним виднелся довольно большой двухэтажный дом под зеленой крышей. Кроме дома, на огороженной территории было еще несколько бревенчатых строений. Как я понял из кратких пояснений Архипки, занятого дожевыванием резинки, в них располагались людская и службы. Особо он выделил «ранжерею», стоящее особняком сооружение с плоской кровлей.
Мы прошли по дороге, петлей огибавшей усадьбу, и вышли к центральным воротам. Были они с претензией на замковую архитектуру, со сторожевыми башенками под шатровыми крышами. Никаких стражников, естественно, в них не было и в помине, а створки ворот были перекошены и навечно распахнуты. Мы вошли в усадьбу.
Дом с фасада был одноэтажным, а не двух, как со стороны виденного нами раньше торца. Выглядел он внушительно. Шесть ионических колон поддерживал резной деревянный фриз, между ними были видны высокие стрельчатые окна с частым переплетом. Огромные двустворчатые двери, то ли дворцового, то ли соборного типа выходили на низкое широкое каменное крыльцо со ступенями на три стороны. Сам дом был не очень давно оштукатурен: краска уже смылась, но штукатурка еще не осыпалась. От ворот к дому вела посыпанная песком дорога и две аллеи, обсаженные молодыми дубками.
Все это производило впечатление крепкого достатка, но отнюдь не безумной роскоши. Подойдя к крыльцу, мы остановились. Я, не имея ни малейшего представления о дворянском этикете, не знал, что следует предпринять дальше: ждать выхода хозяина или самому идти в дом. Во дворе, как назло, никого не было. Впрочем, судя по тому, как замелькали в окнах силуэты, наш приход не остался незамеченным. Я решил подождать во дворе и стал нарочито внимательно рассматривать дом, чтобы оправдать, на всякий случай, отсутствие действий.
Прошло не меньше пяти минут стояния у крыльца, и ожидание начало делаться тягостным. Я уже собрался подняться в покои, когда, опережая меня, открылись сразу две створки дверей, и из дома вышел стройный человек в атласном халате и с дымящейся трубкой в руке. Был он кудряв, с бакенбардами и бритым подбородком. Таким мне представлялся Денис Давыдов. Возраста он был примерно моего, может быть года на два-три старше.
Я молча поклонился. Хозяин ответил на поклон с секундным опозданием. При всем старании казаться невозмутимым было видно, что он очень удивлен моим видом. Однако, как человек, несомненно, воспитанный, он состроил любезную мину и спустился с крыльца навстречу.
– Позвольте отрекомендоваться, – сипловатым баритоном заговорил он, – здешний помещик, лейб-гвардии егерского полка поручик Крылов Антон Иванович.
Теперь была моя очередь представляться. Кем себя назвать, я не знал и выбрал нейтральный вариант:
– По статской части, путешествующий по своим надобностям, Крылов Алексей Григорьев сын.
В лице помещика что-то дрогнуло, и оно осветилось улыбкой понимания.
– Так вы сынок Григория Пантелеймоновича, Алексей Григорьевич! – с чувством сказал Антон Иванович. – Весьма польщен вашим визитом!
Помещик протянул ко мне руки и, неожиданно заключив в объятия, троекратно расцеловал.
Такой поворот событий меня немного смутил, здесь была налицо явная ошибка. Тем более что моего отца зовут Григорий Сергеевич. Однако я не стал спорить и заулыбался хозяину с не меньшим, чем он мне, энтузиазмом.
– Пожалуйте в дом, – пригласил он, и взяв за рукав, потянул за собой. – Извольте без церемоний, мы ведь с вами наиближайшая родня.
Мы под руку поднялись на крыльцо и, пройдя прихожую, заставленную вешалками и сундуками, вошли в просторную залу. Комната, судя по всему, была парадная: с витиеватыми, золочеными «мебелями», огромной голландской, отделанной изразцами печью, здоровенной свечной люстрой на цепях.
Стены залы были отделаны панелями из «седого» дуба и украшены портретами каких-то людей в старинных одеждах и одним итальянским пейзажем на холсте два на полтора метра.
Хозяин подвел меня к кожаному дивану и принудил сесть, опустившись рядом со мной.
Был он, судя по всему, рад нашей встрече и знакомству.
– Много, много наслышан о вас, любезнейший Алексей Григорьевич. Простите великодушно, что сразу вас не признал. Это ваше иностранное обличье ввело меня в заблуждение. По всему, у вас экипаж изломался, и я гадаю, кто это пехотой ко мне прибыл! Вы зря беспокоились самолично, прислали бы человека, я тот же час коляску за вами бы снарядил.
– Я не в экипаже, а именно «пехотою», как вы выразились, вояжирую, – в тон ему ответил я сладким голосом.
Хозяин и бровью не повел на мое странное признание. Напротив, еще крепче вцепился в рукав моей ветровки.
– Так вы с дороги, поди, устали и проголодались, а я вас баснями кормлю! Сенька! – неожиданно для меня закричал Крылов зычным командным голосом. – Водки и закуски!
В глубине дома началась суета, и через минуту в залу влетел коренастый малый стриженый скобкой, босой, в холщовых портках и странном длиннополом пиджаке, присбореном на талии. В руках его был поднос с двумя рюмками, пузатым графином и закусками в берестяных туесках.
– Извольте откушать, – предложил хозяин, наполнив рюмки зеленоватым зельем.
– Ключница варит? – озвучил я расхожую реплику из популярной кинокомедии.
– Никак нет-с, в винокурне берем-с. Возможно, вы предпочитаете вино-с? Имеется мальвазия, бордо, мадера.
– Благодарю покорно, – оказался я, – предпочитаю отечественную.
Я принял в руку вместительную рюмку, мы чокнулись и выпили за знакомство.
Водка оказалась так себе.
Не крепкая, градусов тридцати, настойная на травах, лишь слегка отбивающих сивушные запахи. Хозяину, впрочем, она, вероятно, нравилась. Он почмокал губами и, не закусывая, налил по второй. В это время опять прибежал Сенька с новым подносом, уставленным закусками.
– Еще по одной? – просительно сказал Антон Иванович.
Мне больше хотелось есть, чем пить, но я не стал сопротивляться. Мы выпили за встречу. Помещик опять почмокал губами и неожиданно для меня закричал:
– Степан!
В дверях показалась сальная рожа толстого мужика.
– Чего изволите? – спросил он не очень почтительным голосом.
– Обед готов?
– Готов, – подумав, ответил Степан, – прикажете накрывать?
– Накрывай, – распорядился хозяин, – а с вами, – обратился он ко мне, – пока пойдемте-ка в кабинет.
И Антон Иванович, прихватив с собой бутылку и рюмки, двинулся в кабинет. Я, посмотрев с беспокойством на остающийся без присмотра рюкзак, решил не демонстрировать недоверия и пошел следом за ним. Про закуски мы опять как-то забыли.
Кабинетом называлась примыкающая к залу небольшая комната, заставленная топорного вида, зато, вероятно, очень прочной и тяжелой мебелью. Сразу было видно, что это деревенская работа какого-нибудь доморощенного столяра.
Предметы интерьера, срубленные на века, долженствовали изображать из себя письменный стол, секретер, бюро, кресло и диван. На последнем, оббитом некрашеной кожей мастодонта, вальяжно расположился помещик в своем атласном халате.
Я выбрал себе покойное, вольтеровское, как говорили в старину, кресло.
Мы дернули по третьей без закуски.
– Вас не обидит, если я закушу? – взмолился я.
– Так сейчас будет обед, а на закуску у нас только рыбное. Сегодня, вы, видать, запамятовали, постный день.
– Пусть рыбное, – смиренно согласился я, – я с раннего утра ничего не ел.
– Семка! – опять закричал хозяин. – Почему нет закуски!
В комнату влетел Семка с тем же подносом. Я снял крышки с нескольких туесков. Ничего вызывающего отвращения в них не было. В одном щучья икра, в другом копченая осетрина, в следующем икра белужья, паюсная.
– Стой! – крикнул я собирающемуся исчезнуть Семке. – Принеси вилку и ложку.
Слуга бросился исполнять приказание. Пока он бегал за столовыми приборами, я кинул взгляд на нечто, похожее на книжный шкаф. В нем стояло несколько толстых книг в кожаных с золотым тиснением переплетах.
С тайной целью по авторам определить время, в котором нахожусь, я подошел к шкафу. Увы, книги были на французском языке. Из сочинителей знакомой была только де Сталь, писательница конца восемнадцатого века. В принципе, я и так уже начал врубаться, что сейчас не петровские или еще более ранние времена. Наконец, Семен принес приборы, и я, отложив дела духовные, принялся поглощать рыбные закуски.
Антон Иванович, отметив мой интерес к французской литературе, перешел на этот благозвучный язык и выдал длиннейшую тираду, из которой я понял только несколько слов: «пардон», «мусье» и «шер ами». Я мобилизовал все свои лингвистические способности и дал ему достойный ответ:
– Je ne parle pas francais.
Что на более понятном языке означало скромное признание моего лингвистического невежества.
Было заметно, что Антон Иванович очень удивился, но тактично перевел разговор на другую тему. Когда же я упомянул в разговоре де Сталь, он очень хитренько посмотрел на меня и сделал непонятный комплимент о предусмотрительности и предосторожности.
Однако в это момент меня увлекла осетрина, и я не обратил внимания на его намеки. В зале, между тем, продолжалась беготня и звон посуды, а мы мирно поддавали, закусывая тем, что кому больше нравится. Я, с голодухи и от жадности – черной икрой, хозяин – мочеными яблочками.
Разговор не клеился. Я все нащупывал тему, которая поможет уяснить, в каком мы находимся времени. Задавать интересующие меня вопросы прямо, я, естественно, не решался.
Хозяин, в свою очередь, напирал на родственные связи, тему, от которой я всячески уходил. Даже частые тосты не помогали нам найти консенсус.
– Как здоровье батюшки вашего? – поинтересовался Антон Иванович.
– Здоров, – кратко отвечал я.
– Где он изволит пребывать? – после долгой паузы, продолжал допытываться хозяин. – В имении или Санкт-Петербурге?
На какой-то момент от опьянения я потерял контроль над собой и брякнул, не задумываясь:
– В Крым отдыхать поехал.
– Куда отдыхать? – ошарашено переспросил Антон Иванович.
– В…, – я лихорадочно пытался вспомнить, когда Крым присоединили к России, – в Калугу поехал, к родственникам, – поправился я.
– К каким? – тут же прицепился к слову Крылов.
– По материнской линии, дальним, очень дальним…
– А мне показалось, вы сказали, что он поехал в Крым.
– В Крыму у нас тоже родственники есть, – зачем-то сказал я, и тут же подумал, что это только запутает ситуацию, особенно если Крымом правит какой-нибудь хан Гирей.
Однако, Антон Иванович лишь важно кивнул головой и разлил остатки водки из графина по рюмкам. Мы молча чокнулись и выпили. Я машинально достал сигарету и прикурил от зажигалки. Выпуская дым после первой затяжки, я взглянул на Антона Ивановича и понял, что опять опростоволосился. Он смотрел на меня с неподдельным ужасом. Я поперхнулся и закашлялся. У меня было всего несколько секунд придумать, как выкрутиться из ситуации. В конце концов, решили, терять мне особенно нечего. В крайнем случае, поручик решит, что я сумасшедший и укажет мне на дверь.
– Видите ли, любезнейший Антон Иванович, я, к сожалению, не сын Григория Пантелеймоновича, за которого вы меня приняли. Я, если не ошибаюсь, ваш праправнук.
Хозяин ничего не ответил, пребывая в столбняке. Меня бросило в жар, и я расстегнул ветровку.
Эта простая операция, как позже сознался предок, добила его окончательно. Молний в ту пору еще не было, как не было сигарет и газовых зажигалок.
Довольно долго мы просидели молча. Я – чтобы опять что-нибудь не ляпнуть лишнего, хозяин – пребывая в шоке. Обстановку разрядил возникший в дверях лакей в поношенном сюртуке и белых, грязных перчатках. Он церемонно поклонился и объявил, что кушать подано. Антон Иванович затравлено посмотрел сначала на слугу, потом на меня, тяжело вздохнул и сказал севшим голосом:
– Извольте отобедать.
Я встал и прошел в залу, где на наши две персоны был накрыт огромный стол.
Яств, как и посуды, на нас двоих было многовато. Однако из того, что я видел в кино и читал в книгах о парадных обедах, на столе стояла лишь малая толика. Да и сервировка оставляла желать лучшего. Посуда и приборы были разномастные, вместо положенных двенадцати рюмок, фужеров, бокалов и прочей тары наличествовало всего по три емкости на брата. Серебряные приборы были плохо вычищены, еда разложена кое-как по блюдам, тарелкам, плошкам, даже глиняным мискам и берестовым коробочкам и туескам.
В доме явно не было хозяйки. Прислуживал нам лакей Петруша, тот, что звал нас к столу. Прислуживал плохо и бестолково. Все перемены блюд стыли тут же на столе, от теоретически белых перчаток ужасно пахло. Не будь я гостем, я бы тут же отправил его посечь на конюшне.
Антон Иванович, то ли от потрясения, то ли по привычке, принимал все как должное. Только когда Петруша облил ему халат соусом, обругал его матом и отослал на кухню. Петруша обижено дернул шеей и гордо удалился.
На смену лакею явилась Марья, босоногая, красивая девка, с шальными, наглыми глазами. Одета она была в белую рубаху со шнуровкой у горла и свободную длинную синюю юбку, явно не сельского фасона. Как и у гордого заторможенного Петруши, в ней не было ни капли раболепия.
Держалась она вполне естественно, пыталась с нами шутить, с любопытством косилась на «странного» господина. Она много ловчее, чем лакей, управлялась за столом и не очень скрывала, что у нее с хозяином «неформальные отношения».
Постепенно Антон Иванович отошел от шока, начал участвовать в разговоре и стесняться марьиной фамильярности. Не желая быть причиной и свидетелем его смущения, я пригласил Марью с нами за стол. Она с удовольствием села, утешив свое самолюбие. Хозяин тут же перестал опасаться осуждения за свою связь с мужичкой и повеселел.
Несмотря на постный день, стол был изобилен и разнообразен. Я с удовольствием ел новые для меня блюда из экологически чистых продуктов без консервантов, хотя и весьма посредственно приготовленные. Кроме еды, мы продолжали активно предаваться Бахусу, разнообразя напитки и закуски.
Внешне напряженность в отношениях почти не проявлялась, однако я видел, что относительно меня помещик пребывает в большом затруднении. Свои хозяйские обязанности он выполнял машинально и при всяком удобном случае, как бы ненароком, ощупывал меня взглядом.
Здесь, за столом, его больше всего интриговала моя одежда. По сравнению с его атласным стеганым халатом одет я был недопустимо легко.
Однако это он, а не я, ради эфемерного приличия прел в жаркий день в теплом платье за жирным и пьяным столом. Но, судя по всему, Антона Ивановича волновали не вопросы этикета, а необычность моего наряда. Я про себя улыбался, наблюдая за движениями его. Моему признанию он, скорее всего не поверил, и теперь, рассматривая меня, пытался определить: враль я или сумасшедший. Вся моя экипировка была совершенно чужда его времени, и он лихорадочно искал логическое объяснение таким странностям. Как и большинство людей, Крылов меньше всего был склонен верить в очевидное.
Я не форсировал события и дал ему время самому прийти к каким-либо выводам.
В конце концов, так и случилось. Когда обед подходил к концу, и все выпитое привело нас в состояние блаженного всеприятия, Антон Иванович хитро и заговорщицки подмигнул мне и облегчил сердце признанием:
– А, ловко вы меня, Алексей Григорьевич, разыграли. Хотя я лично и не имел чести быть с вами знакомым, но много наслышан о вашем экзальте. Вы решили, что я сельский бирюк и не разбираюсь в моде. Признаюсь, в Петербурге сейчас французского платья не носят, а уж в провинции тем паче, вот вы и надумали надо мной подтрунить. Я еще давеча, когда вы изволили сказать, что не знаете по-французски, подумал, что вы или шутник, или скрываете, что противу Именного повеления были в обители жирондистов и якобинцев. Однако явились в мой дом в жирондистском платье, что много противу законного порядку, и сие есть крамола.
Эта длинная тирада его утомила и запутала. Я так вообще почти ничего не понял, ни про Именное повеление, ни про крамолу. Какое отношение имеют мои джинсы и футболка к французской революции и ее политическим группировкам, было еще более непонятно. Я ничего не ответил и ждал продолжения.
– Давно ли из Франции изволили вернуться? – спросил хозяин, пронизывая меня всепонимающим взглядом.
Я скорчил виноватую мину.
– То-то же, – обрадованно сказал он и добродушно рассмеялся, – признайтесь, что государева приказа ослушались! Да, Бог вам судья, я никогда в доносчиках не ходил, а уж на родню доносить – увольте!
– А не напомните ли, любезный родственник, имя государя нашего? Совсем, знаете ли, по заграницам болтаясь, отстал от российской жизни.
Антон Иванович оборвал смех и испуганно осмотрелся по сторонам.
Хотя заведомо никого, кроме нас с ним и Маруси, которая ничего в нашем «ученом» разговоре не понимала, в комнате не было.
– Такими словами, милостивый государь, не извольте шутить. Его императорское величество Павел Петрович за вольнодумство и жирондизм, не то что в Сибирь, а в солдаты да сквозь строй гоняет и познатней нас, дворян…
– Павел Петрович! – перебил я его. – Так теперь, что, восьмисотый год?!
Антона Ивановича явно смутило мое искреннее удивление. Не таким все-таки идиотом я выглядел, чтобы спрашивать, какой нынче год. Да и шутка слишком затянулась и давно была не смешна.
– Нынче июнь месяц 1799 года, – уточнил он.
Значит, я попал на двести лет назад.
Об этом времени у меня были самые смутные представления. В этом году родился Пушкин, о чем уже несколько месяцев талдычат по телевизору. Суворов, кажется, но не точно, в этом году перешел через Альпы.
Правил тогда действительно Павел. Я стал вспоминать, что знаю об этом императоре.
Его мамаша Екатерина захватила престол, и до ее смерти в 1796 году он жил в Гатчине. В начале века, не без участия сына Александра, его убили. Во время сражения при Аустерлице, в восемьсот первом или втором году, правил уже Александр.
Это подробно описано у Льва Толстого в «Войне и мире». Еще об этом времени есть оперетта «Холопка». Оперетту я, правда, не смотрел, но видел снятый по ее сюжету фильм, название которого забыл. Главные герои фильма во время смерти Павла ехали на тройке. Значит, убили царя зимой. Еще я вспомнил, что последнее время Павла, которого всегда ругали, стали хвалить и называть самым загадочным императором.
А вот за что ругали и за что хвалят, и кто именно хвалит, что немаловажно, я запамятовал.
Вот, пожалуй, и все, что навскидку пришло мне в голову об этом историческом времени.
Позже, на трезвую голову, я вспомнил еще кое-какие факты, дополнившие и запутавшие общую картину. Любимец нашего официоза А. С. Пушкин любил упоминать, что он сталкивался с тремя царями.
Первый побранил его няньку за то, что она не сняла перед царем с младенца Саши картуз.
Поэт родился летом 1799 года, картуз он мог носить года в два. Тогда получается, что убили Павла не раньше 1802 года, а это не совмещается с Аустерлицем. Я еще припомнил довольно известную повесть Тынянова «Поручик Киже», в которой император был изображен полным самодуром. Хвалить же его начали за реформы, которые будто бы раньше не смогли оценить… У меня такая возможность появилась.
– Значит июнь 1799 года, – повторил я. – А число какое?
– Двенадцатого дня.
«Ишь, ты, значит, Пушкин уже родился», – подумал я про себя, а у Антона Ивановича спросил:
– Вы в Петербурге бывали?
– Что значит, бывал, – удивленно ответил он, – я же служу в лейб-гвардии.
– Простите, запамятовал, вы случайно не знаете такого поэта, Василия Львовича Пушкина? Он написал известное стихотворение «Опасный сосед».
– Не слышал, я из Пушкиных хорошо знаю только нашего полкового майора Сергея Львовича, может, поэт его брат? Серж, кстати, и сам стишатами балуется.