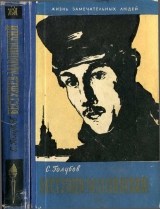
Текст книги "Бестужев-Марлинский"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
АПРЕЛЬ 1824 – ОКТЯБРЬ 1824
Как сон, бежит далекий брег.
А. Бестужев.

Католические проповедники Линдль и Госнер несли какую-то мистическую чепуху в Мальтийской церкви и в большой Екатерининской на Невском проспекте. Министр просвещения князь Голицын и многие другие сановники слушали их, стоя на коленях, закатывали глаза, вздыхали и плакали. Госнер написал толкования на Новый завет. Греч имел неосторожность напечатать их в своей типографии, не предвидя никаких горестных для себя последствий. Между тем дни Голицына были сочтены в кабинете императора. Архимандрит Фотий, продолжавший посещать этот кабинет, разъяснил Александру, что книга Госнера не что иное, как «пароль» тайных обществ против царств. Чуть ли не виновней самих баварских проповедников, по мнению Фотия, был министр Голицын. Он впустил еретиков на Русь, он разверз их греховные уста. Встретив князя в знатном доме за обедом, архимандрит затеял с ним спор, проклял и отлучил от церкви ревностнейшего сына православия, обер-прокурора святейшего синода, министра духовных дел. Голицын был уволен от всех должностей. Его преемником Александр назначил дряхлого архаиста, адмирала А. С. Шишкова. Адмирал был в своем роде замечательной личностью. Никто в России не писал столько, сколько написал этот человек. Но слава его везде была как бы отрицательным отражением славы других людей. Литераторы-карамзинисты говорили прямо, что у них два врага – Шишков и турки. Как печной горшок, жалующийся в немецкой басне Лихтвера, что и под старость его все зовут «маленьким», ветхий Шишков был вечно недоволен собой и своими делами: для настоящей славы ему не хватало немногого – ославянить, онесторить, омосковить Россию. До сих пор его литературные попытки этого рода вызывали только смех; теперь он хотел видеть, как будут смеяться либералы, когда он примется за работу, сидя в кресле министра народного просвещения. Шишков начал с поездки в Грузино на поклон к Аракчееву. Затем подал докладную записку императору о необходимости введения нового цензурного устава, выслал за границу неудачливого проповедника Госнера, отдал под суд цензора Бирукова и Греча, владельца типографии, в которой печаталась богопротивная Госнерова книга, запретил катехизис московского архиепископа Филарета…
У Рылеева часто собирались его таинственные друзья и толковали иной раз до свету. Бестужеву по-прежнему не было хода на эти совещания. Зато рылеевские «русские завтраки» приобрели на Мойке широкий разворот. Говорили обо всем: о литературе, о политике – живо, свободно. Бестужев был романтиком здоровой, крепкой, безыскусственной старины, такой старины, которую нужно было выдумать, чтобы яснее видеть недостатки современности. Он усердно выдумывал эту никогда не существовавшую старину и, жуя вкусно поджаренную корку ржаного хлеба, требовал на «русских завтраках», чтобы их участники говорили вместо «пейзаж» «видопись», вместо «карниз» – «прилеп». Его поднимали на смех, и сам он хохотал громче всех.
На «русских завтраках» стал часто появляться поручик лейб-гвардии Финляндского полка князь Оболенский. Он входил немного боком, как-то радужно морщил доброе лицо, был кроток, тих, приветлив и любил толковать о немецкой философии, которую защищал героически. Это был патриот и мечтатель, вовсе не приспособленный к практической жизни, – камерный человек.
Иногда заезжал Матвей Муравьев-Апостол и сейчас же начинал спорить с хозяином. Речь обычно шла о том, какая форма правления всего пригоднее для России – конституционно-монархическая или республиканская. Муравьев утверждал, что республика могла бы быть столь же пригодной для России, как и для всякой другой страны. Рылеев доказывал, что Россия еще далеко не готова, чтобы сразу стать Швейцарией.
– Попробуйте-ка, Матвей Иваныч, – говорил он, – собрать народных представителей. Увидите, что закричат за царя.
Муравьев-Апостол смеялся. Его кругленькая фигурка шариком каталась вокруг стола. Он хитро потирал руки, ежась словно от холода.
– А и впрямь бы попробовать хорошо, – повторял он, смеючись.
Однажды Матвей Иванович приехал из Красного Села, куда затащил его Оболенский на маневры гвардейского корпуса. У него был расстроенный и унылый вид. Бестужев и Рылеев принялись его расспрашивать. Он махнул рукой.
– Красиво, что и толковать. Мощно, грозно, страшно, – ежась, говорил он, – а главное, господа, все довольны: и офицеры и солдаты – все…
Бестужев порылся в кармане и, достав оттуда листок с недавно сочиненной им вольнодумной песней, протянул Муравьеву. Тот начал было читать:
Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки,
Слава!.. —
но, не кончив, сунул листок за жилет.
– Еду завтра в деревню, в Хомутец, – нечего мне больше в Петербурге делать.
Рылеев вскочил.
– Как в деревню? Почему?
И утащил Муравьева в спальню к Наталье Михайловне. Там они долго объяснялись.
Отданный под суд Греч потерял занятия в министерстве просвещения и директорство над ланкастерскими школами взаимного обучения в гвардии. Ему приходилось плохо. «Сын отечества» надоел читателям и шел вяло. Либерализм Николая Ивановича линял, политическая искренность растворялась в подслуживании правительству. Дружба с Булгариным становилась существенным элементом жизни. Уже давно Пушкин называл друзей-издателей «грачами-разбойниками». Булгарин вывел Греча из неприятного положения. В конце концов невозможно сказать, кто из них был изобретательнее. И вот надворный советник Греч и отставной капитан французских войск Булгарин подали просьбу о разрешении объединить в общем ведении обоих издателей журналы: «Сын отечества», «Литературные прибавления» к нему, «Северный архив» и «Литературные листки», с тем чтобы в дальнейшем выпускать только три журнала под названиями: «Сын отечества», «Северный архив» и «Северная пчела». Дряхлый Шишков жил с дебелой полькой Лобаршевской. Булгарин скоро втесался в дом Лобаршевской, сосчитался с ней родством и через нее двинул прошение в ход. Вскоре его можно было видеть даже в кабинете самого министра. Позволение, конечно, было получено.
Бестужев с Рылеевым решили, что на 1825 год они будут издавать «Звезду» без участия книгопродавца Сленина, который в предыдущие годы снабжал их средствами на издание и потом очень крупно участвовал в барышах. Узнав об этом, Сленин предложил барону Дельвигу войти с ним в товарищество по изданию альманаха «Северные цветы». Сленин делал выгодное дело: тесная дружба Дельвига с Жуковским, Гнедичем, Крыловым, Баратынским, лицейское братство с Пушкиным обещали новому альманаху несомненный успех.
Затея Сленина и Дельвига крепко не понравилась издателям «Полярной звезды».
«Жуковский пудрится, Воейков лежит на одре недуга, разбитый лошадьми… Сленин и Дельвиг издают на 25 год «Северные цветы», точно то же, что и наша «Звезда», это спекуляция промышленности. Им завидно, что в 3 недели мы продали все 1 500 экземпляров», – так писал Бестужев в Париж своему приятелю Якову Толстому[27]27
Письмо от 3.3. 1824 («Русская старина», 1889, ноябрь).
[Закрыть].
В прошлом году умерла старшая дочь Бетанкура, Каролина Эспехо. Это так поразило старика, что он начал заговариваться, спать за обедом и стругать на верстаке свою собственную руку. В июле он скончался. Бестужев провожал его гроб, равнодушно глядя на плачущую Матильду и удивляясь, как все изменилось кругом него и внутри. В конце концов он стал настоящим служакой и почти ничего не писал все лето: не было времени. С трудом удалось ему набросать к рылеевской поэме «Войнаровский» биографию Палея. Герцог никогда так ретиво не занимался делами, как в это лето.
– Терпение – добродетель верблюдов, Конрад, – говорил Бестужев Рылееву, – но разве я не человек, черт возьми?
На дорогах открывались злоупотребления одно за другим. Однако попадались только мелкие хищники, начальники же дистанций были неуловимы. Герцога это раздражало. С мая он начал рассылать Бестужева по дорогам. Приходилось иной раз скакать опрометью круглые сутки, чтобы поспеть к закладке моста или засыпке нового участка на шоссе. Ночевки в трактирах, пьяные обеды у военных инженеров, сочинение рапортов на двух языках, дежурства в промежутках между разъездами безжалостно, бессмысленно, без остатка съедали время. Герцог верил только Бестужеву, ценил его исполнительность и верный взгляд и хотел быть благодарным. Вместо отдыха он возил любимого адъютанта с собой в Петербург и после обеда за так называемым «кавалерским столом» (мечта жизни многих!) ласково говорил:
– Если вы недовольны, скажите.
Бестужев кланялся, брякая шпорами.
В ночь на 27 июля герцог приказал ему ехать в Ригу с секретным поручением к генералу Карбоньеру.
– Дайте мне слово, что вы не будете мешкать ни минуты.
Бестужев сел в коляску и поскакал в Ригу. Он был там утром 28-го и остановился в С.-Петербургском трактире. К счастью, генерал Карбоньер оказался в городе. Бестужеву пришлось провозиться с ним три недели. За это время он стал рижанином. Ему не нравились своей надутостью лифляндские дворяне, и он завел несколько приятных знакомств в купеческом кругу. Случалось ему обедать у местного генерал-губернатора маркиза Паулуччи, быть на маневрах, ездить на морские купания в Нейбате, танцевать на общественных балах. Гусарский майор Иван Бестужев, с которым он познакомился, сообщил ему, что сестры Войдзевич повыходили замуж – сперва Си-далия, а потом и старшая. И опять мысли: как все изменилось вокруг и внутри! В рижском театре Бестужева поразила пьеса «Берлин в 1924 году». Зрители смотрели с разинутыми ртами на мужика, паровой сохой поднимающего землю, на воздушный шар, исполняющий обязанности дилижанса, на почту, пересылаемую в бомбах, на растительную помаду, от которой посеянные на женской голове розы, расцветают в пять минут перед балом, на белого медведя вместо постельной собачки, на автоматического секретаря и тому «подобные глупости, якобы, вероятно, в будущем веке будущие». Он описал эти глупости в подробном письме к Прасковье Михайловне[28]28
Письмо в Сольцы от 21.8. 1824 («Памяти декабристов», сборник материалов, Ленинград, 1926, т. I).
[Закрыть] из Петербурга, куда вернулся 19 августа.
В письмах к матери Бестужев много и обстоятельно говорил о том, что было для него в это время существенным и важным, кроме службы. Он с сердечным вниманием следил за ходом греко-турецкой войны. Турки овладели островом Инсарой и перерезали всех жителей-греков. К стыду Священного союза, триста европейских судов, в том числе тридцать русских, перевозили варварский десант. Было над чем задуматься! Через месяц у острова Самос греки положили на месте 16 тысяч турецких моряков. Бестужев торжествовал – победы греков были победой знамени, под которым еще ютилась свобода. Смерть Байрона в Миссолунгах [29]29
19.4. 1824.
[Закрыть] наполнила Бестужева смятением и болью. Он уже свободно понимал по-английски и, прилежно перечитывая страницы, полные гнева и тоски, рыдал восклицая:
– Что за огненная душа!
Он бросался на книги, как голодный на хлеб, усердно изучал Адама Смита, увлекался Нибуром, заглядывал в Гумбольдта, Паррота и Араго. Но из историков Герен и из публицистов Бентам были его любимыми авторами. Греч получал иностранные газеты, в частности гамбургскую. Рылеев, не знавший иностранных языков, иногда просматривал эти газеты и, найдя слово constitution, тотчас просил переводить. Бестужев проглатывал отчеты о политических прениях в парламентах, разбирал речи ораторов, восхищался одними и негодовал по поводу других – все, что происходило во французской палате депутатов и в hose of commons [30]30
Палата общин в Англии.
[Закрыть], занимало его нисколько не меньше, чем любого француза или англичанина. Неясные симпатии к духу нового времени, к новым людям, деятельным и сильным, давно уже мешали Бестужеву слиться полностью с блестящей, но пустой сферой старого аристократического общества. Он любил прошлое, но не за то, что оно родило настоящее, и из настоящего жадно смотрел в будущее. Теперь он начинал понимать, что будущее приходит скорей, чем уходит настоящее, и сознательно искал в арсенале истории железных аргументов в пользу прогресса. Его симпатии к третьему сословию, подвижные и мягкие прежде, превращались в постоянное и твердое убеждение. Уроки истории лишили их всякой отвлеченности, теперь это было живое знание пути, по которому предстоит идти вперед человеческому обществу. Через несколько лет Бестужев так запишет свои мысли, сформировавшиеся в критическом двадцать четвертом году:
«В Европе возникала и крепла совершенно незнаемая в древности стихия гражданственности, стихия, которая впоследствии поглотила все прочие – мещанство… В стенах городов вообще, и вольных в особенности, кипело бодрое, смышленое народонаселение, которое породило так называемое третье сословие: оно дало жизнь писателям всех родов, поэтам всех величин, авторам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению… Они сражались своими сатирами, комедиями и эпиграммами, а между тем дух времени работал событиями лучше, нежели все они вместе. Изобретение пороха и книгопечатания добило старое дворянство. Первое ядро, прожужжавшее в рядах рыцарей, сказало им: опасность равна для вас и для вассалов ваших. Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных разночинцев над невеждами дворянчиками. Дух зашевелился везде…»
Между Бестужевым и сотнями молодых людей, с которыми он встречался в свете, было очень много общего, но еще больше различия. И те, как и он, превосходно танцевали, знали множество куплетов из модных водевилей, читали Байрона и Дарленкура, но сказать, сколько в России жителей и чем отличается английская конституция от североамериканской, они бы не смогли. Им, как и Бестужеву, были хорошо известны все современные и старые придворные происшествия и связи, они безошибочно сумели бы перечесть всю фалангу российской и европейской родовой знати, но объяснить спор фритредеров с протекционистами или отыскать в истории место для Кромвеля было бы им решительно не под силу. И никому из них в голову не пришло бы спрашивать приятеля, живущего в Париже:
«Что делают либералы и каков их характер? Каков дух большей части французов? Доволен ли народ? Пожалуйста, бросьте при верном случае несколько строк об этом. Вы одолжите тем всех благомыслящих. Здесь же солдатство и ползанье слились в одну черту и офицеры пустеют и низются день от дня» [31]31
Письмо к Я. Толстому от 3.3. 1824 («Русская старина», 1889, ноябрь).
[Закрыть].
Все ли пустеют? Впрямь ли так одинок Бестужев? В самом недальнем времени ему предстояло это увидеть, узнать и понять…
В начале июня Булгарин зашел к Бестужеву в ка-ком-то тихо-восторженном состоянии.
– Александр, – сказал он важно, без всякой аффектации, – я узнал необыкновенного человека. Это гений! Бессмертие лежит в его портфеле!
Бестужев понял, что Булгарин находится в высшем градусе энтузиазма, и необычайная тихость похвальбы его рассмешила. Вообще энтузиазм других всегда порождал в Бестужеве холодность. Он знал цену чудакам и феноменам, фланирующим в два часа дня по Невскому, и давно уже пресытился ими, как Макбет – привидениями.
– Кто же это?
Тут Булгарин не выдержал. Он засопел, заплевался и, заикаясь после каждых трех слов, пустился рассказывать. Новый знакомый Булгарина назывался Грибоедовым. Он только что приехал в Петербург из Москвы с недоконченной комедией, остановился на Мойке в трактире Демута, уже читал свою комедию у Львовых; весь Петербург кричит, что Мольер – щенок перед Грибоедовым; Булгарин знавал его еще в Варшаве в 1814 году, вернее, Грибоедов знавал Булгарина; еще вернее, что Грибоедову известен один благородный поступок Булгарина из тех времен; они уже на «ты»; Грибоедов изучает восточные языки под руководством профессора Казембека и Мирзы-Джафара, кроме того, правоведение, философию, историю и политическую экономию; сейчас он занят переводом отрывка из «Фауста» и собирается переводить «Ромео и Джульетту»; вообще знать этого замечательного человека – то же, что и любить, потому что он умен, учен, добродушен, красноречив. Рассказам Булгарина не было конца, и смысл их Бестужев понимал отлично: «Смотри, вот какой человек оценил Булгарина и стал его другом!» Бестужев и раньше очень много слышал о Грибоедове, и все в этом роде. Кто-то говорил ему, что генерал-губернатор граф Милорадович пленен Грибоедовым и недавно угощал его обедом в Екатерингофе, что Грибоедов приходится сродни генерал-адъютанту Паскевичу и в доме его встречается с великим князем Николаем.
О необыкновенности читанной Грибоедовым у Львовых комедии Бестужев тоже много слышал. Всего этого для него было достаточно, чтобы потерять всякий интерес к знакомству с Грибоедовым.
Вечером 23 июня Бестужев заехал к своему приятелю, гвардейскому офицеру Муханову, известному под прозвищем «Галл». Муханов был нездоров. Вдруг распахнулась дверь, и вошел человек среднего роста, в черном фраке, в очках.
– Я зашел навестить вас, – сказал он Галлу, – поправляетесь ли вы?
В лице его было заметно искреннее участие, в приемах – умение жить в хорошем обществе, однако без всякого жеманства. Манеры его были несколько резки, но приличны как нельзя более. Это был Грибоедов. Знакомство состоялось, имена прозвучали внятно, но холодно; руки обошлись без пожатия. Разговор завязался по-французски, очень обыкновенный разговор. Бестужев взял со стола томик Байрона и сказал:
– Утешительно жить в нашем веке по крайней мере потому, что умеют ценить гениальные произведения.
– Даже оценять многое свыше достоинства, – живо заметил Грибоедов.
– Я думаю, это не касается Гёте или Байрона, – запальчиво возразил Бестужев.
– Почему же нет? Может быть, и обоих… Никто не смеет сказать, что он проник великого мыслителя, и никто не хочет признаться, что он не понял благородного лорда.
Спор закипел. Бестужев сражался за Байрона против Гёте, за Шекспира против Байрона. Грибоедов неожиданно вышел из сражения.
– Признаюсь вам, что я не могу понять суда, где красоты ставятся в рекрутскую меру. Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны.
Это было правдой, осязаемой правдой. Спор шел на ветер. Грибоедов засмеялся.
Бестужев понял, что он очень умный человек. Так состоялось это знакомство и не принесло Бестужеву тепла.
Подготовка «Звезды» шла в этом году не без затруднений. В сентябре альманах еще далеко не был скомпонован. Конкуренция «Северных цветов» давала себя чувствовать. Надежда была на прозу – Корнилович писал хороший исторический рассказ о Петре I, брат Николай, вышедший 1 июля в Гибралтар на фрегате «Проворный», должен был скоро вернуться и, конечно, напишет что-нибудь о путешествии. Грибоедов обещал дать свой перевод отрывка из «Фауста». Возня с гравюрами и виньеткой страшно затягивалась. Сперва хотели обойтись без этих украшений, потом решили, что не следует быть хуже других. Все эти хлопоты полностью лежали на Бестужеве.
Рылеевы потеряли сына Сашу и выехали из Петербурга в Острогожск, к родственникам Натальи Михайловны – Тевяшовым. Кондратий Федорович собирался там прожить два месяца, а Наталья Михайловна не хотела возвращаться в Петербург раньше чем месяцев через семь.
Бестужев перебрался на Мойку, в пустую рылеевскую квартиру. Там было удобнее заниматься подготовкой «Звезды» к выходу в свет – под рукой книги и Орест Сомов, проживавший в том же доме, этажом выше.
НОЯБРЬ 1824 – ДЕКАБРЬ 1824
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Пушкин.

7 ноября 1824 года Бестужев проснулся от грозных ударов, от которых дрожало огромное окно рылеевского кабинета. Он вскочил с дивана и прыгнул к окну. То, что он увидел, было поразительно. По тихой обычно набережной с ревом катились вспененные волны. Барки с сеном и еще какие-то суда неслись против течения, и верхние этажи домов противоположной стороны ныряли в серой бездне. Вода рвалась в окно; толстое зеркальное стекло стонало; из щелей пола били вверх пузырчатые гейзеры. Квартиру заливало.
В кабинет вбежал бледный Прокофьев, один из директоров Российско-Американской компании. Он жил в третьем этаже.
– Александр Александрович, – пробовал он перекричать вопль и свист бури, – да бросьте ваши мундиры и все… И гребешок бросьте, черт с ним! Идите ко мне наверх, авось не достанет…
Качавшийся на волнах комод с размаху ударил в окно кабинета. Цельное стекло лопнуло с треском – так рвутся ракеты, – и фонтан воды забил с дикой стремительностью.
Прокофьев кинулся вон из кабинета.
– Ждите меня, Иван Васильевич, через полчаса! – крикнул ему вслед Бестужев.
Рылеевский человек Яков совсем потерялся; он тыкался по углам полузатопленной квартиры с тюком свежевыглаженного белья. Бестужев выхватил у него из рук несколько простынь, рубашек, полотенец и бросился законопачивать ими входную дверь. Затем принялся громоздить кресла и шкафы на столы и диваны. Вот мех Натальи Михайловны; под потолок его, на канделябр… Книги он сваливал кучами на лежанки и кровати. Когда вода в комнатах стояла уже по пояс, работа начинала подходить к концу. Было около 6 часов дня; Бестужев поднялся наверх – мокрый, горячий, с засученными по локоть рукавами грязной сорочки. Прокофьев и Сомов сидели за чайным столом и молча слушали свист бури и глухие удары волн в стены дома.
Страшный день кончился. Коломна была смыта морем и почти не существовала. Галерная гавань тоже. Деревни по петербургской дороге: Емельяновка, Екатерингоф, Афтова – снесены. Рабочий поселок возле чугунолитейного завода пропал, словно его и не было. Рассказывали, что вода поднималась 7 ноября на аршин с четвертью выше, чем в памятное наводнение 1777 года. Было подобрано больше 1 500 трупов. Петербург походил на стоянку разбитой армии. В домах зияли трещины. Подсчитывали убытки: 20 миллионов. Составлялись поквартальные списки разоренных жителей.
Сомов, хихикая и мигая красными глазами, говорил Бестужеву:
– Ох, боюсь, что дельвиговские «Северные цветы» подмокли в луковицах и расцветут не скоро.
– Они, друг Орест, прежде были сухи, – весело смеялся Бестужев, – а теперь будут весьма водянисты.
Пушкин прислал из Михайловского стихотворное поздравление Бестужеву:
Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, – не беда;
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная звезда».
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Через несколько дней после наводнения Бестужев заехал к Булгарину.
– Читай! – сказал ему Булгарин тихим голосом, что означало у него высшую степень восторга. – Читай, и тогда поговорим.
Бестужев взял рукопись и развернул ее. Это были отрывки из грибоедовского «Горя от ума». Александр Александрович проглотил рукопись – раз, два; затем начал перечитывать в третий раз. Пронзительное остроумие, подлинность разговорного языка, гордая смелость Чацкого – вот что показалось ему необыкновенным. Он вскочил и схватился за шляпу.
– Куда ты? Куда? – кричал Булгарин. – Постой, сумасшедший!
– К Грибоедову. Прощай.
С бьющимся сердцем примчался Бестужев на Торговую улицу, где жил в это время Грибоедов, в доме Погодина, у корнета конной гвардии князя Одоевского. «Человек, написавший то, что я сейчас читал, должен быть существом благороднейшим, – думал он, взбегая на подъезд, – прочь все предубеждения…»
Грибоедов собирался выезжать из дома.
– Александр Сергеевич, я приехал просить вашего знакомства. Я бы давно это сделал, если б не был предубежден против вас… Все наветы, однако ж, упали пред немногими стихами вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не может быть тускло и холодно.
Руки новых друзей встретились в крепком пожатии.
На следующий день Бестужев слушал чтение Грибоедовым «Горя» на новоселье у общего знакомого. Он читал превосходно – без фарсов, без подделок, умея оттенить каждое счастливое выражение и придать характер каждому лицу. Грому, шуму, восхищению слушателей не было конца…
Грибоедов не любил похвал. Кровь сердца играла в его лице, когда «Горе» превозносили. Бестужев не хвалил, и от этого, может быть, они стали еще дружнее. Скоро они стали вместе ездить на репетиции в театральное училище. Молодой Каратыгин, Петр, брат знаменитого трагика Василия, старого товарища Александра Александровича по горному корпусу, собирался из корпуса выйти па сцену. Для «Пурсоньяка» Бестужев дал ему свой адъютантский мундир со всеми принадлежностями. Каратыгин оцепенел от радости. Воспитанники хотели разыграть «Горе». Бестужев застал на репетиции Грибоедова с молодым человеком в синем фраке, бледным и глуховатым на одно ухо. Его звали Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером. Бестужев много слышал о нем смешного и хорошего от Ивана Пущина: они были дружны с лицея. Кюхельбекер приехал в Петербург из Москвы, где издавал журнал «Мнемозина» с князем Владимиром Одоевским, двоюродным братом конногвардейца, у которого жил Грибоедов.
– Вот человек, – сказал Александр Сергеевич Бестужеву о Кюхельбекере, – который во всех отношениях лучше меня. Но, чур, не спускать его с глаз – тотчас треснется головой об пол.
Действительно, Кюхельбекер был похож на огромного ребенка, живого, порывистого и умного, но еще не знающего, что такое огонь и вода.
Бестужев перебрался из просыревшей рылеевской квартиры наверх, к Сомову. Рылеев все еще жил в Воронежской губернии, собираясь вернуться в Петербург около половины декабря, предварительно побывав в Москве, где печатались тогда отдельными изданиями его «Думы» и «Войнаровский».
Бестужев острил перо против Воейкова за перевод байроновской «Осады Коринфа», часто виделся с Грибоедовым на Торговой, у Сомова и в свете, который Грибоедов посещал усердно. 12 декабря, в день рождения императрицы, Бестужев сопровождал герцога на бал в Зимнем дворце, торжественнейший по времени года. Император прошел польский и не танцевал более, разговаривая со свитой и наблюдая, не прыгает ли кто из офицеров в кадрили выше положенного. Серебряная голова адмирала Мордвинова, получившего в этот день андреевскую звезду, сверкала возле императора неотходно. На всех лицах были написаны ожидания, надежды, разочарования, сомнения, восторги, одного только нельзя было прочитать на них – искренности. Было много бриллиантов и мало красавиц; за ужином – много бургонского, Кло де Вужо и Клико, но мало веселья, так всегда бывает наверху этой роскошно-животной жизни. На балу Бестужев познакомился с конногвардейцем князем Одоевским. Это был юноша необыкновенно приятной наружности, белый и нежный, с большими синими глазами под черными дугами бровей. Бестужев спросил о Грибоедове. Отвечая, Одоевский сказал сразу о нем и о литературе вообще, и о романтической поэзии, и о народности, без которой нельзя писать. Оказалось, что Одоевский поэт и уже дважды выступал в журналах с критическими статьями. Бестужев попробовал узнать, что подразумевает князь Александр Иванович под романтизмом. Но тут Одоевский разгорячился и наговорил чепухи; было ясно, что он понятия не имеет о романтизме, но страшно недоволен приемами старого искусства и любит в поэзии всякие нововведения, если только они, не нарушая законов природы, ведут к избавлению искусства от излишних уз. Странное дело – романтизм! Бестужев знал, что это такое. Ему было совершенно понятно, что Расин вовсе не тем хорош, что он классический трагик, а классическая трагедия хороша именно потому, что у нее есть Расин, но определение, формулу романтизма он никогда не мог измыслить, как ни бился над этой задачей, сочиняя свои «Взгляды». С Одоевским у Бестужева сразу наладилась дружба; Грибоедов и литературные интересы крепко их соединили.
Рылеев приехал в Петербург на следующий день после бала в Зимнем дворце – 13 декабря. Почти одновременно с приездом Рылеева вернулись в город из Солец Прасковья Михайловна с Лешенькой и младшими дочерьми.
После оттепели город покрылся ледяной корой. Бледные просини бороздили холодное небо. Люди кутали шеи шарфами, кучера хлопали рукавицами. Но снега еще не было, хотя декабрь уже дотянулся до половины. К Бестужеву зашел брат Николай, только что произведенный в капитан-лейтенанты, сверкая четырьмя звездочками на серебряных дощечках штаб-офицерских эполет. У него был угрюмо-сосредоточенный вид. Он быстро зашагал по комнатам сомовской квартиры, где жил Бестужев (Ореста Михайловича дома не было). Подошел к брату, собираясь что-то сказать, но ничего не сказал и снова пустился шагать. Наконец, остановившись в соседней комнате так, что Бестужев не видел его лица, сказал оттуда:
– Любезный Саша, перед тем как подняться к тебе, я был у Рылеуса. Пойди к нему, он ждет тебя…
Бестужев спустился вниз. От Рылеева недавно ушли печники и маляры. В квартире перекладывались голландские печи; стены, поросшие зеленым бархатом плесени, красились синим маслом. В квартире все было не на месте, и самому хозяину было тоже не по себе. Он сидел на диване, накрытом старым детским одеялом, в халате, круто подогнув под себя ноги.
– Саша, – сказал он, едва Бестужев переступил порог, – я хочу сказать тебе важную новость.
Александр Александрович приготовился слушать. То, о чем говорил Рылеев, в самом деле было необыкновенно интересно. С Кавказа приехал генерал-майор князь Сергей Волконский, который видел на Минеральных Водах Якубовича, бывшего улана, знаменитого забияку, высланного из Петербурга после дуэли Завадовского с Шереметьевым и стрелявшегося в Тифлисе с Грибоедовым. Якубович рассказывал Волконскому, будто на Кавказе есть тайное общество, вроде немецких, с пятью директорами. Что общество это – под покровительством генерала Ермолова, что все меры строгости Ермолов проводит сам, а все меры благотворительные поручены обществу. Ждут только кончины императора, чтобы действовать. Цель их – конституция, конец рабства крестьян, законы, правда, человечество, свобода…
Рылеев говорил и медленно поднимался с дивана, не спуская ног, наконец встал на колени. Халат его распахнулся. Огонь осветил его лицо изнутри. Он продолжал говорить, со страстью обращая к далеким кавказским братьям слова дружбы и верности. Их де-ло – святое дело, но не только им предстоит его делать. Время подошло. Русский народ несет на своих плечах неуклюжую, кое-как сколоченную империю. Но ведь распадется же это несуразное государство, чтобы, наконец, уступить место самому народу! Уже нет сил дышать… Везде отвлеченный долг, обязательные добродетели, официальная нравственность без всякого отношения к действительной жизни. А финансы расстроены, торговли нет, купцы разорены, крестьяне страждут, способы земледелия ничтожны, в судах беззаконие, отечество гибнет…
Рылеев не раз уже говорил это самое, но никогда не говорил так, как сейчас. Тайное общество! Великий труд, бескорыстно поднятый для спасения родины… Вот цель существования, смысл борьбы, подлинный путь революции! Дуновение светлого и чистого духа коснулось сердца. Секунды не прошло, Бестужев пылал, как факел.
– Конрад, – сказал он, – тайное общество есть не только на Кавказе? Ты член его?
Бестужев ждал ответа и знал, каким он будет.






