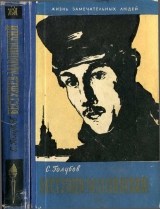
Текст книги "Бестужев-Марлинский"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– А все-таки республика в России невозможна, – сказал он трагическим голосом, – и революция с этой целью будет гибельна. В одной Москве из 250 тысяч ее жителей 90 тысяч крепостной дворни, готовой взяться за ножи, и первыми жертвами, господа, будут ваши бабушки, тетушки и сестры. Если же непременно хотите перемены порядка, то лучше произвести революцию дворцовую и признать царствующею императрицею Елизавету Алексеевну.
Рылеев сейчас же возразил:
– Не в деспоте дело, а в ненавистном, оскорбительном для человечества деспотизме.
Заговорили о плане революции: один полк идет к другому, поднимает его, вместе идут к третьему, поднимают, наконец все сходятся на Сенатской площади– так предлагал Трубецкой.
Рылеев задумался.
– Я против того, чтобы полки шли один к другому, – вдруг сказал он, – это слишком долго будет.
Молча куривший до сих пор Трубецкой вынул изо рта трубку.
– Так необходимо. Без этого ничего нельзя сделать. И вот что еще: когда полки будут идти один к другому, то нам не надобно быть с ними или по крайней мере при первых.
Бестужев уже видел эту могучую лавину штыков, катившуюся по улицам с городских окраин к центральным площадям, наполнявшую площади, разливавшуюся вокруг дворца, бурлившую у подъездов, мимо которых бедные, темные люди проходят, снимая шапки, и за которыми ткется железная паутина рабства. Он видел, как тонут подъезды в прибое солдатских волн, как шатается старый, проклятый дворец…
– Можно будет и во дворец забраться! – крикнул он радостно.
Батенков вздернул свою длинную голову.
– Боже спаси! Дворец должен быть священным местом. Если солдат до него прикоснется, то уже и черт его ни от чего не удержит.
Рылеев потушил спор:
– В крепость может прямо пройти лейб-гренадерский полк.
Трубецкой не согласился, – он всегда был против занятия крепости.
– Это разъединит силы.
Из соседней комнаты доносились буйные возгласы Арбузова:
– И с горстью солдат все можно сделать.
Трубецкой сморщил лицо.
– Кондратий Федорович, худо, что дух членов бунтует.
Рылеев засмеялся.
– Успокоится. Итак, князь, сколько же надо силы для совершения?
– По крайней мере тысяч шесть человек солдат.
Если же будет можно совершенно надеяться на один полк, что он непременно выйдет, и притом еще гвардейский экипаж, а в некоторых других полках будет колебание, то и тогда можно начать, потому что посредством первого полка можно будет вывести и другие. Но первым полком должен быть один из старых коренных гвардейских полков, каков Измайловский, потому что к младшим полкам, может быть, не пристанут.
Рылеев закрыл и открыл глаза, будто пересчитал что-то.
– За два – Московский и лейб-гренадерский, кроме экипажа, наверное отвечаю.
Так провел Бестужев вечер 9 декабря.
На следующий день ему надо было явиться на дежурство к двенадцати часам утра. Он уже собирался ехать, досадуя и возмущаясь глупой необходимостью торчать в передней немецкого высочества, когда дверь растворилась и Николай Александрович с младшим братом Петрушей вошли в комнату. Петруша вчера только приехал из Кронштадта. После объятий и поцелуев Николай Александрович сказал:
– Любезный Саша, я привел к тебе Петра; чтобы ты уговорил его уехать из Петербурга. Он не хочет слушать меня, так как по неосторожности моей уведомился насчет наших планов. Но ведь должны же мы оставить в случае несчастья кого-нибудь матушке из ее взрослых сыновей. А Павел еще вовсе ребенок…
Петруша упорно отстаивал свое право заговорщика участвовать в опасных предприятиях общества, и не мало хитрости, нежности, путаных обещаний и просьб понадобилось для того, чтобы он, наконец, согласился в тот же день вернуться в Кронштадт. Он обещал это со слезами, с ропотом на братский деспотизм, с пламенным желанием быть «у самого дела». Вечером Трубецкой привез на Мойку важный слух: Карамзин и Сперанский заняты сочинением манифеста о вступлении на трон Николая. Это означало конец династического кризиса и начало революционной борьбы. Рылеев объявил, что есть надежда, кроме прежних трех полков, поднять еще Финляндский, Измайловский и егерский. Он особенно напирал на Финляндский и даже называл фамилии «готовых» офицеров: барон Розен, штабс-капитан Репин. Все заговорили сразу и почти в одинаковых словах:
– Итак, господа, сами обстоятельства призывают к начатию действий, и не воспользоваться оными со столь значительными силами было бы непростительное малодушие и даже преступление.
Бестужев снова был в лихорадке. Вот они, полки, о которых говорит Рылеев. Люди хватают ружья из стоек и бегут из казарменных спален на полковые дворы. Падают двери под напором сотен тел. Впереди – он, Бестужев…
11 декабря Рылеев снял повязку с шеи – он выздоровел. Бестужев зван был обедать к Булгарину.
По дороге на Вознесенский проспект встретился ему Ф. Н. Глинка – свой человек и не свой, – он ни разу не был за все последние дни у Рылеева. Однако, завидев Бестужева, Глинка остановил его и, оглядываясь, заговорил:
– Ну, вот и приспевает время. Смотрите, господа, без насилий…
Бестужев вернулся на Мойку к шести часам и застал там Мишеля, который привез с собой трех офицеров Московского полка – князя Щепина-Ростовского, Волкова и князя Кудашева. Щепин был широк в плечах, румян, курчав и с бешеной горячностью повторял за Мишелем, что конституция нужна для России, а Константин для конституции. Как видно, ему не сказали всего.
Приехал Оболенский. Рылеев познакомил с ним Щепина и сказал:
– Завтра, князь, прошу вас быть у князя Оболенского представителем от Московского полка на собрании офицеров.
– Есть, – ответил Щепин по-морскому – он был раньше моряком, – и так сжал кулаки, что крупные яблоки мышц запрыгали у него на руках под тонким сукном мундира.
12 И 13 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА
И он говорит мне, снимая оковы,
Мое неизменное, вечное
слово:
Свобода! Свобода!
Огарев.

В ночь на пятницу 12 декабря погода изменилась. Оттепель последних дней, когда над городом бушевали мокрые вьюги, снег таял и стекал в канавы грязными ручьями, сломалась на мороз. Утром Бестужев подошел к окну и увидел набережную, покрытую тусклым блеском тонкой ледяной корки, и извозчичьих лошадей, еле волочивших гремучие кареты. Он решил идти к Якубовичу пешком.
Капитан не выходил из дому из-за опухоли на ноге. Он лежал на диване, высоко задрав больную ногу, и очень обрадовался гостю. Разговоры живо свернулись на предстоящее «действо». Бестужев говорил, что он готовит себя для участия в военном выступлении и этим интересуется по преимуществу. А что будет с императорской фамилией – арестуют ли ее до созыва Собора, или вышлют за границу, или поступят с ней иначе, – не его дело. Однако он понимал, что, как бы ни было решено, самый акт созыва Собора есть акт республиканский. Лично Бестужеву казалось бы наиболее реальным решением – послать депутацию к новому императору и требовать конституции. Якубович был с ним совершенно согласен. Оба они не без основания считали, что в критическую минуту могут горячей речью сильно подействовать на военных участников восстания, и провели целое утро в рассуждениях о том, в какой части города удобнее всего расположить войска на биваках.
От Якубовича к часу дня Бестужев отправился на Вознесенский к Булгарину и здесь узнал, что с юга только что вернулся Корнилович и привез дюжину банок киевского варенья да две дюжины бутылок славного венгерского. Корнилович был командирован во 2-ю армию, в корпус генерала Раевского, и вовсе не должен был возвращаться в Петербург. Бестужев догадался, что с приездом Корниловича связано нечто более важное, чем варенье и венгерское.
Отобедав у Прокофьева, Александр Александрович поехал на Васильевский остров и застал дома матушку и сестер, благополучно прибывших из Солец и вовсе не встревоженных его письмом. В девятом часу, вырвавшись из нежных родственных объятий, он, наконец, поскакал на Мойку вдвоем с Мишелем. Следом за ними приехал Трубецкой с богатым багажом новостей. Отречение Константина и вступление на трон Николая – факт. Еще рано утром прибыл курьер от Дибича из Таганрога. Трубецкой не придавал его появлению большого значения. А между тем в пакетах, привезенных этим курьером, заключалась страшная угроза для тайного общества. Дибич сообщал о найденных в бумагах покойного императора доносах и называл несколько фамилий петербургских участников заговора. Трубецкой не знал, что Николай еще в восемь часов утра поручил Милорадовичу установить наблюдение за лицами, названными в донесении Дибича, а в десять – Милорадович доложил, что ни одного из них нет налицо в Петербурге: Никита Муравьев – в деревне, граф Захар Чернышов – тоже, Свистунов уехал за ремонтом. Это усилило подозрения.
Дибич указывал главным образом на членов петербургского филиала Южного общества. Северное пока оставалось в тени, если не считать Никиты. Обо всем этом ни Трубецкому, ни Рылееву не было известно. Зато Рылеев, у которого еще с утра побывал Корнилович, рассказывал со слов последнего, что в корпусе генерала Раевского весьма беспокойно, что Сергей Муравьев-Апостол просил передать северным свое поручительство за 60 тысяч войск южной армии и что надо ждать в Петербург Матвея Муравьева-Апостола для связи.
Рассказывал Рылеев и о собрании у Оболенского, которое состоялось в четыре часа дня. На собрании этом были офицеры от нескольких полков гвардии. Рылеев объявил собравшимся план действий на послезавтра, то есть тот именно день, когда следовало ждать от Николая выпуска манифеста о новой присяге.
О главном Рылеев упомянул вскользь: решено идти 14 декабря не от полка к полку, как требовал Трубецкой, а всем сразу на Сенатскую площадь. Это был существенный пункт расхождений между Рылеевым и диктатором.
Молчавший до сих пор Трубецкой вдруг встал и проговорил веско, явно стараясь прикрыть этой вескостью слов летучий изворот трусливой мысли:
– Я уезжаю, господа, меня ждет важное дело. Однако, если увидим 14-го, что на площадь выйдет мало, рота или две, то мы не должны идти туда и не должны действовать.
Рылеев смущенно кивнул головой. Трубецкой продолжал, обращаясь собственно к нему:
– Поручаю вам, Кондратий Федорович, изготовить к народу от имени сената манифест, в котором должно изложить, что государь цесаревич, а равно и великий князь Николай Павлович отказались от престола и что после такого поступка их сенат почел необходимым задержать императорскую фамилию и созвать на великий Собор народных представителей из всех сословий народа, которые должны будут решить судьбу государства. К сему следует присовокупить увещание, чтобы народ остался в покое, что имущества как государственные, так и частные остаются неприкосновенными, что для сохранения общественного устройства сенат передал исполнительную власть временному правлению, в которое назначил адмирала Мордвинова и тайного советника Сперанского и прочее, что вам известно. До свидания, господа.
Трубецкой взял шляпу и зашагал в переднюю.
Чинность и порядок исчезли вместе с диктатором.
Каховский соскочил с подоконника и подбежал к столу.
– Наше восстание должно быть примерное! – закричал он. – Мы начинаем тем, чем прочие кончились: надобно истребить всех вдруг, чтобы менее было замешательств…
Якубович предложил:
– Кинем жребий, кому на то покуситься…
Тут все зашумели – предложение Якубовича никому не понравилось.
Каховский свирепо оглядывался, и толстая губа его жалко дрожала.
– С этими филантропами ничего не сделаешь. Тут надобно резать, да и только. А если не согласятся, я пойду и сам на себя объявлю.
Бестужев занес ногу через порог рылеевского кабинета и поднял обе руки кверху. Он был похож на загулявшего человека, еще понимающего гибельность своих выходок, но уже решившего где-то в сердце: пропадай все.
– Шагай через рубикон, – воскликнул он в буйном порыве веселого восторга, – а рубикон, по-нашему, руби кон, то есть все, что попадется!..
Одоевский повторял в сладком угаре:
– Умрем! Ах, как славно мы умрем!
Штейнгель в ужасе подбежал к Рылееву и схватил его за плечо.
– Что это происходит, Кондратий Федорович?
13 декабря, в полдень, возвращаясь пешком от Торсона, Николай Александрович Бестужев встретил на Исаакиевской площади брата Александра и Батенкова, ехавших вдвоем в коляске к Рылееву. Они захватили с собой Николая Александровича и повезли на Мойку. Батенков говорил о завтрашней присяге и повторял:
– Кажется, что успех несомнителен.
– А что Сперанский? – спросили его Бестужевы.
– Михайло Михайлович почитает всякую мысль об этом бесполезною и всякое покушение невозможным; впрочем, он человек осторожный и умный, от него ничего не узнаешь.

Русские помещики за ломберным столом. Рисунок Гюстава Доре.

Петергоф. С гравюры того времени.

Выстрел Каховского. Рисунок И. Шарлеманя.

Сенатская площадь 14 октября 1825 года. С рисунка Кольмана.
Рылеева дома не было. Батенков поднялся к Прокофьеву, Александр Александрович – к себе, а Николай Александрович решил сходить в гвардейский экипаж посмотреть, как идут дела у Арбузова. Завернувшись в шинель, старший Бестужев зашагал по гололедице широких улиц к Пяти углам. Он скользил и прыгал, внимательно отыскивая посыпанные снежной крупой места. Вдруг перед ним вырос/ человек. Николай Александрович глянул – Петруша…
– Как? Откуда ты? Почему опять в Петербурге?
Петруша приехал из Кронштадта сегодня утром и, сделав это тайком от братьев – он хотел 14-го явиться прямо к делу, – не решился останавливаться на Васильевском острове и устроился у знакомых офицеров гвардейского экипажа. Николай Александрович начал было жестко выговаривать Петруше.
– Я не мог, пойми, – говорил тот, – я должен быть с вами.
Николай Александрович махнул рукой.
– Иди к матушке, – сказал он, – порадуем ее напоследок. Она кормит нынче обедом сыновей и друзей их.
Братья разошлись.
В первом часу дня на Васильевский остров начали собираться участники семейного бестужевского обеда, затеянного Прасковьей Михайловной.
В час приехал Рылеев; в половине второго уже обедали. Прасковья Михайловна смотрела радостными глазами на пятерых молодцов-сыновей, гладила их руки, нежно заглядывала в лица и говорила слова, ласковый смысл которых бывает понятен только матери и детям. Сыновья же были молчаливы, их улыбки и редкие шутки отзывались тревогой и тоской. Это был странный обед – удивительная смесь золотых снов с самыми горькими предчувствиями.
С последним блюдом Мишель поднялся: он сегодня дежурный по полку и должен объехать все караулы. Петруша тоже ушел. Рылеев заспешил на Мойку, обещая вернуться часа через два.
Но случилось так, что Кондратий Фсдорович задержался дома. Успокоив Наталью Михайловну, он уже собирался снова ехать на Васильевский, когда один за другим появились Пущин и Оболенский, потом Каховский. Рылеев позвал Каховского к себе в кабинет. Несколько минут Кондратий Федорович молчал. Среди поездок, разговоров, встреч и объяснений сегодняшнего дня ни на мгновение не мог он отделаться от беспокойства, то нудного, то пронзительного, как зубная боль. Его томила страшная мысль – что будет, если не удастся завтра стащить Николая со ступенек трона? Что будет, если не удастся его захватить? Ответ был ясен: междоусобная война. Этого не хотел Рылеев больше всего. Он мучился с самого утра в поисках такого решения, чтобы можно было избежать кровопролития, не посягая на жизнь Николая. Но такого решения не находилось – его не было. Приходилось выбирать. И сейчас Рылеев выбрал вдруг сразу, как самоубийца, твердо спускающий курок пистолета после многих лет приготовлений и страха.
Он подошел к Каховскому, обнял его и сказал:
– Любезный друг, ты сир на нашей земле, ты должен собою пожертвовать – убей завтра императора.
Каховский не успел ответить – его обнимали и целовали Рылеев, Оболенский, Пущин…
В это самое время дверь кабинета скрипнула, и вошел Александр Бестужев. Еще из передней через столовую он видел объятия и поцелуи, опущенную голову Каховского и все понял. Ему стало жаль Каховского до слез. Он тоже обнял его. Рылеев вынул из бюро кинжал и протянул Каховскому.
Надо было расходиться. Рылеев и Пущин пошли к коляске. Оболенский – за ними. В столовой рылеевской квартиры остались Бестужев и Каховский, тоже собиравшийся уходить.
– Зайдите ко мне наверх сегодня попозже, хоть поутру, – сказал ему Бестужев.
Каховский кивнул головой и вышел на серую, облитую грязными сумерками улицу.
Около девяти часов вечера у подъезда рылеевской квартиры не стояло ни одного экипажа, но передняя была завалена шубами. Рылеев попросил военных садиться за круглый стол. Бестужев сел вместе с Сутгофом, Кожевниковым, Арбузовым, Пановым, графом Коновницыным, Палицыным. Вскоре появился Мишель со Щепиным-Ростовским. За ними – Оболенский, Каховский, Михаил Кюхельбекер, Репин. Совещание, – это можно было назвать настоящим совещанием, – вел Трубецкой.
– Господа, – говорил он, – не надо принимать решительных мер, ежели не будете уверены, что солдаты вас поддержат…
Рылеев, который не садился, а ходил вокруг стола, жадно ловя слова и наблюдая за выражением лиц, сейчас же вмешался:
– Вы, князь, все берете меры умеренные, когда надо действовать решительно.
Трубецкой устало положил на стол длинные руки.
– Но что же мы сделаем, ежели на площадь выйдет мало?
Бестужев подумал: «Умрем, вот что сделаем!» – но промолчал.
Трубецкой вздохнул и сказал ротным командирам:
– Не забудьте, господа, захватить для солдат патроны.
Посыпались возражения: патроны – в ротных цейхгаузах, и для того, чтобы раздать их на руки солдатам перед присягою, не сыщешь благовидного предлога.
Бестужев не выдержал: при чем тут предлоги?
– Позвольте, а как по вас залп дадут? – заговорил он, волнуясь. – Артиллерия, слышно, взяла по три зарядных ящика на орудие…
Арбузов погрозил кулаком в угол.
– Мы и холодным оружием с ней справимся.
Мишель задал вопрос: выводить ли ему роту, если другие роты не тронутся?
Трубецкой отвечал ледяным тоном:
– Старайтесь поддержать солдат в отказе от присяги до тех пор, как услышите, что какой другой полк вышел или что прочие присягнули; в последнем случае делать нечего, а в первом, услышавши, что другой полк вышел, то и ваш, верно, выйдет.
Капитан лейб-гвардии конно-пионерного эскадрона Пущин, брат Ивана Ивановича, засмеялся:
– Это пустое предприятие, господа. Посмотрел бы я, как младший меня офицер выведет мой эскадрон, – разве через мой труп.
Рылеев горячо возразил:
– Не удастся в Петербурге, отретируемся на военные поселения и оттуда снова двинемся на Петербург.
Завязался военный спор о возможности ретирады по петербургским дефилеям. Два новых лица незаметно вошли в столовую – Корнилович и сенатский обер-прокурор Краснокутский. Корнилович закричал:
– Господа, не забудьте: сто тысяч войск ждут сигнала на юге!
Шестьдесят тысяч, известие о которых он привез с юга, уже выросли до ста.
Краснокутский густым басом покрыл крики:
– Если будет только собрано войско на Сенатской площади, я заставлю сенаторов подписать конституцию и отречение императора. А там запалим дворец, фамилию же вывезем или истребим.
Трубецкой поднялся и вдруг показался всем неимоверно высоким.
– Я согласен с Пущиным: мы не готовы, нет никаких шансов на успех.
Он по очереди тронул под локоть Пущина, Мишеля Бестужева, Арбузова, Репина и вышел с ними в кабинет. Было ясно, что кунктатор хочет умерить пыл ротных командиров.
Рылеев в бешенстве закричал:
– Да не откладывать же… Все равно, правительство ведь знает…
Тут все вскочили со своих мест, и тысяча вопросов посыпалась на Рылеева: как знает? что знает?
Кондратий Федорович не мог говорить – горло его было сжато спазмой, он указывал на сверток бумаг, лежавший на столе.
Бестужев развернул голубые листы, на первом из которых было крупно написано: «Счастливейший день моей жизни», и начал читать вслух. Это была собственноручно сделанная Ростовцовым запись его разговора с великим князем Николаем. Вчера днем, когда у Оболенского собрались офицеры по одному от каждого полка и Рылеев взял с них слово действовать, Ростовцов не выдержал – написал письмо великому князю о заговоре. С этим письмом, в котором он ручался головой за справедливость своих показаний и требовал, чтобы его посадили в крепость и не выпускали оттуда никогда, если предсказываемое кровопролитие не случится, доносчик отправился во дворец и был принят великим князем. Вернувшись домой, записал беседу с Николаем, а сегодня утром, когда Рылеев был у Оболенского, рассказал им обо всем и вручил документ. Ростовцов раскрыл заговор, но не назвал заговорщиков и умыл руки признанием перед ними. Он ставил свечу одновременно богу и сатане. Бестужев читал, и строки сочинения Ростовцова плясали в тумане у него перед глазами. Слушали молча Бестужев швырнул бумаги на диван. Трубецкой побледнел. Рылеев стоял против него такой же бледный.
– Вы видите, князь, умирать все равно: мы обречены на гибель.
Бестужев встал между ними.
– Да! По крайней мере о нас будет страничка в истории…
– Так вы за этим-то гонитесь? – со злобой спросил его Трубецкой. – Отпустите-ка меня, господа, в 4-й корпус, там, если быть чему-нибудь, то будет, а что 2-й корпус не присягнет – ручаюсь.
С этими словами диктатор взял шляпу и пошел в переднюю. Как всегда, после его ухода вдруг закипело в квартире Рылеева. Говорили все сразу.
Около полуночи появился Якубович. Увидев остервеневшего Щепина, приходящих и уходящих ходоков из полков, вдохнув воздух, полный страстей и возбуждения, он воспламенился и, высоко подбросив шляпу, взревел:
– Что рассуждать? Надобно разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабеж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и идти ко дворцу…
Оболенский пришел в восторг.
– Правильно! Якубович на опыте знает о солдате нашем…
Рылеев спорил из последних сил:
– Как! Мы подвизаемся к поступку великому… Нам ли употреблять низкие средства?..
– Уймись, Якубович, – уговаривал капитана Бестужев, – пойми, что храбрость солдата и храбрость заговорщика не одно и то же…
Но капитан не унимался. Он требовал, чтобы ему поручили идти с гвардейским экипажем во дворец и захватить императорскую фамилию, обещал Арбузову завтра утром быть у него в экипаже, с тем чтобы вести матросов к измайловцам, а оттуда во дворец, хотел поднять полк гвардейских егерей и с ним зайти в Семеновский и в Московский. Словом, он брался за все.
Рылеев подошел к Мишелю Бестужеву и Сутгофу. Мишель любовался этим человеком, то появлявшимся, то исчезавшим в океане сумасшедших порывов, которыми полон был сегодня крохотный мир заговорщического штаба. Кондратий Федорович взял Мишеля и Сутгофа за руки.
– Мир вам, люди дела, а не слова. Вы не беснуетесь, как Щепин или Якубович, но уверен, что сделаете свое дело.
Мишель изложил ему свой план на завтра. Он не хотел ждать Якубовича – его бравада и хвастливые выходки казались ему до крайности подозрительными. Он хотел вести свою роту, а если удастся, то и полк, прямо на площадь. Сутгоф – тоже.






