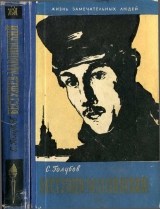
Текст книги "Бестужев-Марлинский"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
Бестужев вышел от генерала в состоянии самом сбивчивом. Выгоничи, Минск, трактиры, цукерни, адъютантство, дорога, Петербург, братья, литература – было от чего голове вскружиться…
Кончился 1821 год. Новый, 1822, застал Бестужева еще в Выгоничах, но уже собиравшегося в Петербург и довольного судьбой, которая по крайней мере не завела его в курную хату и не заставила слушать новогодние приветствия петухов. Он ждал приказа о переводе, по собственному его выражению, «как протопоп – светлого воскресенья».
ЯНВАРЬ 1822 – ДЕКАБРЬ 1822
Лишь тот достоин жизни
и свободы,
Кто каждый день за них
идет на бой!
Гёте.

Петербург встретил нового адъютанта так приветливо, как будто для пополнения армии столичных адъютантов только и не хватало именно его, Бестужева. На Васильевском острове, на 6-й линии, против Андреевского рынка, все так же пахло смолой, канатами, пенькой, Невой, а семейный кружок Бестужевых, как и в прежние времена, теснился вокруг черной вдовьей мантильи заметно постаревшей Прасковьи Михайловны.
Мишель был недавно произведен в лейтенанты и выглядел вполне взрослым человеком.
Адъютантские аксельбанты быстро раскрыли перед Александром Александровичем двери знатных и богатых домов, куда обычно молодые люди, не носящие блистательных фамильных имен, допускались только с основательным отбором. Большой свет всегда манил Бестужева, обещая его воображению множество романтических впечатлений. Теперь, наконец, он мог разглядеть чопорные и сухие лица министров, дипломатов, генерал-адъютантов, прислушаться к невежественным разговорам этих чиновных людей, которые взирают на царя со скотским благоговением злобных псов и от него одного чают блаженства. Хоть здание их жизни ветхо и качается от ветра, но они спокойны, так как понимают, что Сибирь в России начинается от Вислы. Они спокойны, ибо все в России им кажется поконченным, запакованным, сданным за пятью печатями на почту для выдачи адресату, которого заранее решено не разыскивать. Они наслаждаются существованием под одним общим для всех уровнем невозмутимого бессилия.
Болезненное чувство самолюбия, всегда несколько мучившее Бестужева, здесь было вполне удовлетворено– дважды удовлетворено. С одной стороны, получив доступ в этот позолоченный парник салонных бездельников, Бестужев поднимался в глазах людей одинакового с ним общественного положения на пьедестал светскости, для них недосягаемый. С другой, он имел все основания презирать то, к чему они стремятся, так как в превосходстве своей мысли, над светской пустотой ему сомневаться не приходилось. Как и всегда, достигнутое казалось ему жалким, и это придавало весело-саркастический характер его шуткам.
В гостиных шепотом и с оглядкой говорили о событии необыкновенной важности: цесаревич Константин Павлович окончательно и бесповоротно отрекся от русского трона. Рассказывали о письме его к императору, об ответном письме императора, но подробности никому не были известны, так как все дело велось в покоях императрицы-матери строго фамильным порядком. Утверждали, что именно для решения этого вопроса и съехалась в Петербург почти вся императорская семья, даже великая герцогиня Саксен-Веймарская Мария Павловна прибыла из-за границы.
О молодом великом князе Николае, который должен был стать наследником престола, если Константин действительно отрекся, ходили дурные слухи. В армии его ненавидели за неумолимую строгость, придирчивость и фанатическое пристрастие к мелочам. Будучи жесток, как Павел, он был злопамятен, как Александр. Но самое скверное заключалось в том, что пустяки вызывали великокняжеский гнев и пустяками же снискивалось великокняжеское расположение.
По темной винтовой лестнице Зимнего дворца уже несколько раз поднимался прямо в кабинет Александра монах в рыжих козловых сапогах, в залатанной рясе, с хмурым лицом, на котором щека щеку ест, с огненным взглядом маниака. Этот человек умел говорить непонятные и страшные вещи. Тонкие синие губы архимандрита Фотия даже простое приветствие произносили с каким-то свирепым намеком на анафему. Первым следствием этих секретных свиданий был указ от 1 августа, которым запрещались все тайные общества, под какими бы названиями они ни существовали. Все военные и гражданские чины должны были дать подписку в том, что они в тайных обществах не состоят и состоять не будут. Петербург стал походить на муравейник трудолюбивых шпионов, четыре полиции ретиво работали, охраняя порядок в столице: полиция министерства внутренних дел, генерал-губернаторская, графа Аракчеева и, наконец, военная агентура гвардейского корпуса. В банях, в мелочных лавочках, на гуляньях, в театрах, на балах и в университете – везде кишело шпионами. Многие из этих «деятелей» носили камергерские мундиры и служили за честь, а не из благодарности.
Удивительно, что все усилия бесчисленных шпионов оказались напрасными, когда понадобилось обнаружить автора рукописной статьи, вдруг разбежавшейся по всему городу в сотнях списков. Статья эта едко, зло и правдиво излагала историю возмущения семеновцев в 1820 году. Булгарин сообщил Бестужеву под страшной клятвой молчания, что писал ее Рылеев, которого он называл своим истинным другом, Конрадом и Рылеусом. Бестужев потребовал, чтобы Булгарин свел его с Рылеевым, и знакомство, вероятно, давно бы уже состоялось, если бы не рассеянная жизнь Александра Александровича, кочевавшего в продолжение всей весны с бала на бал.
Адъютантство при графе Комаровском нравилось Бестужеву. Но скользкие насмешечки Греча, находившего, что войска внутренней стражи – пятая по счету полиция в России и что Бестужев, как ни кинь, служит в полиции, отравляли удовольствие, которое может приносить беспечному молодому человеку прекрасное служебное положение почти без всяких обязанностей. Светские связи и отношения легко вывели Бестужева из затруднения. 5 мая в приказе по гвардейскому корпусу было объявлено о его переводе на должность адъютанта к главноуправляющему путями сообщения в империи генерал-лейтенанту Бетанкуру с оставлением в списках лейб-гвардии драгунского полка.
Потомок средневековых южнофранцузских «сиров», уроженец Тенерифского пика, небезызвестный испанский инженер, Бетанкур был вывезен из Мадрида русским посланником И. М. Муравьевым-Апостолом, отцом старых знакомцев Бестужева, бывших семеновцев – Сергея и Матвея Ивановичей. Возможно, что именно Матвей Муравьев-Апостол, проживавший весной в Петербурге, и сыграл роль внутренней пружины в истории перевода Бестужева. Бетанкур оказался вспыльчивым, добрым и веселым человеком, носил на голове целую копну серебряных кудрей, поражал густо-малиновым цветом лица и огромным носом и ни слова не знал по-русски. Он был превосходным архитектором, недурным механиком и вообще глубоким знатоком того, что называлось «искусственной частью» в промышленности. В России, где многие сановники считали для себя унизительным заботиться о промышленности, полагая, что и в Европе никто не занимается этим прозаическим и вульгарным делом, Бетанкур был живым опровержением дикого взгляда. В обществе на него смотрели косо – он прибыл из страны, где с утра до вечера расхаживают по улицам с венками и распевают гимны свободе. Министры, посещавшие Бетанкура по служебным делам, часто находили его в кабинете, но не за бюро, а за верстаком, с засученными рукавами белоснежной рубашки. Хорош главноуправляющий путями сообщения! В Бетанкуре было что-то новое, свежее и глубоко непонятное для мумифицированных русских сановников, такое, от чего они шарахались в сторону. Но император его ценил, поддерживал огромным жалованьем и ливнем орденских наград – кредит Бетанкура при дворе был высок.
Явившись к своему новому шефу, Бестужев был сразу очарован. Молодой, ловкий, смелый и находчивый адъютант, говоривший по-французски не хуже предков Бетанкура, также понравился генералу. Последнее обстоятельство скоро сказалось на службе: Бетанкур непрерывно гонял своих адъютантов по России, но Бестужева держал при себе, заставляя дежурить почти ежедневно.
В семье генерала Бестужев был принят почти родственно. Он бегал по комнатам вперегонки с пятнадцатилетним Альфонсом, слушал игру на арфе хорошенькой Матильды, рисовал карикатуры с Каролиной, брал уроки фанданго у Аделины и вместе с генеральшей – она была англичанка – читал по воскресным дням «Потерянный рай» Мильтона. Жар раскаленного неба, под которым родился Бетанкур, пылал в крови его дочерей. Бестужев был влюбчив. Арфа и длинные нежные пальцы Матильды, ее низкий розовый лоб, сверкающий под завитками синева-то-черных волос, глаза, полные темного огня, сделали свое дело. Бестужев ходил в тумане, слушал и не слышал, глядел и не мог наглядеться.
Было лето, знойное и яркое, совсем не петербургское лето. Бестужев вышел в сад – так назывался унылый палисадник позади огромного дома, где помещалось Главное управление путей сообщения и жили Бетанкуры. На скамейке сидела Матильда. Она смотрела на солнце, лежавшее на далеких крышах и обливавшее город брызгами красного света, но видела только поручика. Он подошел, звеня саблей: «Теперь или никогда!» Тонкие пальцы Матильды тревожно мяли платочек. «Теперь!» Бестужев заговорил и сказал все. Матильда ничего не ответила – Альфонс уже бежал к скамейке по желтой дорожке. Сестра обняла его голову и поцеловала взволнованно и страстно. Бестужев понял: поцелуй предназначался ему. На следующий день они объяснились окончательно.
Когда Бестужев, выбрав минуту, подошел к генералу, что-то обтачивавшему на станке, и сказал ему о своей любви, просто, без предисловий, в коротких и сильных словах, Бетанкур побагровел. Он грозно ударил ногой по станку, откатившемуся в угол, и живо накинул мундир, бренчавший алмазными крестами. Потом молча отошел к столу и закурил сигару, сел в кресло, обмахивая лицо огромным чертежом. Наконец расхохотался так могуче и весело, что итальянское окно отозвалось тонким дребезжанием.
– Жених! – воскликнул генерал, перебрасывая свое железное тело из угла в угол в кресле, похожем на трон. – Невеста! Бестужев и дочь моя Матильда любят друг друга! Ха-ха-ха!
Бестужев стоял посреди кабинета в немом оцепенении. Этого он не ожидал.
Генерал еще долго продолжал всхлипывать приговаривая:
– Жених! Ха-ха-ха! C’est bon pour le dragon [17]17
Это по-драгунски (французская поговорка).
[Закрыть]. Xa-xa-xa!
Причина отказа осталась невыясненной. Не спрашивать же было о ней у человека, которому пропозиция Бестужева показалась такой уморительной! Александр Александрович был взбешен оборотом дела и хотел тотчас же представить генералу рапорт с просьбой об увольнении. Но удержался, опасаясь, что это еще больше рассмешит Бетанкура. Думал сказаться больным – глупо. Перестал было показываться в доме генерала по вечерам – генеральша вызывала его записками. Матильда была бледнее обычного, почти не вставала из-за арфы, а в остальном обращение ее с Бестужевым было таким же, как и до происшествия. И удивительное дело: Бестужев смотрел теперь на ее низкий лоб и тонкие пальцы, червяками скользившие по струнам арфы, и не испытывал решительно ничего похожего на недавнее волнение страсти. Любовь была убита смехом.

Прасковья Михайловна Бестужева. Литография.

Дворцовый мост и набережная Васильевского острова в 1806 году. С акварели того времени.

Вид Казанского собора. 1821 год.
Бестужев часто посещал заседания Вольного общества любителей российской словесности, в члены которого был избран еще в 1820 году. С прошлого года в состав общества входил и брат Николай Александрович, занимательно описавший в «Записках о Голландии» одно из своих морских путешествий. На заседаниях братья встречались как старые друзья и единомышленники. Председателем общества был полковник Ф. Н. Глинка, адъютант генерал-губернатора Милорадовича, маленький, щуплый, с большой головой, на слабых и тонких ногах. Это тот самый Глинка, который два года назад, прочитав пушкинского «Руслана», не убоялся в послании к опальному поэту прокричать на весь свет об его гениальности. Признавать Пушкина гением за эти два года привыкли многие, но Глинка был первым, кто открыто сделал это в печати. Маленького полковника в случаях его отсутствия замещал на председательском кресле Греч. Почетным членом общества считался ученый хромец Николай Тургенев. Что касается Бестужева, он исполнял обязанности цензора поэзии и библиографии.
В мае на заседании общества Бестужев познакомился, наконец, с Рылеевым. В литературных кругах много говорили о постоянно появлявшихся в различных журналах исторических «Думах» Рылеева. Это были разнообразные картинки русского прошлого, написанные с подъемом и силой. Характеры героев были возвышенны и исполнены гражданских и личных добродетелей, пороки злодеев беспощадно казнились. Автор пробивал «новую тропу в русском стихотворстве, избрав целью возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Так думал Бестужев, читая рылеевские «Думы», но и Греч находил их «умными, благородными и живыми», а Булгарин превозносил до небес «народность и благородные чувствования», в них заключенные. Рылеев задумчиво принимал горячие похвалы.
По чрезвычайной своей скромности и несветскости Рылеев с первого взгляда казался вовсе обыденным человеком. Но стоило поговорить с ним немного, чтобы увидеть, что это не так. Небольшой ростом, с быстрыми глазами, из которых глядела мысль, с волосами черными и чуть завитыми природой, он, разговаривая, вдруг становился выше, ярче, словно раздавалось в стороны его хрупкое тело, и дух светлел в лице. Говоря о литературе, он походил на прозрачную гипсовую вазу, снаружи которой нет никаких украшений, но, как только запылает в ней огонь, прекрасные изображения, изваянные внутри хитрой рукой художника, вдруг обнаруживаются сами собой. Бестужев любовался этим человеком.
С заседания они пошли вместе. Солнце уже закатилось, но Нева и ее низкие берега еще пламенели в дрожащем блеске зарева, и город казался ушедшим в мечтательный сон, полный воспоминаний и надежд. На всем лежал в этот вечерний час отпечаток возвышенной печали.
Они долго ходили по Васильевской набережной, доказывая друг другу, что нет и не может быть благоденствия в стране, где из шестидесяти миллионов народа невозможно набрать восьми дельных и честных министров.
– Пока первым министром в России состоит Николай-чудотворец, правительство может спать, пуская слюни пузырями.
Сказав это, Бестужев рассмеялся.
– Вы все шутите, – тихо выговорил Рылеев, – а я серьезно спрашиваю: что делать?
Греч праздновал десятилетие «Сына отечества». Гостей было много, больше сотни, и половина состояла из литераторов. Сын Греча Алексей, служивший в министерстве иностранных дел, чтобы не заниматься никакими делами, встречал гостей. Дочь Софья Николаевна, молоденькая и хорошенькая, приседала с таким видом, как будто в груди у нее—. хрустальный сосуд, который при всяком резком движении может разбиться. Сам Греч, в вицмундире, при орденах, прямой как палка, ходил между группами гостей, прислушиваясь к разговорам, и гулко чмыхал носом, прежде чем сказать что-нибудь острое. Греч был доволен тем, что еще в начале года разделался с опасным Воейковым и праздновал юбилей своего «Сына» без компаньонов. Черная венгерка Булгарина сновала по зале, и грубый, прерывистый голос ее хозяина слышался в разных углах. Булгарин недавно добился разрешения издавать журнал и уже выпускал в свет тощие книжечки «Северного архива» с историческими и статистическими статьями и описаниями путешествий. У Греча он залучал к себе сотрудников.
Слуги зажигали свечи в канделябрах, гости рассаживались вокруг стола, развернутого огромным «покоем», вилки звенели, пробки хлопали, тосты лились широкой рекой восхвалений. После обеда Рылеев долго разговаривал с Николаем Тургеневым. Греч подошел к Бестужеву.
– Как ты думаешь, любезный Александр, о чем могут толковать геттингенский аристократ и бедный российский цвибель через пять минут после того, как они познакомились?
– Какой цвибель? – не понял Бестужев.
Греч расхохотался.
– Я так зову этого маленького кадета, который даже и по-французски говорить не умеет. Однако талантлив, да и хребтом умеет брать, а ты просто талантлив, любезный Саша…
– Jeder ist seines Glückes Schmidt[18]18
Каждый – кузнец своего счастья (немецкая пословица).
[Закрыть], – отвечал Бестужев весело.
– А все-таки я уверен, что они толкуют о новом журнале, – вдруг рассердился Греч, – вот и вертись. Булгарин вылез в люди. Теперь эти два дурня… И верно: только журнал даст то, к чему, может быть, не надобно особенно стремиться, но на пути к чему не следует делать и промахов.
Греч отошел. «Журнал дает деньги и популярность, – подумал Бестужев, – но не только это, Николай Иваныч!»
В последнее время Рылеев и Бестужев часто вместе хаживали по вечерам с заседаний Вольного общества. Постоянной темой их дружеских бесед был вопрос о том, как можно направить к высшей, практической цели знания, труд и способности людей, им подобных. В России, где правительство использует все административные достижения европейских государств, чтобы управлять своим собственным на чисто азиатский лад, вопрос этот был мудреной задачей.
После разговора с Гречем Бестужеву показалось, что он решил эту задачу для себя и Рылеева. Они, по обычаю, вышли от Греча вместе.
– Слушайте, Рылеев, – спросил Бестужев, – о чем вы так долго говорили с Николаем Иванычем Тургеневым?
– Он рассказывал мне о записке, которую подал адмиралу Мордвинову. В записке Тургенев доказывает, что только гласность судопроизводства, отделение части судной от правительственной, устройство судов с адвокатами и стряпчими – только одно это может спасти Россию от чиновничьего произвола. Он прав, но и я прав, когда думаю, что Мордвинов не дочитает записки до конца. Удивительное дело: мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости.
Бестужев снял кивер и глубоко вздохнул. Его карие глаза сияли радостным блеском, и крепкие красные губы вздрагивали от нетерпения. Рылеев был чуток и впечатлителен. Он понял, что Бестужев хочет сказать что-то важное.
– Ну, говорите же, говорите…
Александр Александрович передал ему свой разговор с Гречем. Деньги и популярность – прекрасные вещи. Но журнал еще тем хорош, что дает возможность высказывать истину. Журнал поднять трудно, пусть не журнал, а альманах, по почему бы Рылееву и Бестужеву не заняться, в самом деле, изданием альманаха?
Рылеев слушал и молчал. Потом вдруг воскликнул:
– Согласен! И хотите знать, как будет называться наш альманах? Смотрите, Бестужев!
Рылеев показал правой рукой в небо. Его шинель сползла с плеча и тащилась длинным хвостом по пыльному граниту.
– Видите?
Бестужев посмотрел по направлению его вытянутого, казавшегося неправдоподобно длинным пальца. Над золоченым шпилем Петропавловской крепости тонким зеленым огнем искрилась переливчатая звезда.
Рождался альманах «Полярная звезда». Литературное болото Петербурга колыхалось и шипело. Первым прослышал Булгарин и прибежал на Васильевский остров к Рылееву, где случилось в это самое время быть и Бестужеву. Ворвавшись в маленький домик на 16-й линии, отставной капитан французских войск наполнил шумом и криками все четыре комнаты рылеевской квартиры. Стуча в грудь и по столу огромным кулаком, Булгарин требовал объяснений.
– Ты пустишь меня по миру, – бросался он на Бестужева, – оставишь без копейки. Вот дружба! Ах, проклятое человечество! Что же скажет теперь моя Ленхен? Что я скажу ей, когда карманы мои пусты?
И он выворачивал карманы венгерки, из которых сыпались империалы и ассигнации. Ленхен звалась его любовница – розовая, синеглазая, полногрудая немочка, жившая у него в доме со своей сварливой теткой. Приятели Булгарина звали ее тантой.
Фаддей Венедиктович лежал в кресле, изнеможенный, и, слабо помахивая толстой рукой, дышал как висельник, только что вынутый из петли.
Бестужев и Рылеев хотели, чтобы альманах «Полярная звезда» был не только литературным предприятием, но в известном смысле и коммерческим. Он должен был давать достаточное вознаграждение литераторам, которые будут в нем участвовать, принося, конечно, вместе с тем некоторую выгоду и своим издателям. Это было необыкновенно. Возникало даже сомнение: пожелают ли будущие участники «Звезды» писать не для славы, но и для денег? Многие писатели были богаты и, занимаясь искусством, считали унизительным «трудиться из платы». Вопрос о гонораре был серьезным вопросом, который никогда до сих пор не поднимался. Самый характер издания был нов и свеж в России. В Германии и Англии литературные календари и альманахи выходили во множестве к каждому новому году. Россия же вовсе не знала альманахов, если не считать «Аонид» Карамзина, появившихся, впрочем, еще в XVIII столетии.
Бестужев и Рылеев были заняты по горло. Вместе и по отдельности они ездили к Жуковскому, барону Дельвигу, Гнедичу, прося стихов и прозы для своего издания и осторожно намекая на гонорар. Однако опасения их оказались напрасными, мысль о плате никого не смутила, а многим понравилась. Все обещали дать кое-что. Бестужев написал в Москву князю Вяземскому и Денису Давыдову. Знаменитый партизан отвечал по-кавалерийски:
«Гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятий, и потому стыдно мне было бы отказаться от вашего предложения».
Обещал выслать четыре «пиесы».
Написал Бестужев и Пушкину в Кишинев. Ответ пришел без замедления, помеченный 21 июня. «Бес арабский» прилагал к письму свои «бессарабские бредни»: «Мечту воина», стихотворения «К Овидию», «Гречанке» и элегию «Увы! зачем она блистает…». Просил кланяться его старинной приятельнице – цензуре, благодарил незнакомого еще Рылеева за приписку к бестужевскому письму и обнимал обоих.
Бестужев сочинял для альманаха большую критическую статью. Довольно! Он больше не будет учить своих читателей, как надо определять удельный вес краденых мыслей в любом из новейших сочинений; не станет он больше выдумывать машин для изготовления общих мест к историческим романам, калейдоскопа для составления разных стихотворных размеров – все эти шуточные вылазки, которые так нравились читателям, должны прекратиться. Бестужев хотел выступить с серьезным обзором всей русской литературы и просиживал над статьей долгие часы непогодливых осенних ночей.
В октябре Петербург был взволнован двумя событиями, неожиданными и странными:. по повелению императора, заседавшего на конгрессе в Вероне, один за другим были высланы из столицы вице-президент Академии художеств Лабзин и старинный литературный антагонист Бестужева – Катенин. Первый – за то, что предложил на заседании академического совета избрать в почетные члены академии вместо графа Аракчеева лицо, не менее близкое к особе государя, – царского кучера Илью Байкова. Второй – за свистки в театре по адресу трагической актрисы Семеновой, талант которой высоко ценился императором.
Бестужев сердечно жалел Катенина и возмущался по обыкновению громче всех. Рылеев также пылал гневом. В эти дни взволнованных мыслей и буйных слов приятели сошлись у Рылеева.
– Стой! – закричал Кондратий Федорович. – Да почему бы нам с тобой не пустить и в народ что-нибудь против деспотизма? Говоря друг с другом, мы кусаем деспота, как блохи, а когда заговорят Охта и Кронштадт, дело другое…
Бестужев подхватил:
– Верно. Катенин переводил с французского – это для нас. Мы же напишем народным языком, чтобы пронеслось между солдатами. Например, в роде подблюдных песен. Пишем песню, Конрад!
Друзья – на диване, чернильница – посередине, перья – в руках; строчка за строчкой выливаются на бумагу; Бестужев начинал, Рылеев продолжал. К вечеру была готова песня:
Ах, тошно мне
И в родной стороне!
Все в неволе,
В тяжкой доле…
Видно, век так вековать…
Скоро сочинение подблюдных песен стало любимым занятием Бестужева и Рылеева. Булгарин, довольный ходом дел в своем «Северном архиве», устроил ужин с шампанским. Сошлось человек пятнадцать. Было весело и шумно. Розовая Ленхен, сладко поглядывая на Бестужева, просила стихов. Читали стихи. Кто-то крикнул:
– К лешему стихи! А ну-ка…
Живо сбился в углу хор. Десяток голосов, освеженных морозным «Аи», вынес высоко вверх:
Одни пели, другие смеялись, и только бледный Булгарин постоянно выбегал в соседнюю комнату и выглядывал из форточки на улицу – квартира была в первом этаже.
– Ты что? – спросил его Греч. – Живот болит?
Булгарин побледнел еще больше и зашептал:
– Слежу, не взобрался ли на балкон квартальный, чтобы подслушать…
И снова убежал. Ленхен смеялась и пила из бестужевского фужера. Танта вязала чулок, строго поглядывая на племянницу поверх оловянных очков. Бестужев неприметно обнял девушку. Хор гремел:
Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты;
Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей
Танты…







