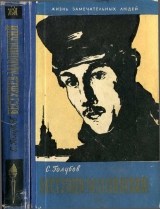
Текст книги "Бестужев-Марлинский"
Автор книги: Сергей Голубов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
ЯНВАРЬ 1819 – ДЕКАБРЬ 1819
И случай, преклоняя темя,
Держал мне золотое стремя.
А. Бестужев.

Провал «Зимцерлы» не обескуражил Бестужева. Это было одно из тех затруднений, которые, по свойствам бестужевского характера, волной поднимали его кипучую энергию. Ему хотелось многое сказать о русской литературе. Он был недоволен ходом ее развития. Творчество Карамзина и Жуковского представлялось ему беспринципным, бессильным, лишенным самобытности. В Бестужеве созревал протест против литературных авторитетов. Но недостаткам их творчества надо было противопоставить положительное мнение об истинных задачах литературы. Бестужев принялся усиленно читать иностранных критиков и размышлять. Разрозненные мысли постепенно складывались в цельный взгляд.
Литература должна служить целям общественного развития, улучшая нравственную природу читателей. Для этого нравственного улучшения общества литература располагает могучим средством, прививая читателю вкус ко всему изящному. Создание этого вкуса, его очищение – прямое дело государственной важности. То, что физически прекрасно, отражается прекрасными явлениями и в нравственной жизни людей. Разум, вкус, моральные чувства – разные стороны прекрасного, и из них вкус – источник чистейших нравственных удовольствий. Поэзия и музыка исправляют людей. «Безнравственность может написать прекрасную статью об электричества, о хозяйстве, но поэма, высокий роман и история личин не знают», по крайней мере не должны знать.
Связав все эти разрозненные мысли в одно целое, Бестужев почувствовал себя во всеоружии. Это было именно то, чего ему не хватало: положительный взгляд на вещи, твердая позиция и арсенал аргументов. Интуиция оделась в броню понимания. Бестужев полагал себя в силе разъяснить литературе ее задачу. Для этого надо было выступить в роли критика, гак как «критика – краеугольный камень литературы».
В театре было душно. Давали трагедию Расина «Эсфирь» в стихотворном переводе Катенина. Сам Катенин – маленький, круглолицый и розовый полковник лейб-гвардии Преображенского полка – сидел в первом ряду кресел и кипел, как кофейник на огне. В антрактах возле него собирались друзья и, пожимая руку знаменитого переводчика, почтительно слушали его бойкие речи. Катенин был умен и начитан, знал и понимал театр, наизусть декламировал Эсхила, Софокла, Эврипида, Корнеля, Расина и любил говорить. Он подавлял собеседников тяжестью своих тирад и в вопросах драматургии считался чем-то вроде диктатора. Бестужев прошел мимо горячившегося полковника.
«Вот с кого я начну!» – подумал он и громко сказал Клюпфелю:
– Надо постегать этого литературного диктатора Катенина. Мочи нет быть с ним вместе в театре. Погляди, как судит и рядит, хоть вон беги…
Несколько дней после этого спектакля Бестужев не выходил из своего домика в Марли. Товарищи заглядывали: «Пишет», – и, махнув рукой, уходили. Эскадронный командир смотрел сквозь пальцы на вечное отсутствие Бестужева в манеже и при разводах. «Пишет!» В полку гордились тем, что прапорщик Бестужев – сочинитель. Это ставило его над строевыми буднями полковой жизни. «Пишет!..» Действительно, он писал для «Сына отечества» критический разбор катенинского перевода «Эсфири». Поставив последнюю точку и даже не перечитав написанного, радостный и возбужденный, Бестужев помчался в Петербург.
Статья разорвалась в Гречевом кабинете, подобно конгревовой ракете. Александр Александрович прочитал ее громко и выразительно. Его темные глаза пылали. В длинной комнате с канареечным садком у окна и сверкающим полом было тихо. Варвара Даниловна застыла в принужденной позе изумления. Сестра хозяина, Катерина Ивановна, – старая дева с малиновым лицом и белыми как лен бровями – уронила в растерянности из прически старомодный гребень, да так и не подняла его, раскрыв рот с черными, как обгорелый частокол, зубами. Сам Греч, в серой китайчатой курточке с карманами, поднял очки на лоб и забыл их там. Вот так критика!
Бестужев открыл статью кропотливым сличением отдельных мест перевода с оригиналом. Затем объявил, что фрагментов, сохранивших красоту подлинника, он насчитывает во всем переводе только десять, приводя в качестве примера:
Пучины бурные разгневанных морей
Не так опасны нам, как лживый двор царей.
Все остальное объявлялось сцеплением «непростительных ошибок против вкуса, смысла, а чаще всего против языка, не говоря уж о требованиях поэзии и гармонии». В доказательствах критик не имел недостатка: «таинственное наречие» переводчика давало для них богатый материал.
«Прилежный слух вперил сих повестей во чтенье…»
– Что это такое? – гневно восклицал Бестужев. – Поэтому, когда у слуха и зрения одинаковые свойства, можно сказать: развесил глаза? Признаюсь, услышав на сцене слова сии, я зажмурил уши. Кто не скажет, прочитавши нашу Эсфирь, что она есть пародия Эсфири Расиновой?
Особенно крепок был конец статьи:
«Не обязавшись перепечатывать Эсфирь снова, оканчиваю замечания сии, хотя они могли бы быть бесконечны. Особы, желающие увериться в истине их, могут получить подлинник перевода Эсфири у театральных дверей за сходную цену, с полною коллекцией его красот и недостатков».
Греч вскочил с «Вольтера».
– Ну, брат Александр, ты распоясался. Таких критик у нас еще никто не писал отроду. Да знаешь ли ты, что такое Катенин? Он живет в Преображенском полку на Миллионной, возле дворца, и ежедневно видит государя, когда тот с утренней прогулки заходит в казармы. А ты его рылом в песок, в песок… Что же мне теперь с тобой, драгун, делать? А разбор хорош, справедлив, и шуму будет много, ежели напечатать…
Греч прошелся по комнате.
– Вы хозяин, – скромно сказал Бестужев, – решайте. Только думается мне, что отечеству нужны не катенинские переводы, а «Сыну отечества» – не слюнявые критики отпетых пустозвонов. Да подсчитайте, чего будет стоить шум!..
Но Греч уже все подсчитал.
– Беру! – крикнул он и, быстро подойдя к люку, ведущему в типографию, скомандовал, как капитан на корабле: – Иогансон, несите сюда корректуру третьего номера – будем делать замену.
Статья Бестужева в «Сыне отечества» имела успех небывалый, поразительный. Читая эту статью, все, кто видел «Эсфирь» на сцене и восхищался фанфарной громкостью неуклюжих катенинских стихов, протирали глаза. Перелистывая статью, они как бы вновь смотрели трагедию, и она слышалась им совсем по-другому. Удивлялись, как эти явные недостатки перевода не были никем замечены раньше, как мог Катенин их допустить. Многие утверждали уже, что только Катенин и мог допустить их. Враги литературного диктатора торжествовали. Друзья наезжали к нему в Преображенские казармы с пошлыми фразами сочувствия. Катенин в несколько дней побледнел и осунулся. Рассказывали, что старик Расин является к полковнику по ночам и грозит ему иссохшим перстом. Все спрашивали:
– Позвольте, но кто же это – Александр Бестужев?
Пожимали плечами. До Петергофа домчался слух, что Катенин уже шлет секундантов к Бестужеву. Клюпфель и Пенхержевский явились в Марли, предлагая Александру услуги на случай поединка. Буря перенеслась в журналы. Чернильные брызги разлетелись по салонам. «Мамаево побоище» кипело. Бестужев становился литературной известностью. Каждые сутки прибавляли к этой известности что-нибудь новое. Говорили, что он красавец собой, завзятый дуэлянт, молод, но заборист необыкновенно; одни передавали за верное, что он богат и печатает только для славы, другие – что он проиграл в штосс пять деревень и решил поправить дела на литературе. От всех этих рассказов и пересказов на Бестужева падала зарница если не славы, то модной известности, несомненно. Почта начала заносить в Марли душистые записочки и пригласительные билеты на семейные торжества и бальные вечера. Бестужев поспевал везде. Издатели просили статей, повестей, стихов и, когда Бестужев скромно замечал, что он только критик, твердили:
– Помилуйте-с, с вашим талантом…
Вальсируя на именинном балу в доме какого-нибудь действительного статского советника, Бестужев обдумывал, в какой журнал и что именно написать. Всех настойчивее был Греч. Он потирал руки от удовольствия, предвидя после нескольких бестужевских статей, подобных прогремевшей, неизбежное увеличение числа подписчиков «Сына отечества». В его кабинете было решено, что следующий выстрел Бестужев направит в Шаховского.
За кулисами театра, в репертуарном комитете, в театральной школе толстый, суетливый, брызгающий слюной в собеседников, шумно-бестолковый князь Шаховской был все. Он выпускал актрис на сцену и выдавал их замуж, одобрял и браковал комедии, испытывал дарования, упразднял бесталанных и вместе с тем наводнял репертуар своими собственными произведениями. Он строчил комедии и водевили с лихорадочной торопливостью, подгоняемый дорогими капризами актрисы Ежовой, с которой был в связи. Его комедия «Урок кокеткам» (или «Липецкие воды») шла на петербургской сцене с громадным успехом. Все в этой комедии нравилось неизбалованной публике: и чисто русские характеры персонажей, и легкий стих, и вкрапленные в пьесу воспоминания о славных войнах 1812–1814 годов. Театр дрожал от смеха, когда бледной тенью выходил на сцену влюбленный поэт Фиалкин – в его вздохах и слезливых сантиментах публика узнавала приторного Жуковского. Каждое представление «Липецких вод» было триумфом автора и актеров. По всем этим причинам Греч и полагал, что именно сюда следует направить критический выпад Бестужева.
Сам критик, готовясь выступить против всемогущего Шаховского, хотел сразу сделать два дела: свалить назойливый авторитет и поднять в публике чувство вкуса к подлинно изящному. «Липецкие воды» никак не могли служить нравственным целям, которые Бестужев ставил перед искусством.
Статья была написана с жаром.
«К счастью, театральный репертуар не есть книга бессмертия», – язвительно замечал для начала Бестужев и, пускаясь в разбор комедии, находил в ней множество грубейших ошибок против законов драматургии.
«Первые три действия проходят в рассказах, обниманиях и пересудах между родственниками, в кокетстве графини и перебранке ее любовников». Только в предпоследнем действии происходит нечто, похожее на завязку. Характеры главных персонажей не разработаны и выражаются не столько в действиях, сколько в аттестациях, которые даются им со стороны третьих лиц. Язык персонажей не выдержан. Графиня говорит то языком прихожей, то как доктор философии. Князь Холмский – резонер без резонов. Угаров – лицо ненужное и ненатуральное. Фиалкин…
Фиалкин – это Жуковский, которого сильно не любил Бестужев. Но Фиалкин – просто смешон, а Жуковский – опасен для русской литературы, тем более опасен, что очень талантлив, и бороться с ним надо не пошлой комедийной стряпней.
«Наше мнение следующее: комедия «Урок кокеткам» есть вместе и урок драматическим писателям… и вообще принадлежит к числу пиэс, которые знаменитый Попе называл барабанными», – так кончалась статья.
«Драгунская» критика «Липецких вод» появилась в февральской книжке «Сына отечества» и снова подняла на ноги литературных бойцов. Имя Бестужева опять было у всех на устах, и маленькая слава бежала перед ним, расчищая путь. Греч радовался за отечество и «Сына», а Бестужев ежедневно скакал из Петергофа в Петербург и назад в надвинутой на лоб фуражке с кисточкой, как носили тогда гвардейские франты.
Два года назад, в торжественные дни юбилея реформации и Лейпцигской битвы, немецкие студенты и профессора собрались в Вартбурге и говорили горячие патриотические речи в духе «самого крайнего» либерализма. После речей разложили костер. В пламя полетели волюмы сочинений, напоминавших либералам горькое время наполеоновского самоуправства в Германии. Кто-то крикнул:
– А Коцебу?
И огненный столб взвился над грудой печатных произведений Августа Коцебу.
Коцебу состоял в Германии политическим агентом России и сражался с немецкими либералистами на страницах «Литературного еженедельника», к которому особенно благоволил Меттерних. Этого было достаточно для ненависти и презрения к нему со стороны молодого немецкого общества. Когда же одно из шпионских донесений Коцебу попало в печать, гнев вылился через края чаши терпения. И кинжал восторженного студента обрезал нить подлых дней Августа
Коцебу. Занд был казнен как убийца, но платки, омоченные в его священной крови, хранились как реликвии у бурно бьющихся студенческих сердец.
Убийство Коцебу вдруг поставило русское правительство лицом к лицу с европейским либерализмом. Либералы Европы, оглушаемые до сей поры треском речей императора Александра, услышали голос императорского шпиона, продающего венчанному обманщику славу и честь своей родины. С русского императора и его министров упали покровы привычного политического обмана, и конец маскарада произошел на глазах всей Европы. Стыд приходит в таких случаях уже после ярости.
Удар Занда пришелся по Коцебу, больно задел императора Александра и благодетельно отозвался на русских либералах. Кинжал немецкого студента вырыл пропасть между Александром и европейским либерализмом, приблизил вплотную к последнему русских либералов и окончательно разлучил их с царем. Александр открыто пошел назад: дальше обманывать было некого и незачем. Русские либералы ринулись вперед – верить Александру дальше было бы нелепо и смешно.
Только слепые могли не видеть, как резко переменился Александр. Хромой Тургенев писал 26 июня 1819 года брату:
«Тот, которым восхищалась Европа и который был для России некогда надеждой, – как он переменился!.. Теперь нельзя ничего предвидеть хорошего для России».
Местом, где было сосредоточено все откровенное и прямое, что говорилось в Петербурге по адресу императора и правительства, где переваривались все свежие европейские новости, был дом Е. Ф. Муравьевой, урожденной баронессы Колокольцовой. Александр Бестужев любил бывать в муравьевском дворце на Фонтанке. Ему нравился дух этой семьи, аристократической по имени и положению в обществе, но вместе с тем совершенно свободной от узости чисто аристократических интересов. Отец хозяйки дома, старый барон Колокольцов, давно уже умер, но тень его как бы еще жила на Фонтанке. Он был крупнейшим землевладельцем, откупщиком, акционером Российско-Американской компании, энергичным, предприимчивым дельцом и одновременно сенатором – государственным сановником подвижной, чисто английской складки. Практических наклонностей старый барон не передал своим наследникам, но его глубокая симпатия к деловым взглядам на жизнь и ее задачи, к новым формам общественных отношений и к новым приемам хозяйственной деятельности продолжала жить среди них.
Старший из сыновей Екатерины Федоровны, Никита, был поручиком гвардейского генерального штаба. С увлечением копаясь в огромной дедовской библиотеке со стеклянным куполом, он сочинял острые замечания на «Историю» Карамзина. Часто случалось, что в библиотеке собирались его личные гости, молодые гвардейские офицеры, и тогда вход в эту комнату для всех прочих бывал решительно закрыт.
Не только Бестужеву нравился этот необыкновенный дом. У Муравьевых постоянно появлялись и обритый после болезни Пушкин; и знаменитый Карамзин, высокий и статный, с развевающимися на ходу жидкими волосами; и директор департамента духовных дел в министерстве просвещения, веселый афей[8]8
Атеист.
[Закрыть] Александр Иванович Тургенев.
Был в Петербурге еще один дом, где Бестужев часто встречался с Пушкиным, – у Олениных. Президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин – щупленький, крохотный человечек в выцветшем ополченском мундире 1812 года, с огромным носом и гигантскими сведениями из всех областей искусства – любил артистические разговоры, споры о литературе, толки о политических новостях. За гастрономическими обедами в доме Олениных объедался хитрый толстяк Крылов и, закрыв глаза, слушал неугомонный говор общества, изредка шумно вздыхая. Называли басни, сложенные им во время этих послеобеденных отдохновений и записанные тотчас по приезде домой.
Везде, где бывал Александр Бестужев, его принимали охотно. Он был умен, разговорчив, весел, остер, и литературная известность делала хорошее имя двадцатидвухлетнему прапорщику. Когда какой-то усатый ротмистр шпорой сорвал в кадрили кружево со шлейфа бестужевской дамы, прапорщик попросил его вон из залы и после минутного разговора был вызван. Стрелялись в Лесном – классическом месте самоубийства запойных чиновников и влюбленных немок. Ротмистр дал мимо, а Бестужев выстрелил в воздух и, вскочив на лошадь, ускакал в Петергоф. То, что было бы поставлено многим другим молодым людям в упрек как бретерство, принималось в Бестужеве за изысканное благородство, и хвалебная молва о нем бежала по городу.
Юнкерские мечты сбывались.
ЯНВАРЬ 1820 – ДЕКАБРЬ 1820
Ремесленники так злы. что дают сдачи, если их бьют.
Стендаль.

Петруша Бестужев, юноша кроткого нрава, флегматик, до страсти любивший чтение серьезных сочинений, не по летам молчаливый и задумчивый, надел 22 февраля 1820 года мичманские эполеты. А 1 марта и Александр Бестужев прочитал приказ о своем производстве в поручики. Геральдический пятилистник старинного рода расправлял и выравнивал ростки. Новый поручик хорошо знал историю своей родины и своего рода. Ему было известно, что не Бестужевы, а Бестужевы-Рюмины наполняли XVIII век блеском имени. Но корень обеих фамилий – общий, и этого было довольно для Бестужева, чтобы с грустью думать о потерянной славе рода. Пылкость воображения и врожденная склонность к преувеличениям питали в нем эту фантасмагорию. Если бы Прасковья Михайловна не была до замужества простой нарвской мещанкой, может быть, миражи болезненного самолюбия беспокоили бы ее сына гораздо менее. Бестужев зорко приглядывался к окружающему. Он видел Никиту Муравьева, вовсе не кичившегося своей знатностью и даже готового променять ее на почтенное гражданское имя в стране, обеспечивающей свободу полезной деятельности. Он высоко ставил практический разум Греча, удивлялся редкому соединению в нем дерзости и осторожности, ценил и уважал его жизненные успехи, достигнутые без всякой помощи знатности.

И. Прянишников. В 1812 году. Эпизод отступления Великой армии.
Люди с умом и талантом не могут не желать революции. И Никита Муравьев ждал революции. Революцию в России надлежало делать дворянам – такова старая традиция, освященная примерами античной истории. Аристократический строй должен быть свергнут, но свергнуть его надлежит аристократическими же руками. Бестужев не богат, как Муравьев, но он и не выходец из толпы немецких бродяг, как, например, Греч. Следовательно, его место среди российских римлян, которые не прочь за славу отдать все, чем владеют, и даже то, чего у них нет. Да и в самом деле, разве «исторический дворянин» Бестужев чем-нибудь хуже Алексея Орлова или Потемкина?
Так представлял себе Бестужев смысл борьбы, о которой смутно мечтал еще в юнкерские времена.
Никита Муравьев подал в отставку. Когда Бестужев спрашивал о причине, Никита строго глядел своими большими серыми глазами и отвечал невнятно о каких-то «важных делах», решительно не позволяющих ему служить дальше. В библиотеке дома на Фонтанке все чаще собирались молодые друзья хозяина из гвардейских полков: князь Лопухин, отставной капитан Семеновского полка Якушкин, князь Федор Шаховской и другие. Летом собрания и секретные переговоры происходили на даче.
Бестужеву очень хотелось проникнуть в муравьев-скую тайну, но она так тщательно охранялась, что самолюбие заставляло его сторониться Никиты с некоторым даже раздражением. Он предпочитал живые и откровенно рискованные либеральные разговоры. Эти разговоры велись в любой ресторации, и даже у пышного Андрие за обедом можно было ежедневно видеть подвыпивших офицеров, напевавших переведенную Катениным с французского песенку:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас.
И Бестужев распевал вместе с другими, высоко поднимая руку при последнем стихе. Когда он думал о том, что эту песню кричал Париж в бурные дни революции, волосы оживали у него под фуражкой и комок сладких слез подступал к горлу. Он любил свободу и ненавидел деспотизм.
Европа кипела в котле революций. В марте испанский король присягнул «Конституции 1812 года»; он был вынужден к этому военным восстанием и подведен к присяжному акту не кортесами, а железной рукой Риэго.
«Слава тебе, слава тебе, армия гиспанская!» – отметил Н. И. Тургенев в своем интимном журнале.
«Революция совершилась в три месяца, и не пролито ни капли крови… Это прекрасный аргумент в пользу революций», – писал Чаадаев брату.
В Берлине народ открыто бранил короля. Португальская хунта, воспользовавшись пребыванием короля в Бразилии, после быстрого военного восстания взяла в руки управление страной. Про шли времена, когда каждая почта сообщала о введении конституции то в Бадене, то в Дармштадте, и либералы, встречаясь на петербургских улицах, спрашивали друг у друга шепотом:
– А нет ли еще где-нибудь новой конституции?
Теперь вопрос, с которым они радостно пожимали при встречах дружескую руку, звучал совсем иначе и задавался громко:
– А нет ли еще где революции?
В это удивительное время император России гостил в Грузине у верного своего друга, «неученого новгородского дворянина», графа Аракчеева, а министр просвещения князь Голицын строго выговаривал попечителю Петербургского учебного округа Уварову за статью в «Невском зрителе» под скромным названием «О влиянии правительства на промышленность»:
– Таковое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в коем случае позволено быть не может…
Внезапно разразилась гроза над Пушкиным.
Еще недавно видели его в театре. Он ходил по креслам, показывая знакомым и незнакомым портрет Лувеля[9]9
Седельщик, убивший престолонаследника Франции герцога Беррийского.
[Закрыть] с подписью «Урок царям». Петербург еще твердил его эпиграммы: «Всей России притеснитель», «Холоп венчанного солдата». И вдруг Пушкин исчез, сжался, затих и стал бегать даже от друзей.
Дело обертывалось плохо. Можно было думать, что Пушкина ждет Сибирь. Вспоминали и о Соловецком монастыре. Чаадаев кинулся к Карамзину. Историограф поехал во дворец, к императрице Марии Федоровне. От Карамзина Чаадаев поскакал к графу Каподистриа, начальнику поэта в коллегии иностранных дел. Весь Петербург двигался для Пушкина и говорил о нем.
Вдруг стало известно, что Пушкина уже нет в Петербурге. Он выехал на юг из отцовской квартиры, в доме Клокачева у Калинкина моста, ранним утром, с дядькой Никитой, не успев проститься ни с кем, даже с Чаадаевым, которого не захотел будить. Высылка. Куда? Поэта проводили до заставы лицейские товарищи – барон Дельвиг и Яковлев.
Молния ударила в Пушкина, но гром напугал всех петербургских либералистов. Опасность сковала языки. Шум и крики замерли, наступила пора тихих разговоров с глазу на глаз…
Спасаясь от скуки пресных светских отношений, из которых вдруг выпала острота политических споров и суждений, Бестужев с яростью принялся грызть перо. Чернильная война была ему по душе, и он напечатал в «Сыне отечества» серьезный «Разбор песни о сражении русских с татарами» и в «Благонамеренном»– злое «Письмо к издателю о переводе отрывка из Расина «Сон Гофолии». Автором песни и отрывка был Катенин, недавно вышедший в отставку из полковников Преображенского полка. Церковно-славянская затхлость катенинского языка, манера воскрешать архаические литературные образы, залоснившиеся от долгого употребления их писателями XVIII века, – все это бесило Бестужева. В разборах и критических статьях, направленных против Катенина, он был беспощаден, и обидно-ядовитые словечки из арсенала «драгунской критики» снова начали гулять по Петербургу.
Однажды Николай Александрович вошел в петергофскую квартиру Александра с развернутым номером «Невского зрителя» в руках.
– Вот как надо писать в наше время, – сказал он, – читай. Я прискакал к тебе из Петербурга, – какие жестокие стихи, какая правда, какой удар по злодею…
Александр прочитал:
К ВРЕМЕНЩИКУ
(Подражание Персиевой сатире: «К Рубеллию»).
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесенный в важный сан пронырства ми злодей!
Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!
Но если злобный рок, злодея полюбя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Все трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!
– Аракчеев, – прошептал Александр, роняя книжку журнала на диван.
Сатира «К Рубеллию» была уже однажды переведена пьяным поэтом Милоновым, который, не проспавшись, приписал ее Персию. Но та была просто сатира на придворного льстеца, а эта – вызов, адресованный в длинный, деревянный, унылый дом на Литейной, прямо в логово Аракчеева. Изумление, ужас, оцепенение охватили Александра. Сатира была подписана: Рылеев. Младенец бросался на великана. Кто этот смельчак?
– Рылеев погиб, – грустно сказал Александр.
– Погиб несомнительно, – подтвердил Николай Александрович, – дерзновенный поэт будет истреблен тотчас. Слишком верно изображение, слишком близко, чтобы Аракчеев не узнал себя в нем.
Так думал и весь Петербург, читая сатиру и и удивляясь неслыханному мужеству автора, вдруг показавшему, что и в цепях можно говорить правду, вызывая сильных на суд.
Дни скользили в тревожных сумерках. Но туча уходила в сторону – никто не слышал о гибели Рылеева. Тогда поняли, что Аракчеев не решился признать себя в дерзкой сатире, и шепот похвал неведомому стихотворцу нарушил мертвенную тишину ожидания..
Служить в полку становилось все трудней. Начальство не угнетало Бестужева нарядами в караулы, строевые обязанности субалтерн-офицера были ничтожны, хозяйственных обязанностей на нем не лежало вовсе. Бестужев мог проводить целые дни дома в Марли и уезжать в Петербург, когда вздумается. Но самый дух службы становился невыносимым. Эскадронный командир капитан Климовской ударами могучих кулаков разбрасывал по манежу из пешего строя солдат. Каждое посещение эскадрона полковым командиром генералом Чичериным означало безжалостную порку солдат дюжинами. Вахмистры свирепствовали пуще офицеров. Душно становилось в полку, и желчь подымалась в Бестужеве мутным наплывом. Впрочем, говорили, что в лейб-гвардии драгунском полку еще можно служить, так как он стоит в Петергофе, не на глазах царя. Гвардейские же полки, квартировавшие в столице, почти не сходили с плац-парадов.
Гвардия получила новых полковых командиров.
Полковник Шварц принял Семеновский полк от генерала Потемкина, назначенного начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. Потемкин был известный щеголь, доктор Оксфордского университета, мягкий и либеральный человек. При нем семеновцы понятия не имели о том, что такое палка. Про Шварца же рассказывали, что в Калужском гренадерском полку, которым он раньше командовал, осталась после него братская могила засеченных рекрут и солдат. Так и называлась она: «Шварцова могила».
Уже из перового приказа, подписанного новым командиром, стало ясно, что будет дальше. Шварц выражал полное недовольство Семеновским полком: все было плохо – от строя до артельного хозяйства рот. Кровати были выброшены из ротных помещений и заменены нарами. Мгновенно пропали куда-то солдатские самовары. Запустели полковые огороды – стало не до них. А приносили они каждой роте по 500–600 рублей в лето. Многие солдаты готовили султаны на продажу – дело очень выгодное – и имели достаток. Стало и не до султанов. На вольные работы новый командир велел отпускать нижних чинов только гуртом, повзводно, но где же сыскать гуртовую работу на взвод, состоящий из знатоков самых разнообразных ремесел? Все свободное от службы время солдаты были заняты одним делом:
По три денежки на день,
Куды хочешь, туды день.
Купишь меду, купишь клею
И сандалишь портупею…
В манеже – сыро, пар густо клубится у ртов, голоса начальников звучат, будто из подвала. Начищенный, прибранный, обтянутый и вытянутый в блестящую пружину Шварц учит роту. Он выколачивает темп, не жалея своих упругих ляжек, то и дело выскакивает вперед и, скрючась, шагает задом, подавая такт дрыганьем всех суставов. Заметив непорядок, бросает марширующий взвод и ястребом слетает на правый фланг. Кулаки Шварца свистят в воздухе: «Х-р-р-як!»
Он плюет солдату в усы, потом швыряет свою шляпу на пол и яростно топчет ее ногами. В каком-то вдохновении неистовства о «останавливает две шеренги и, повернув их лицом друг к другу, приказывает первой оплевать вторую. Солдаты делают это без смака. Один посмел обтереть заплеванные глаза.
– Розог!
Скамейка как бы сама выбегает перед фрунт, дневальные расправляют пучки лоз, штаны падают с обреченного солдата, через смуглое тело протягиваются полосы, белые, словно после терпуга, и тотчас наполняются кровью. Шварц облизывается. У него вид дровосека в разгаре работы. Он застегивает перчатки на кулаках, о которых солдаты говорят, что от каждого пахнет покойником. Ученье продолжается.
Этот жестокий истязатель вздумал во время ученья 2-й фузилерной роты поставить под тесаки несколько нижних чинов, имевших знаки отличия военного ордена. Телесные наказания таких солдат были строжайше запрещены уставом, и солдаты хорошо знали о незаконности наказания. «Государева» рота – обшитые шевронами, увешанные крестами участники великих боев – решила жаловаться на вечерней перекличке. Уговоры ротного командира капитана Кашкарова не подействовали. Батальонный командир полковник Вадковский имел еще меньше успеха.
Вечером бунтовавшая рота была арестована и тайно отправлена в крепость. Пропажа головной части поразила полк. Темной и холодной ночью сразу зашевелились все батальоны и высыпали на площадь без ружей, без шапок, без строя. Офицеры из сил выбивались, пытаясь унять волнение, – напрасно. В мутном рассвете все еще кипел людьми неоглядный плац.
К солдатам примешивались кучки народа, шедшего из слобод на раннюю работу. Путаница в распоряжениях создавала всеобщий сумбур. Командир гвардейского корпуса генерал Васильчиков, в ленте, звеня орденами, врезался с карьера в мятежную толпу.
– Изменники! Бунтовщики! – кричал он, и рыжая лошадь, скаля зубы, вертелась под ним, разбрасывая в стороны солдат.
К утру полк вывели из казарм в шинелях и фуражках, при унтер-офицерах и офицерах, окруженный пехотой с примкнутыми штыками. Несколько эскадронов конной гвардии провожали его до крепости. Семеновцы шли под арест почти охотно. Крепость не Шварц. Свернули с Невского на Фонтанку.







