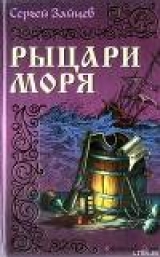
Текст книги "Рыцари моря"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
К вечеру этого же дня Андрее Кнутсен, живой и невредимый, вернулся к «Юстусу». По поводу его возвращения хозяин горда устроил маленький праздник. Он выставил на двор бочку свежесваренного пива, вынес на плече копченый окорок, а на другом плече – целую корзину теплых еще лепешек. До полуночи пировали россияне и все хуторские и батраки. Однако пир этот не прибавил, как ожидали, тепла в отношениямежду Андресом и Большим Кнутсеном; причина раздора у них оставалась прежняя, ни тот, ни другой не хотели уступать, и, избегая говорить о главном, они обменивались малозначащими речами… А новгородец Берета, женолюб известный, не упустил удобного случая погреховодничать: пока все пировали и искали способов примирить непримиримых, он укрылся со служанкой Анне в одном из лофтов-хранилищ, и там они любили друг друга в большой куче зерна.
Глава 10
В один из дней, когда на земле уже стал задерживаться снег, Андрее вернулся из Тронхейма с двумя ножевыми ранами – в левом плече и в левом боку. Обе раны оказались не опасными, хотя удары и в том и в другом случае явно были нацелены в сердце. От первого ножа Андрее прикрылся плечом, от второго не успел, однако клинок, направленный нетвердой рукой, поранил только кожу.
Андрее сказал, что датчане восстановили нарушенное им равновесие, и теперь никто никому не должен. Датчане всадили в него ножи средь бела дня, в то время, когда он беседовал с молоденькой служанкой Люсии посреди рынка. Подошли с улыбками, ударили и убежали; а он не стал их догонять, потому что служанка, пораженная происшедшим и перепуганная видом крови, лишилась чувств.
Инок Хрисанф посоветовал норвежцу, чтобы тот отныне почаще обращался с молитвами к Господу, ибо только воля Господняя отвратила от него неминуемую гибель: окажись те купцы посмелее да сумей они унять дрожь в руках, – быть бы теперь в доме Кнутсенов большому плачу и тоске, а им, россиянам, коим уже полюбился добрый парень Андрее, долбить бы сегодня в мерзлой земле могилу.
Большой Кнутсен, осмотрев раны, сделал повязки. Потом он отвел глаза в сторону и сказал:
– Убирался бы ты, родственничек, в свой Вардё – подальше от греха. Не ровен час, случится так, как говорил только что этот разумный монах. Подумай и о нас, Андрее! Забот с тобой больше, чем со всем моим хозяйством, со всеми хусменами и с сумасшедшим Темным Кнутсеном придачу. И от него, от сумасшедшего, не знаешь, чего ожидать, и от тебя также. Между тем, я с утра до вечера кланяюсь работе – то полю, то морю. Я не хочу больше кланяться фогту – поскольку устает кланяться и моя норвежская спина… У тебя любовь, я понимаю. Но все идет к тому, что люди ославят бесчестной мою дочь…
Большому Кнутсену нелегко было произнести эти слова, он слыл гостеприимным хозяином.
Андрее же ответил, что не видит причины для беспокойства:
– Люсия, дочь богатого одальмана, как и прежде, проводит вечера в обществе датских и немецких господ. И богатство ее – несравненная красота, и честь по-прежнему при ней. Кто ей рыбак из далекого Вардё? О! Он лишь напоминание о давней детской привязанности. Он не бросит на непорочную девицу тень…
Большой Кнутсен вздохнул с облегчением, ибо расценил эти смиренные слова Адреса как обещание оставить в покое его дочь. Возможно, Андресу следовало бы не так легкомысленно относиться к собственным слонам и не давать обещаний, какие сам потом не захочет исполнять. Возможно же, в тот момент он сам искренне верил в то, что говорил. Но равным образом возможно и то, что, обещая не порочить чести Люсии, Андрее не обещал оставить ее.
Через день-другой приплыла к хутору в лодке некая девица и, сказавшись служанкой Люсии, вызвала на берег Андреса. А Большого Кнутсена в это время не было дома; он говорил, что поедет в Тронхейм. Андрее узнал служанку – она была та самая, при которой его ранили. Девушка была очень рада видеть Андреса в полном здравии и заверила его, что этому будет рада и ее госпожа; девушка сказала, что этот кошмар до сих пор стоит у нее в глазах, а ее молодая госпожа уже трижды просила рассказать ей, как все произошло, и всякий раз очень тревожилась за жизнь Андреса. Потом служанка вручила Андресу записку от Люсии, а на словах передала, что Большой Кнутсен увозит дочь в горы, на лесопилку. После этого добрая душа служанка поспешила отчалить и, привычно управляясь с веслами, скрылась за мысом; она не хотела, чтоб кто-нибудь из Кнутсенов увидел ее.
Многое из того, что сказала служанка, было приятно Андресу. Из слов ее явствовало, что Люсия думает о нем и, по крайней мере, не равнодушна к нему, как он полагал до сих пор. Однако внезапный отъезд Люсии опечалил Андреса. Это означало, что он, может статься, не скоро вновь увидит ее. Но когда Андрее прочитал переданную ему записку, то совсем сник. Люсия сообщала ему, что некто Эрвин Шриттмайер, торговец из Любека, из какой-то фареркомпании, предлагает ей руку и сердце. Люсия писала, что этот хитрый старик так все обставляет, что ей нет от него проходу, и он убедил уже ее отца в обоюдной выгодности сего брака и в том, что лучшего брака для своей дочери Эрик Кнутсен не сможет заключить ни в Тронхейме, ни в Бергене, ни еще где бы то ни было в Норвегии, ибо молодежь ветрена и больше думает о постели, нежели о будущем или о пользе дела; он же, Эрвин Шриттмайер, просчитал все на сто лет вперед и понял, что их объединенное под одной крышей дело может обернуться золотой рекой. Далее Люсия писала, что жена Эрвина Шриттмайера еще не умерла, но он ждет извещения о ее смерти со дня на день, так как она чем-то очень больна и доживает в Любеке свои последние дни. А до тех пор отец и этот сумасбродный старик, не имея возможности побыстрее заключить выгодный им союз, решили упрятать Люсию в горах. На этом настоял Шриттмайер – он сказал, что неуютно себя чувствует, когда его красавица-невеста у всех пройдох на виду… Люсия прощалась с Андресом навеки и желала ему встретить в своей жизни девочку помоложе, ибо она была старше его на год. Однако просила не забывать и ее, если он питал к ней хоть какие-нибудь чувства, кроме родственных; ведь в том, что она не могла ответить ему взаимностью, был виноват только один человек – ее отец, Эрик Кнутсен… В постскриптуме Люсия приписала, что отныне будет молить Создателя о благополучии Андреса и о долголетии старенькой госпожи Шриттмайер.
Тойво Линнеус, узнав, в чем дело, посоветовал Андресу:
– Вместо того, чтобы так киснуть, прогулялся бы ты в горах. С гор, сам знаешь, иногда бывает виднее. А если еще и быстро будешь ходить, то вернешься скорее Большого Кнутсена, обремененного заботами, и он ни о чем не догадается.
Андрее внял толковому совету штурмана и в мгновение ока собрался в дорогу. Он хорошо знал местные горы и самые короткие пути в них. Вернулся Андрее через два дня – веселый, с сияющими глазами.
Тойво Линнеус посмеялся над ним:– Клянусь Евангелием, только горы могут так преобразит!) человека, потерпевшего неудачу в любви!…
А на следующий день приехал и Большой Кнутсен. Он полагал, что его Люсия теперь в совершенной безопасности, и был доволен этим. Большой Кнутсен даже побеспокоился о состоянии ран Андреса. И Андрее сказал, что только одна из его ран болит и кровоточит – это рана сердечная, – и сделал при этом печальные глаза.
– Это самая глупая из всех твоих ран, родственничек! – сказал поучительно Большой Кнутсен. – Но время залечит все твои раны, и через год-другой от твоей любви не останется на сердце даже малого рубца.
В эти дни в городе повсюду велись разговоры о новом короле Швеции. Смена правителя – всегда перемены, и часто – потери. При смене правителя все весы в государстве утрачивают равновесие и приходят в движение. И в соседних странах к тому не равнодушны, потому что и там имеют свои чуткие весы. Когда начинает дуть ветер, выясняется, что не все любят подставлять ему лицо. И в местах затишья скапливаются недовольные… Сильный же ветер задевает сразу несколько стран. Норвежцы не знали, что из себя представляет новый король Иоанн, по-норвежски – Юхан. Прежний шведский король, Эрик, был скорее сумасшедшим, чем безрассудным, также он был жесток и непоследователен. И как Большой Кнутсен говаривал про Темного Кнутсена, что трудно предугадать его действия, так же говорили и про прежнего шведского короля – невозможно было знать, что он предпримет на следующий день. Эрик старался быть дружным с российским государем и часто сносился с ним послами. Эрик был хороший вояка и, говорили, – очень умен. Так что же из того! Дураки не сходят с ума, а только умные. Однако каково стране с сумасшедшим королем!… Воевал он немало, и норвежцам нравилось, что ему удавалось иногда бивать датчан. Но все-таки Дания осталась Данией и по-прежнему управляла норвежской землей. Новый ветер из Швеции еще не подул, и норвежцы не знали: хорошо это или плохо. В Тронхейме говорили, что король Юхан ищет дружбы московского царя. Это было похоже на правду, ибо в последние годы из России часто приходили ветры, холодные как лед.
Вопреки ожиданиям и желаниям Эрвина Шриттмайера, жена его никак не умирала, – по-видимому, она была очень жизнелюбивой старушкой, несмотря на все, отравляющие ей жизнь, болезни… либо мольбы Люсии достигли слуха Создателя… Как бы то ни было, но Люсию не стали долго держать на лесопилке: приближался праздник внесения света во тьму, на котором красавица-дочь Большого Кнутсена должна была стать первой жрицей света, поскольку бюргеры и ремесленники, торговцы, бонды и рыбаки Тронхеймлена избрали ее. Сыновья Большого Кнутсена, Христиан и Карл, возвращаясь с лесопилки, привезли сестру в ее городской дом, где она занялась приготовлениями к празднику. Эрвин Шриттмайер, узнав о возвращении Люсии, поспешил к ней. И столкнулся в дверях с ее братьями-великанами. Здесь нужно сказать, что Христиану и Карлу не очень нравилось намерение их отца отдать Люсию замуж за старика, хоть и богатого; их вполне устроил бы Андрее – молодой, веселый и работящий, он мог бы стать им братом Хаконом. И к старцу, явно выжившему из ума и вознамерившемуся вкусить от не предназначенного ему Всевышним блюда, у братьев не было уважения. Поэтому теперь, встретившись с Шриттмайером у входа, младшие Кнутсены не уступи-л и ему дороги. Тот посторонился; однако Христиан оказался столь неловким, что слегка зацепил купца плечом. И Шриттмайер скатился с крыльца на улицу. Братья высмеяли его; они сказали, что их будущий зять по возрасту годится им в деды, но зато умеет кувыркаться, как молодой заяц.
Приближалось самое темное время зимы. Андрее и Люсия теперь встречались часто, но делали это тайно, доверяясь одной только верной служанке. Они облюбовали в городе самые малолюдные места и были заняты лишь друг другом, избегая общих гуляний, посиделок и всевозможных игрищ. Много милее шумных сборищ им был тихий сумрак слабо освещенных улиц; этот сумрак укрывал их от любопытных глаз, их следы засыпал мягкий снег; они гуляли по берегу залива, и тогда плеск воды у заиндевевших, покрытых ледяной коркой скал заглушал их шаги. Иногда, сидя на берегу, Андрее и Люсия могли часами следить, как снежные хлопья тают в темной воде, и не говорить ни слова. А в другой раз они не могли наговориться и при этом ничего не замечали вокруг. Бывало в ясную морозную ночь они, выйдя за город, ложились в сугроб и, укрывшись одной шубой, подолгу глядели в чарующее, усыпанное мириадами звезд небо. Намерзшись, они возвращались в Тронхейм. Но было жаль расставаться. Тогда Андрее и Люсия согревались в церкви. Они решили: произнося молитвы, не думали о молитвах; обращаясь к Богу, грезили друг о друге. Глаза их встречались, и руки тянулись одна к другой. Уста их начинали произносить слова совсем иные – тогда и любовь, и молитва, и благодать, и Бог становились одним и тем же…
Большой Кнутсен в эти дни был очень занят продажей леса голландцу Ван Хаару и часто уезжал на лесопилку. Христиан и Карл подвозили заготовленный лес к пристани, сгружали его возле голландских судов и возвращались в горы за новой партией бревен. Тем временем люди Ван Хаара переправляли груз в трюмы. Большой Кнутсен не слишком торговался с голландским купцом. Он объяснял свою уступчивость просто:
– Мне жаль Нидерланды – думается, немало еще прольется крови в несчастной стране, пожелавшей свободы в наши трудные времена. Могу ли я драть последнюю шкуру с доброго соседа? Нет, не могу… Как на тебе, брат-купец, сидит верхом испанец, так на мне сидит датчанин. Одна у нас беда! И потому продаю тебе лес дешевле, чем другим… – потом, немного поразмыслив, добавлял: – Но мне бы не хотелось, чтоб прекрасный норвежский лес в руках у герцога Альбы обратился в виселицы для мятежников. Пусть уж лучше этот лес сгорит!
Ван Хаар ему отвечал:
– Это лес для кораблей гёзов. Он сослужит великую службу. Но если хоть нескольким из этих добротных бревен суждено стать виселицей, то пусть на той виселице болтается сам Альба!
Потом они обухом топора стучали по торцам бревен и с удовольствием слушали, какой от того звонкий получается звук.
На «Юстусе» почти все поломки были устранены. Поставили новые шпангоуты, заменили несколько досок в наружной обшивке и в обшивке днища, пересмотрели такелаж, подновили фальшборт и палубный настил. Но оставалось еще немало работы по мелочам: нужно было конопатить, смолить, красить, чистить… Корабль преображался день ото дня. Долгими темными вечерами, когда россияне не ходили развлечься в Тронхейм, они разжигали недалеко от стапеля высокий костер, готовили здесь пищу, здесь же трапезничали, а за едой да за разговорами любовались очертаниями судна, видными в свете пламени: мощным форштевнеми развалистыми скулами, бушпритом, устремленным в небеса, мачтами, реями… Часто говорили о России. Теперь, когда они были так далеко от нее, вне досягаемости жестокосердного царя Иоанна и его верных псов, им, претерпевшим муки заточения и ссылки, перенесшим обиды, унижения, боль, им, россиянам опальным и затравленным, стало Россию жаль, ибо ныне они видели Россию уже не в образе царя, истязающего и казнящего, а в образе бесконечно уставшей женщины, остановившейся у камня в начале трех дорог. Сидя здесь, в норвежской земле, они почувствовали себя более русскими, чем чувствовали бы, сидя где-нибудь в Коломне. И если раньше у этих россиян было одно желание – бежать как можно дальше от российских границ и найти в том спасение, то теперь их желание изменилось, – россиян повлекло к родным берегам. Но повлекло не так, как влечет опамятовавшихся беглецов, понявших, что не в бегстве спасение, и раскаявшихся, – а так, как это подобает людям, обретшим сокровище – всепрощение. Видно, воспрял и окреп их дух, и они простили врагам своим все неправды и несправедливости; и сокровище свое россияне желали отдать отечеству, но не знали еще, какой далекий им предстоял до отечества путь.
В эти же дни россияне занялись парусами и обнаружили, что многие из них, простреленные и опаленные, неоднократно латанные, до сих пор кое-как служившие, требовали замены. А посему понадобилось большое количество полотна. Проще всего было бы приобрести полотно через Большого Кнутсена, но одальман уже несколько дней не показывался на хуторе. Тогда Андрее подсказал, где следовало искать его, – Андрее, вынужденный избегать Кнутсена, всегда знал, где тот находится. Эрик Кнутсен загрузил наконец два голландских корабля, и теперь они с купцом Дирком Ван
Хааром закрепляли удачную сделку вином в таверне у пристани.
Все так и было: Большой Кнутсен и четверо голландцев сидели за столом в углу. Их трапезу освещал десяток свечей. Глаза гостей блестели; лоснились румяные сытые лица. Хозяин таверны едва успевал, меняя блюда на столе, – он сновал от пирующих на кухню, к жаровне, оттуда в погреб и обратно к гостям. Складывал в кошель нидерландские денежки, среди которых попалась и пара гульденов. Ван Хаар, толстый круглолицый человечек в кожаном камзоле и бархатном малиновом берете, сидел напротив Большого Кнутсена и с глубоким сочувствием внимал речам о мальчике Хаконе. Другие голландцы просто, не вслушиваясь в сказанное, ели и пили; они, как видно, не понимали по-норвежски. Между тем от мощного голоса одальмана то и дело трепетали огоньки свечей.
Увидев россиян, – а пришли они всемером: Иван Месяц и с ним Михаил и Фома, и четверо Кольских, – Большой Кнутсен позвал их за общий стол. Норвежец взял еще вина и небрежно разлил его по кружкам – он распоряжался, так как платил тавернщику пополам с Ван Хааром. Расплесканное вино, просочившись через щели в столе, потекло на пол. Дымились снятые с огня сковороды с яичницей, рыбой, колбасами.
С приходом россиян голландцы оживились. Ван Хаар сказал, что несколько лет кряду он покупал лес в Нарве. Превосходный это был лес!… Но каперы Швеции и польского короля Сигизмунда Августа испортили ему все дело. И не только ему. Нидерланды, Англия, Франция – все хотели бы торговать с Россией. Ныне это опасно; большинство купцов боится рисковать и потому многое теряет. Однако больше других теряет из-за каперов Дания: совсем мало кораблей стало проходить Зундским проливом – почти не с кого теперь взимать пошлину. Никому не нужен стал Зунд; может, только немцам да самим датчанам. Оттого король Фредерик теряет мешок серебра ежедневно, а те, кому необходим лес, покупают его в Норвегии или идут в Россию северным путем. Но и там теперь ходить небезопасно – у Нордкапа все чаще появляются шведские корабли.
Потом Дирк Ван Хаар принялся хвалить «Юстус». Он сказал, что бывал разок на Кнутсен-горде и видел когг на стапеле:
– Это великолепное судно, господин Юхан! С таким судном можно никого не бояться и делать на рынке свою погоду. И думается мне, не только на рынке. Судно быстроходное, отменно вооружено. Одно только появление вашего корабля на рейде какого-нибудь порта может вызвать в этом порту нешуточный переполох… Позвольте узнать, господин Юхан, каковы ваши дальнейшие намерения?
– «Юстус» – мирный торговый корабль, – уклончиво ответил Месяц.
Ван Хаар не поверил:
– С четырнадцатью-то пушками на борту!… После этого, отпив глоток вина, голландский купец заговорил о Нидерландах. И все решили, что он переменил тему. Ван Хаар рассказал о движении в стране против испанского владычества, о восстаниях крестьян, о несметных богатствах католических монастырей, о преследованиях инквизиции… Нужно отдать ему должное, голландец очень любил свою многострадальную родину и хорошо знал обо всем, что творилось в ее провинциях; он мог говорить о ней часами, особенно же когда видел, что его слушают с неподдельным вниманием. Однако здесь, дабы не слишком утяжелять повествование и не прослыть докучливыми, не станем приводить дословно всего сказанного Дирком Ван Хааром; ограничимся лишь по возможности кратким изложением его пространных речей (не лишних в нашем повествовании), но сохраним все использованные им эпитеты и наиболее удачные метафоры…
… То, что являлось одновременно и святым делом освобождения, и общенациональным бедствием, началось с восстания иконоборцев, которые принялись громить церкви, грабить монастыри, жечь иконы и деревянные статуи святых. Восстание быстро разрасталось. Во всей стране иконоборцы разрушили около шести тысяч церквей. Но этого им показалось мало, кровь монахов и попов не остановила восставших. И они стали призывать народ в поход на дворцы богачей. Однако вожди движения, сами богачи, испугались, что волы, везущие воз, вырвутся из ярма и опрокинут повозку, – и предали восстание, и перешли на сторону его врагов. После этого властям было нетрудно одолеть разрозненную массу городских плебеев и крестьян, и восстание оказалось подавленным.
Филипп II, зная, что за этим восстанием может с успехом последовать новое, не удовлетворился просто подавлением, тем более, что дворянство Нидерландов во главе с принцем Оранским и графами Эгмонтом и Горном было ненадежно и в любое время, как недавно с иконоборцами, могло выступить против испанских властей. Король Филипп задумал истребление и открытый грабеж. Мятежники и еретики, поднявшиеся против Испании и католичества, должны были исчезнуть с лица земли, бесследно сгинуть, а дух их – дух лютеранской и кальвинистской заразы – подлежал очищению огнем, чтоб от Артуа до Хронингена воцарился один милый сердцу инквизитора дух – дух горелого мяса. И лучшие испанские войска под началом герцога Альбы выступили в поход.
Вся страна превратилась в одно ужасное судилище; жизнь в стране замерла, и было только одно движение – допросы, пытки, приговоры, исполнения. Виды прекрасных городов и сел, лесов и полей обезобразились видом виселиц, стали поистине видами устрашения. Городские площади осветились пламенем инквизиторских костров. Суд по делам мятежников и еретиков работал хорошо: у палачей, срубающих головы мечами, уставали руки, и они, испросив отдыха, прогуливались между виселицами, а потом опять, вдохновленные, брались за мечи и едва поспевали за судьями. Мрачные тучи затмили небо над страной, стало душно в Нидерландах от трупного смрада и чада костров, стало красно в стране от крови.
Графы Эгмонт и Горн тоже были казнены. А принц Вильгельм Оранский бежал в Германию к родственникам. И еще многие бежали по его примеру: и из дворян, и из простолюдинов. Достояние всех преданных смерти и покинувших страну герцог Альба забирал в пользу испанской казны. И продолжал истязания. И не было видно этому конца!…
Однако не долго оставались безнаказанными каратели-испанцы. Множество народа собралось в нидерландских лесах. Ремесленники, подмастерья, мелкие торговцы, слуги, крестьяне, убегая от расправы, покидали свои дома, потом, как умели, вооружались, объединялись в отряды и принимались мстить. Испанцы называли их презрительно «недосожженными», а после появилось и другое название – «гёзы», что значит – «нищие». Гёзы – потому что оборванцы, потому что голодные и злые, потому что бездомные. Гёзы – недобитки, еретики, бунтовщики и смутьяны. Гёзы – дети виселиц и плах. И гёзы – страшные убийцы!… Встреча с лесными гёзами сулила испанцу только смерть: гёзы казнили солдат, судили судей, католиков-священников сжигали в кострах и палачам срубали головы. Все больше и больше людей прибивалось к гёзам – и даже дворяне приходили к ним. Что из того что гёзы – нищие! Если нищий доблестно бьется с врагами за свою страну, не унизительно назваться и нищим. И произносили гордо: «Гёз!…». Нападали на испанские отряды, жгли их обозы, снова жгли монастыри, устраивали в лесах свои публичные судилища и тоже воздвигали виселицы. Развернулась настоящая война – с походами, побоищами, осадами. В провинции Голландия восстали крестьяне, но их быстро подавили. Тогда в той же провинции, а также в провинциях Зеландия и Фрисландия на борьбу с испанцами поднялись рыбаки, торговцы и многие иные жители прибрежных городов и поселков, к ним присоединились жители островов. Они назвались морскими гёзами, сели на свои суда и превратились в грозную силу, обращенную против испанского флота. Морские гёзы накрепко заперли проливы между островами; они сторожили врага у крупных портов, обстреливали испанские караваны на морских путях, захватывали корабли; много навредили они королю Филиппу, и бороться с ними было трудно. Как лесные гёзы превосходно знали свои леса, так и гёзы морские лучше всех понимали свое море – приливы и отливы, ветры, течения. Они знали все подводные скалы, все укромные бухты и на своих легких суденышках ходили такими проливами, в какие корабли испанцев боялись даже сунуться. Поэтому гёзы без особых трудов отрывались от погони; и повсюду они находили у населения поддержку, и сами помогали населению, одаривая его захваченным добром… Принц Вильгельм Оранский, сидя у себя в Германии, следил за всем происходящим и одобрял действия гёзов, а сам ожидал, выгадывал время, высматривал момент, когда ему легче всего будет победить Альбу, вступив в Нидерланды во главе наемных войск. Чтобы обеспечить морских гёзов правом ведения войны, принц Оранский стал выдавать им каперские свидетельства. Однако гёзы и без свидетельств дрались зло и уверенно, они имели свое право и понимали его как право справедливости…
Возвращаясь к началу разговора, Дирк Ван Хаар обратился к Месяцу и еще раз назвал когг россиян превосходным судном:
– И вы, господин Юхан, при всей вашей молодости, вижу, светлая голова. У меня наметанный глаз, поверьте, – я перевидал на море всякого народа… Вы правы: не открывая своих замыслов, скорее их осуществите. Но даже не пробуйте меня убедить, что «Юстус» – мирное торговое судно. Ваш «Юстус» как будто создан для каперства. И с таким названием ему просто необходимо служить тому делу справедливости, за которое бьются гёзы… Вот и скажите мне, капитан Юхан, – не желали бы вы в ближайшее время свидеться с Вильгельмом Оранским и принять от него свидетельство?
Это было серьезное предложение, и Месяц не спешил с ответом. Отодвинул кружку, раздумывал, поглядывая на своих людей, которые ждали, что он скажет, ничуть не меньше голландцев. Наконец ответил:
– Есть на морях немало дел справедливости, еще только ожидающих своих гёзов. Путь «Юстуса» не близок…
– Я понял, – кивнул Ван Хаар. – Капитан «Юстуса» имеет свидетельство от своего государя.
Месяц покачал головой, лицо его как бы потемнело:
– У волка всегда наготове свидетельство для овцы.
Ван Хаар, поразмыслив над этими словами, вздохнул и что-то с сожалением сказал своим людям по-голландски.
Большой Кнутсен неревел:
– Трудно понять русского капитана, но еще труднее – его государя.
Полотно для парусов россияне купили у Ван Хаара. Тот, как и многие купцы из Нидерландов, имел свои склады в разных странах и в тяжелое для Голландии время размещал товары так, чтобы поменьше рисковать ими, – в Норвегии, в Дании, в Англии. У Ван Хаара было много добротного, изготовленного в Лейдене корабельного снаряжения, в том числе и парусины в пеньковую и хлопчатую нитки. Также купец предлагал отличное английское сукно, отделанное в Антверпене, ковры, кружева, порох. Россияне купили и пороха.
Кормчий Копейка вместе с Андресом и Тойво Линнеусом принялись шить паруса. Михаил и Фома опробовали порох: стрельнули из пушек пыжами в стожок. От тлеющих пыжей сухой стожок загорелся. Все были довольны, кроме Большого Кнутсена. Одальман высчитал с пушкарей за сгоревшее сено.
Наконец настал долгожданный праздник внесения света, праздник Люсии. Все, кто любил веселье и озорные шутки, все, кто был молод или хотя бы немного чувствовал молодость у себя в сердце, все, кто любил или искал любовь и красоту, кто ждал от будущего свершения надежд, а от света – счастья, – все высыпали на улицы Тронхейма в эту самую долгую ночь в году. В окнах домов горели огоньки свечей и светильников, а люди также со свечами или с факелами, фонарями ходили по городу, по пристани, прогуливались по набережной реки Нид. Все ждали появления Люсии. Ночь выдалась тихая и не морозная, с неба сыпал крупный медленный снег – он толстым слоем покрыл крыши домов и церквей, палубы и реи судов; на пристани кнехты под пышными снежными шапками стали похожими на грибы.
Ближе к полуночи людей в Тронхейме еще прибыло: пожалуй, никого не осталось под крышей ни в самом городе, ни в его окрестностях. Рыбаки, купцы, бонды, ремесленники-немцы, солдаты – все верили, что приблизятся в эту ночь к любви и счастью; даже сам фогт с семьей – женой и двумя дочерьми-толстушками, закутанными в меха, – вышел на улицу. Россияне пришли в город фьордом – в лодке вместе с Большим Кнутсеном и его сыновьями. При обильном снегопаде водный путь – самый разумный путь. Прибывали и еще лодки – со всего Тронхейм-фьорда. Россияне сразу потеряли друг друга, едва только ступили на пристань, – так много здесь собралось людей. Но уже не искали своих, так как на этом празднике все были своими, все были веселы и доброжелательны, и даже самые заклятые недруги старались не держать один на другого зла.
Ровно в полночь на крыльце своего дома в сопровождении служанки появилась Люсия, первая красавица Тронхейма. Она была в легком платье серебристого шелка, а голову ее украшал пышный венок, искусно сплетенный из засушенных цветов, трав и листьев. Здесь, даже если кто и имел сомнения, что Люсия – первая, – у того от всех сомнений не осталось и следа. Соперницы ее и те признали – никто Люсию не превзошел, Люсия – лучшая во фьорде, а может, и в целом лене. Горожане и гости, увидев Люсию в ее наряде, сверкающем в сотнях огней, одобрительно захлопали в ладони, а многие из тех, кто уже был слегка навеселе, выразили свой восторг криком. Богатый любекский купец Эрвин Шриттмайер протиснулся сквозь толпу, держа в руках шубу для Люсии – очень дорогую соболиную шубу. Но младшие Кнутсены, Христиан и Карл, опередили его. Они накинули на плечи сестры строгановскую шубу из горностаева меха – того, что носят короли. Толпа при этом так и ахнула – редкое семейство во всей Норвегии могло позволить себе такую роскошь. Супруга фогта побледнела, разряженные толстушки опустили глаза, а сам фогт весьма умело сделал вид, будто не замечает, каким мехом норвежцы балуют своих дочерей.
Люсии дали пылающий факел, но прежде надели на руки грубые рукавицы, чтобы она не обожглась смолой, стекающей по древку… И все подняли над собой факелы и свечи и пошли вслед за Люсией по улицам города к мосту через Нид. Несколько парней, и среди них Андрее, бросились протаптывать для Люсии тропу в снегу. Все празднующие растянулись на этой тропе в длинную цепочку. Пройдя по мосту на другую сторону реки, вся процессия поднялась на один из холмов, где уже было сложено большое кострище из бремен, хвои и сучьев.
Здесь в наступившей тишине, нарушаемой только легким поскрипыванием снега под ногами людей и потрескиванием огня в факелах, Люсия Кнутсен воскликнула:
– Пусть будут светлы ваши дни и ночи! Пусть будут светлы ваши лица и помыслы! Да будет светел ваш путь!…
И бросила факел в кострище. Пламя тут же взбежало на самый верх и занялось, и зашумело, и обдало людей жаром, и выхватило их из полутьмы.
– Да будет! Да будет!… – закричали в толпе.– Да будет просвещен ваш дух! – крикнула Люсия, поднимая над головой Евангелие. – Светел Господь! Не оставит нас…
– Да будет! Да будет!… – вновь прокатилось по толпе.
– Да будет стремление – и прозрение наступит! После этого все собравшиеся спели псалом, в котором были и такие слова:
Счастливы те, кто претерпел страдание,
Ибо они должны постичь покой.
Посеявшие слезы -
Пожнут радость.
Датчанин-фогт и его семейство пели вместе со всеми. И хотя псалом исполнялся на датском языке, фогту было невдомек, какой смысл вкладывали норвежцы в слова «страдание», «слезы» и какой «радости» они ожидали.








