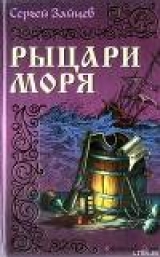
Текст книги "Рыцари моря"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 5
Устье речки Кемь Копейка сумел отыскать даже затемно – знал всякие приметы, но не говорил о них. Все были несказанно рады берегу и верили уже в свое спасение, однако сомневались, действительно ли они вошли в Кемь или это какая-то другая река – ведь немало их носило по морю и ветрами, и течениями, не мудрено было сбиться с пути; а приметы отыскать глухой осенней ночью казалось делом немыслимым; и только звезды показывались временами в разрывах меж туч – совсем ненадолго, и ничего не освещали. Так Самсон Верета, купец новгородский, бывавший однажды в Кеми, сказал Копейке о своих сомнениях. Но кормчий в скором времени показал ему на бледные огоньки селения Кемь. Верета согласился – похоже. И все восхитились умением кормчего.
В селении этом в славном доме купцов, корабелов-мореходов, рыбаков и зверопромышленников жил брат Копейки – Игнат Кемлянин, торговец, известный по всему Поморью, а также в Лапландии и на северном берегу Норвегии, а также в некоторых городах ганзейских. Самсон Верета тоже знал его и даже вел когда-то с ним торговлю. И весьма хвалил его. Оборотист был кемлянский купец; и имеющий дело с ним всегда получал большую выгоду – оттого дело его, всем желанное, росло, а сам Игнат был всеми любим. По любви этой или, может, за малый рост люди прозывали Кемлянина между собой Игнашкой. А было Игнашке полета лет. Дело свое он начинал в Соли Вычегодской еще мальчишкой – под широким крылом Аникея Строганова. Пригретый по-родственному, по-поморски, он вначале варил соль, потом, подросши, учил варить ее других. А сам все по сторонам посматривал, ибо тесно было Игнашке в солеварнях. Вскоре сладился Кемлянин с топориком; своими руками, по-поморски, построил корабль и отправился торговать солью в дальние земли. И благословил его Аникей Строганов на собственное дело – увидел в Игнашке пользу. Помог ему на ноги стать, а уж после за его посеребрившуюся руку взялся и сам ступил дальше на север. Кемлянину с таким мощным покровителем жилось преспокойно: ни разбойника, ни татя, ни беса, ни царя московского не боялся ибо были влиятельны и богаты Строгановы невообразимо. После царя Иоанна они сами были как будто цари – и торговали, и судили, и наказывали, и строили города, и торили дороги, и владели обширными землями; а также бывало Строгановы ссужали деньгами царскую казну и, бывало, подсказывали царю выгодное дело; сами из уважения к государю ставили себя много ниже царского трона, но частенько случалось, что могли бы и выше поставить, занестись. Не заносились. Должно быть, Иоанн понимал это и ценил; за преданность и поддержку жаловал новыми землями – Каму едва не всю подарил да реку Чусовую. И Строгановы не скупились, золотом-серебром отдаривались. Оттого выходило – еще больше имели золота-серебра. Мудро строили жизнь и дело.
Вот у этого-то Кемлянина-брата, верного строгановского человека, и пришел искать помощи беглый Копейка. Хорошо знал к нему путь, потому что каждый год ходил этим путем по нескольку раз. Истинный был помор: берега Беломорья помнил, как стены и углы собственной избы, к пристани Кеми правил с закрытыми глазами.
Все не стали входить в селение, затаились в темноте под мостками. Пошел один Копейка и скоро вернулся с братом. Тот был с ним рост в рост, лицо в лицо, только постарше да держался увереннее – привык над кемскими верховодить; он каждое слово свое ценил и имел деловую хватку – знал, что предложить, прежде, чем предлагать.
Сказал Кемлянин, что погони с Соловков или еще откуда-нибудь им уже можно не опасаться, – до самого лета теперь заперты острова, а по льдам бегать, жизнью и ладейками рисковать монахи не станут. Но и на людях появляться беглецам, в церквях да на пристанях, тоже не следует: о том, что Копейка, младший брат Кемлянина, заточен на Соловках, в Поморье каждая собака знает. И если увидят Копейку ненароком, то сразу поймут, что к чему. Про Ивана Месяца также прошел слух от богомольцев: томится будто в темной келье юный боярский сын – против царя в глаза царские дерзнул!… Еще вот что сказал Кемлянин: к самоедам идти, у которых многие беглые находят приют, поздно – вот-вот разгуляются бури, и тогда не море будет, а ледяная каша; посуху на юг пробираться об эту пору, к Новгороду или Вологде, – чистое безумие! Да и для чего? Искать плахи или петли? Выбирать между смертью сегодняшней и погибелью завтрашней?.. От этого шага Кемлянин взялся их отговорить и сказал, что ныне смутно и жестоко на Руси, сказал, что без следа исчезают люди честные и безвинные: «Вам о том лучше меня знать – кто и куда!»; да только с каждым годом исчезает все больше людей, и уж целые села выгорают дотла, до печей, стоящих сиротливо, и некому возле тех пожарищ скорбеть. А кромешников, государевых опричников, краснорожих вымогателей и пьяниц, народ рассаживает у себя в домах под образами да потчуют лучшими блюдами, да всячески умасливают – кто на что горазд, но спиной к ним не поворачиваются, так как боятся удара в спину. В Кеми оставаться беглецам – Кемлянин не выгонит; однако чуть погодя сам поплатится за укрывательство, и уже никакой Строганов не убережет его от тех же Соловков…
Предложил им Игнат Кемлянин укрыться до весны на болотах, в заброшенном скиту, а там уж и решать, как быть дальше. Не могли не согласиться с ним. Тогда принес им Кемлянин мяса и рыбы и несколько хлебов, а также две пищали и баклажку с порохом и пулями. Лодку отогнали под окна его большой избы и там затопили до лучших времен. И ушли на болота, на лесистые острова посреди них; отыскали там скит – сруб-келью с покосившимся шестиконечным крестом на ветхой кровле; и поселились в этом скиту. Игнат Кемлянин обещал не забывать про них, наведываться раз в неделю. И обещание исполнял.
Здесь в глуши осмотрелись, вздохнули облегченно. Однако чувством полной свободы проникнуться не могли – обитель Соловецкая еще долго держала их; за годы заточения она проросла в них, стала им как болезнь, для излечения от которой требовалось время. И лекарства от этой болезни пока не знали. Никто из них даже не представлял, куда ему податься с наступлением весны. И даже Месяц, который не однажды говорил, что его путь лежит на север, ни разу не обмолвился о том, где конец его пути, – должно быть, он сам того не знал; как бы то ни было, но все спутники его согласились с иноком Хрисанфом, который сказал: «Для пташки, упорхнувшей из клетки, – повсюду желанные небеса. Можно и на север…». И больше не мучились этим вопросом; подумали, что Месяцу, водившему дружбу с самим Сильвестром, разумнейшим из разумных, – виднее с его высоты, с его семи пядей. А как надумали идти за Месяцем, так Соловки как будто отодвинулись далеко и ослаб их ярем.
Михаила и Фому, братьев, расспросили – кто они и откуда. Те рассказали о себе: родом они были из Твери, из семьи крепкого землевладельца, считавшегося одним из самых богатых горожан. Землевладение их было вотчинное – не казенное и не церковное, – и оттого отец их слыл человеком независимым. Также говаривали про него, что очень себялюбив, но это говаривали злые завистливые языки. Ни в земщине, ни в опричнине семейство Михаила и Фомы родственников и дружеских связей не завело, жили сами по себе. Службу государеву исправляли, ставя за себя наемных ратников. Но однажды над их домом взошла недобрая звезда: трое опричников, позавидовав их богатству, нагрянули к ним во двор и сделали обыск. Нашли за сусеком тайное письмо, якобы писанное отцом семейства в Литву к беглому князю Курбскому, донесли то письмо до государя… Отца в скором времени без всякого дознания казнили – руками тех же, кто подло подбросил ложное письмо. А Михаила и Фому, совсем юных отпрысков, услали в Соловки, в монастырские работы. Их крепкое хозяйство и вотчинные земли поделили между троими лихоимцами: первый из них был лжец, второй – неправедный судья, а третий – палач. И все они были любимцами и наушниками государя и исправно ему служили… Лелеяли мысль о мести Михаил и Фома, мечтали вернуться однажды в родную Тверь, в дом родительский, и свести с опричниками счеты – сосчитать до трех… трижды махнуть палашом… Месяц им сказал: «В том невелик прок – трем петухам кровь пустить. Головы свои только подставите, а на теплый шесток сядут другие петухи. Можно ли добиться правды в царстве бесчестных?..» Инок Хрисанф и Копейка поддержали Месяца: «Головы сложите, братья, а правды в этом деле не добьетесь». Самсон Верета предложил: «Оставайтесь лучше с нами». И они, поразмыслив, загнав обиды и желание мести в самый потаенный уголок души, остались пока; сказали, что рано или поздно возмездие совершится – святая вера в это порой только и остается честному человеку.
От Игната Кемлянина скоро узнали то, что уже всем было известно: игумен соловецкий Филипп возведен в Москве в верховный сан – сан митрополита. И узнали, будто сразу вышли у Филиппа трения с государем – в беседе о разделенном и истерзанном царстве; и будто Иоанн, проявив несвойственную ему в последние годы гибкость, уклонился от трений и спрятал свой гнев, – должно быть, понимал, что говорит с лучшим и добродетельнейшим из умов российских, – а только просил государь Филиппа не вмешиваться в дела мирские и делать исключительно свое дело, первосвятительское, быть для людей поводырем на пути к Господу. Филипп же якобы ответил, что все пути земные – это и есть пути к Господу; Филипп сказал – важно, с каким сердцем человек идет по этим путям. Но последнее слово в этом споре все же было слово царское – Иоанн, не повышая голоса, велел Филиппу замолчать. А в народе пробудилась надежда, что с добрым митрополитом посветлеет на Руси, что прекратятся бесконечные войны, сократятся поборы, что не будет больше преследований и истязаний безвинных, не будет казней и погромов, что остановятся бегущие в Литву. И действительно – как будто посветлело в царстве Иоанна; благодарный народ толпами повалил в церкви, народ теперь без страха гулял по улицам. А растленные любимцы государя весьма приуныли без казней и погромов, без пыток и насилия.
Еще говорили с Кемлянином в ските о царстве Аникея Строганова. Шагнул хваткий купец на восток до самого Урала и устремился он на запад – прочно стал на нарвской пристани, отвоеванной у Ливонии восемь лет назад. Торговал солью, хлебом, сибирской пушниной, лесом, воском. Бил но рукам, сговаривался с купцами голландскими и датскими, загружал трюмы ганзейских и английских кораблей, звал норвежца и франка к своему хлебосольному столу. Им нахваливал Строганов всемудрого царя Иоанна, который, видя далеко, больше других понимает, который живет сегодня завтрашним днем, и царство за царством прибирает к себе, собственных земель не теряя. Говорил Строганов, что порой от одного злого пользы больше, чем от дюжины добрых… То, что щепки летят, – говорил первый на Руси купец, – так это ничего, это потому, что лес валят. Никак без щепок нельзя!… Купец за дружеской доверительной чаркой по-свойски советовал гостям не прислушиваться к стукам на Руси и не пугаться – делу ихнему сей стук не помеха. «Через земля российские со всей Волгой сможете торговать и С Сибирью – сказочно богатой страной…» Быстро наладилось дело: с самого начала, от первых нарвских сделок, от ожившего нарвского плавания все торгующие стороны оказались в большом прибытке.
Про царя Иоанна, про его всемудрость, понятно, не согласились в ските, поскольку имели о нем свое помышление – соловецкое. Про строгановское же царство в царстве, про размах дела его слушали с удивлением, хотя прежде слышали не раз, что богатеям Строгановым нет равных в России. Не царских кровей – простой купец, не святой – человек человеком, не великан и не бессмертный. А вот голова!… Сам себе царь, сам себе пророк, ибо знает дело, знает нужды и слабости людей и умеет подчинять других своей воле.
Потом повел Кемлянин речь о нарвском плавании. Сказал, что и прежде было непросто торговать в Восточном море, а теперь и подавно, так как Ливонская война потрясла и пошатнула то, что казалось крепким, выстроенным на века, а то, что было слабым, доломала вовсе. И прибавилось у России недругов; тем недругам была не по нраву набирающая силу нарвская торговля, от которой Россия богатела и являла собой все более опасного для них соседа. Им была бы мила Россия, царство Иоанново – как царство тьмы, дикости и насилия, как черный монастырь, вместилище зла, где настоятелем – сам Сатана, а братия – бешеные псы, растаскивающие от плахи теплые кости. Хотелось бы недругам, чтобы Россия, приумножая собственное зло, сама же в себе от того зла и сгорела либо ослабла настолько, что ее, словно беспомощную овцу, они могли бы стричь два раза в год. Им нарвское плавание было, как будто нож в сердце, потому что по пути этому шли в Москву и ремесленники-мастеровые, и художники, и воины, а также оружие, книги – знания из которых, как недруги полагали, россияне немедленно употребляли против них же. Путь через Нарву уже становился кратчайшим путем в Персию и Индию – по дорогам все той же ненавистной России. Корона Польская и король шведский объединились в море против тех, кто ходил торговать в Нарву, и для разбоя наняли особых людей, каперов, что означает по-голландски – захватчики. Эти каперы, преимущественно немцы и фламандцы, стерегли корабли на морских путях вблизи берегов Ливонии и на подходе к Нарве и топили те корабли или отнимали товар. По этой причине многие купцы уже боялись торговать с Россией, многие, отказавшись от выгод, забыли про нарвский путь, а тех, кто еще ходил, становилось все меньше. Смельчакам приходилось сбиваться в большие караваны, чтобы при случае всем вместе обороняться от каперов. Однако и караваны подвергались нападениям; бывало, что приходили они в нарвский порт потрепанные и с большими потерями. Российская торговля чахла, а недруги оттого испытывали много радости. Недремлющим оком оглядывали Восточное море поляки из Риги и Данцига. Шведы из Ревеля писали Иоанну ласковые письма. Правой рукой вручали те письма послам, а левой щедро одаривали морских разбойников; думали – слеп Иоанн, думали – не видит он их тайной игры. Мечтали Нарву у русских отнять.
Но никто не оспорит того, что хватка у российского государя мертвая – одним лишь пальцем зацепился он за морской берег, а уж весь готов был к нему подтянуться. Прочувствовал Иоанн многие выгоды морской торговли и теперь ни за что не хотел отпускать эту нить – нарвское плавание. Каперы не пугали его. Не Иоанн придумал клин клином вышибать; Иоанн придумал ударить по каперам каперами – ветхие запоры с Восточного моря сорвать и пробиться в заморскую житницу. Знал Иоанн силу русского оружия на суше, предвидел ее и на море. Говорил сомневающимся боярам, что без моря России не бывать. С Аникеем Строгановым государь сговорился о каперах, и Строганов для этого дела уже подбирал людей и готовился строить корабли… Здесь Кемлянин повел такой разговор: не стоит ли им, беглым узникам соловецким, пойти к тому Строганову, пасть ему в ноги и проситься в морскую службу – все будет лучше, чем прятаться по скитам и пустыням и бояться назвать людям свое имя. Дело Строганова – дело с будущим. А царь с Божьей помощью простит; увидит пользу от их дела и забудет их вины.
Самсон Верета, сам купец, ответил с сомнением:
– Хорошее было бы дело – это верно. Да не хотелось бы на строгановскую мошну спину гнуть!…
А другие не поверили в царскую милость. Знали, что и с безвинных головы, как шапки, снимает, а уж виновным тем более несдобровать. Да и вкусили уже от милостей Иоанновых. Иван Месяц сказал Кемлянину, что никто из них не стремится обратно в лапы к игумену Паисию; и не для того они от государевых слуг бежали, чтобы к государевым слугам прибежать. Месяц сказал, что у них пока есть только один разумный выход – уйти в Лапландию и затаиться, переждать там время среди самояди-лопарей. Потом, когда в Соловках забудется про их бегство, идти в земли, где повольготнее, – за Волгу или на Дон.
Кемлянин посожалел об отказе, но убеждать не стал; он сказал только, что про побег с Соловков не скоро забудется, поскольку подобный дерзкий поступок до сих пор удавался немногим и каждый беглец на памяти – становится достоянием предания. Узнав от Месяца о твердом намерении бывших узников идти в Лапландию, Кемлянин предложил им существенную помощь в виде старой своей двухмачтовой ладейки; сказал купец, что новую ладейку он заложил уже возле дома – лекалы под основание сбил, – и к весне будет готово судно.
Глава 6
Едва только сошел лед с Кеми-реки и разлилась она половодьем, столкнул Кемлянин свою старую ладейку с бревенчатых городков на воду. Закачалась ладейка, дала первую течь. Приготовил Кемлянин паруса и снасти, а также погрузил на судно кое-какой товар – сам грузил, носил мешки на плечах; и делал это ночью, прячась от посторонних глаз, днем же на самом виду чинил старые сети. Но кемские видели его приготовления и удивлялись: «Самое время новую ладейку на воду пускать, а он старой занялся… чинит рваные сети да на море, будто рыбак, глядит. Но мы-то знаем, что он за рыбак!…». Разбиралососедей любопытство. Приходили, предлагали помощь. но Кемлянин хмуро качал головой. Кемские догадывались: Кемлянин придумал какую-то новую хитрость, а хмурится – чтобы не расспрашивали.
– Разгадай, бедняк, замыслы богатого – и сам станешь богатым.
А Кемлянин слыл самым богатым не только в Кеми, но и далеко окрест; и от своих хитрых замыслов, от молчания богател еще больше. Так и не отставали от него кемские, пока он не вышел в море. Пошел один – вот опять головоломка. И с парусами управлялся, и к рулю успевал.
Пощади, бедняк, свою голову. Богача, может, разгадаешь завтра; но он к тому времени уже положит барыш в карман…
Немного севернее Кеми, в устье речки Поньгомы встретил Кемлянина его брат Копейка. А чуть погодя вышли из леса и остальные и поднялись па борт.
– До Мурмана легко дойдете, – сказал Кемлянин. – А там уж сами справитесь – что допустите к душе, то и возьмете. Людей на Мурмане немало промышляет. Обшлажных секретов им не доверяйте и за пазуху к себе не пускайте; не обманывайтесь, что до государя далеко – где есть слуги его, там и он сам.
С этими словами Кемлянин сошел на берег, махнул рукой, и больше его не видели.
Инок Хрисанф перекрестил след Кемлянина:
– Господи! Дай нам удачи воздать добром за добро.
Ладейка вышла в море и пошла вдоль берега на север, оставляя то слева, то справа от себя мелкие острова. Хорошо знал плавание Копейка, так как прежде много раз ходил на Мурман. Внимательно поглядывал он на берег, выискивал приметы: то знакомую скалу или речное устьице, то наклоненную сосну, то горку из песка. Увидит Копейка одному ему понятный знак, рулем поведет да обойдет благополучно скрытые водой камни. Кто-то другой, не знающий местных примет, глядел бы сейчас, любовался видом берега и поплатился бы днищем, если вообще не головой. Копейка же стоял себе у руля и улыбался – улыбался впервые после Соловков; он вернулся к любимому делу, он был прирожденным кормчим…
Пришло время, весь подобрался Копейка, всмотрелся в линию берега и, опять найдя нужный знак, направил ладейку в открытое море; и пояснил: слева осталась Кандалакшская губа, а впереди будет Лапландия.
Землю увидели уже на следующий день: берег был кое-где еще покрыт снегом, а лес уже сбросил с себя снежный покров. Чем дальше продвигались на восток, тем меньше становилось лесов и болот и тем выше поднимался берег. Редкие холмы сменялись горами. Горы эти, как будто полки мифических великанов, приходили к морю откуда-то из середины Лапландии и были все выше и мрачнее. Безотрадное зрелище: серые камни, мхи, снега. И ветер, ветер… Облака в небесах были такие же серые и угрюмые, как горы, – словно отражение гор. Изредка встречались небольшие селения карелов или лопарей: то приземистые избушки с покатыми крышами, то остроконечные коты самоедов. Раза два видели невысокие деревянные церковки с крестами на крышах. Там поблизости обитал люд православный. Все селения лепились к руслицам мелких рек и иногда прятались между холмами так искусно, что с моря их было нелегко разглядеть.
В устье реки Поноя встретили много лопарей. И провели среди них несколько дней, пока на море бушевал шторм. Эти лопари были в большинстве христиане; некоторые из них не без гордости заявляли, что в веру Христову их обращал собственнолично преподобный Трифон из Печенгского монастыря – самого северного монастыря России. Имя Трифона лопари произносили едва ли не с благоговейным трепетом, как имя величайшего на Мурмане человека, как имя святого. Но ни Месяцу, ни иноку Хрисанфу, ни остальным в ладейке это имя ничего не говорило. Однако они, дабы не обидеть гостеприимных хозяев, отзывались о Трифоне с почтительностью.
Далее берег повернул строго на север, изрезался, образовав мысы и заливы. Пустынный и сумрачный с грязно-белыми языками снегов в ложбинах, с частыми нагромождениями камней, он время от времени оживлялся видом летних пристанищ поморов, прибывших сюда на промысел рыбы – сельди, трески, палтуса. Избушки рыбаков, построенные из чего попало – из остатков кораблей, обломков весел, из кривого чахлого леса, камня, – присыпанные, укрепленные со всех сторон песком и щебнем, были истинным детищем промыслового берега Лапландии. Только здесь и можно было встретить такие, и без них пустыню Лапландию трудно было бы отличить от других пустыней, каких немало в северном тридевятом краю земли.
Когда дошли до полуострова Святой Нос, кормчий Копейка причалил к берегу в одном, хорошо известном ему месте, и сказал, что нужно переждать здесь несколько дней и хорошенько помолиться, иначе мыс, своенравный и блажной, не пропустит их – столкнутся у мыса приливы и отливы и ввергнут ладейку в бездонную пучину, как уже ввергали многих спешащих, не желающих преклонить свои колена. Правду сказал Копейка – беспокойно было на море даже в солнечный день, тревожило душу каким-то неизъяснимым светом, исходящим от его волн. Кормчий остался молиться; с ним брат Хрисанф, а также Михаил и Фома; казалось им, обрели в молитве спокойствие. А Иван Месяц и Самсон Берета пошли узким перешейком на другую сторону полуострова, где река Иоканга несла свои воды в залив. Однако до Иоканги оказалось значительно дальше, чем это представлялось им поначалу. Только на следующий день они достигли ее и, разувшись, омыли в ней уставшие ноги. Потом поднялись на несколько верст вверх по течению, чтобы осмотреться, ибо дальше берега они не знали Лапландии. И тут увидели впереди себя человека, который, не замечая их, в глубокой задумчивости сидел на берегу реки и следил за быстрым бегом ее вод. Телом невелик был сей человек, черноволос, лохматенек, одежонку имел обветшалую; по всему было видно – лопарь. Река возле него шумела, заглушала все иные звуки, и потому приблизились к нему незамеченными. А как услышал все же лопарь хруст камешков под ногами, так обернулся и, испугавшись, бросился бежать. Но догнали его Месяц и Берета, посадили на землю, где остановили, и дали глоток вина.
Как захмелел лопарь, так и растаяли его страхи. Россиян, которых только что боялся, назвал православными братьями и сам назвался. Имя его было Поавила-Выхча, что означало по-местному, по-саамски, Павел с Выхчи. А Выхча – это один из притоков Иоканги.
Поавила сказал:
– Там высокие горы. Там руки поднимешь – и будешь небо держать на руках…
А Месяц и Самсон поверили, закивали. Сказали:
– Мы слышали, что много чудес есть в этой земле – не только речки да камни.
– Много чудес, много чудес!… – не мог не согласиться Поавила-Выхча. – Олени есть, рыба есть, человек есть…
Так за разговором и россияне выпили вина, и тоже захмелели. В знак завязавшейся новой дружбы Иван Месяц обменялся с Поавилой нательными крестиками. И лопарь, добрая открытая душа, пригласил друзей своих погостить к себе в становище, которое находилось двумя верстами выше по руслу Иоканги. Однако Месяц и Берета отказались, потому что им пора было возвращаться к судну; но прощались с Поавилой не надолго, им пришлись по душе эти места, и решили задержаться здесь.
Святой Нос обошли благополучно. Кормчий Копейка был настоящий кормчий. Однако и с ним натерпелись страхов, когда в час прилива могучее течение повлекло ладейку в залив, грозя разбить ее об острые скалы, – едва отбились от этой стремнины, и весла пустили в ход, и искали парусом ветра. Уже потом, по спокойной волне завели судно в тихую бухту
Вначале поселились в приземистой избушке промышленников, слегка подновив ее и обустроив кое-каким скарбом, перенесенным из ладейки. И до конца лета ловили рыбу: сельдь и палтус солили в глубокой яме, а тресковые тушки сушили на берегу. Кое-что из заготовленного удачно продали поморам, возвращающимся к осени домой, часть рыбы оставили себе на зиму и еще одну часть отдали самоедам. С приближением холодов и льдов ладейку вытянули воротом на берег и подложили под днище городки. Сами поселились в большом становище самоедов в одном из котов гостеприимного Поавилы-Выхчи. Жилище их было устроено из кривых жердей лапландской березы, из китовых ребер и позвонков, снаружи обшито берестой и тщательно выложено кусками дерна. Таков кот – с кострищем посередине и с дымовым отверстием наверху. Ели то, что ели лопари: рыбу и оленину. И одевались в лопарское, и говорили на их языке. А когда впервые увидели празднество лопарей и их танцы, когда услышали их песни, поверили тому, что все лопари немного колдуны. Рождество Христово россияне справляли просто: вышли из душного кота наружу, бросились в глубокий снег и лежали молча, навзничь, друг возле друга, и следили за мерцающими в небесах сполохами сияния.
Было однажды, подходили к становищу финны из верховий Иоканги, хотели забрать у лопарей оленей и рыбу. Держали те финны в руках большие кривые ножи. Лопари очень испугались и страшно закричали. На этот крик вышли из жилищ россияне. А были они все к тому времени заросшие черными и русыми бородами, одетые в шкуры – ростом большие, много больше лопарей, и видом грозные; но инок Хрисанф был самый большой и выглядел самым грозным, ибо его черная с проседями борода начиналась от глаз. Финны не решились напасть на становище и ушли. А россияне еще ходили за ними по следу и в одном месте настигли их, и стреляли в них из пищалей-ручниц – опасались за ладейку. Никого из тех финнов не задели – крови не видели на снегу, – однако нагнали на них премного страха и наладили грабителей в дальний путь. Лопари очень радовались и благодарили россиян за защиту. Говорили, что раньше, когда они ставили свои берестяные жилища по берегам реки Колы, к ним часто приходили финны и мурмане и многое забирали: оленя, шкуры, рыбу, собак, женщин, моржовую кость. Тогда лопари Поавилы-Выхчи перенесли свое становище на реку Печенгу к русскому монастырю и там из рук Трифона, доброго пастыря, приняли православие. Но все равно приходили грабить их чужие люди: то финны, то мурмане – сами ленились промышлять, не имели своих котов, забыли своих жен, искали легкой жизни, бродили там, куда ноги несли, и кормились от грабежа. Обходили стороной русский монастырь и ломали жилища саамов. Принуждены были бежать саамы на восток, на родину Поавилы, на речку Выхчу. Здесь воли было больше, но меньше корма оленям. Однако и сюда добрались недобрые люди, стращали ножами простодушных лопарей. Теперь радовались лопари – не скоро вернутся грабители.
Пришла весна, и с ней – туманы. Ветры утратили свое постоянство, началось брожение льдов. На побережье снова появились рыбаки. Эти – самые первые – приходили на Мурман посуху, через всю лапландскую тундру, через горные гряды.
Наконец, в месяце мае льды оторвались от берегов и скрылись в океане. Долгой вереницей потянулись с юго-востока поморские суда. Промысловики оседали в своих излюбленных местах; учитывая ветер, вели ловлю: ветер с моря – рыба к берегам. Поавила-Выхча прощался со своими гостями. Россияне прикатили лопарям бочонок кемлянского вина. От того бочонка все становище гуляло два дня. Звали россиян обратно в гости, желали им тихой воды и скорого возвращения…
Весь Мурманский берег прошли за несколько суток. Он был почти прям, был однообразен: холмы, скалы, мелкие порожистые речки, пятна не растаявших снегов, одинокие становые избушки и целые селения промышленников… Вблизи устья реки Колы им встретился челнок с четырьмя государевыми служилыми людьми. Те приказали спустить парус и спросили, кто владелец ладейки и куда держит путь. Месяц ответил им, что он купец, торгующий солью, и идет к Печенге, к монастырю. Тогда государевы люди спросили, нет ли на судне кого из посторонних и не просился ли к ним кто-нибудь на Мурманском берегу. На это Месяц сказал, что поднимались к нему на борт лишь продающие рыбу.
Здесь люди государевы предупредили:
– Стерегитесь, в округе полно беглых. Никого к себе не пускайте. Голову отрежут, имени не спросят. Беглые – дрянь-народ!…
Потом четверо служилых переговорили между собой и захотели на всякий случай осмотреть груз. Но инок Хрисанф сказал им оставаться на местах:
– Откуда нам знать, не есть ли вы те самые беглые! Государевы люди рассмеялись:
– Ваш поп любит пошутить… – и они ухватились руками за борт ладейки.
Но тут из-за спины Хрисанфа появились Михаил и Фома, братья, с пищалями-ручницами наготове. А Самсон Берета взялся за багор.
Тогда те четверо в лодке опять рассмеялись и показали Хрисанфу грамотку, в которой означалось, что они именно те служилые люди, за которых себя выдают.
Двоих из них пустили на борт и показали им шесть мешков строгановской соли. На этом расстались.
Когда лодка была уже далеко, Михаил и Фома спрятали ручницы и спросили, не их ли это разыскивают. Но Копейка выразил в том сомнение; он сказал, что здесь, на Коле, проживает множество ссыльных – царь Иоанн присылает их десятками. И часто бегут отсюда люди – их разыскивают. Однако же редко кому удается совсем убежать: сосланные не знают моря, не знают Мурмана – и они либо приходят чуть живые обратно в Колу, либо погибают. Кому-то, может, и посчастливилось уйти с финнами или лопарями, кому-то показался недалеким путь до соседней Норвегии – кормчий сказал, что о том он уже толком не знает…
Теперь внимательнее всматривались в берег. И на одном мысу действительно заметили нескольких человек, которые при их появлении бросились прятаться среди камней. Копейка подвел судно к мысу так близко, насколько мог, и тогда с ладейки все рассмотрели некое подобие плота, на котором эти люди намеревались перебраться на другой край бухты. Плот, брошенный у прибоя, бился о камни и расползался на глазах. Плыть па нем можно было, пожалуй, лишь к собственной погибели, а надеяться на него могли лишь люди, доведенные до крайнего отчаяния.






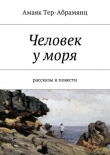
![Книга Наступление моря [Нашествие моря] автора Жюль Габриэль Верн](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nastuplenie-morya-nashestvie-morya-139456.jpg)
