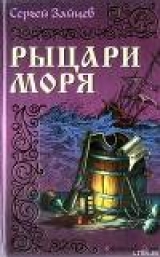
Текст книги "Рыцари моря"
Автор книги: Сергей Зайцев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Люсию короновали двенадцатью свечами – их, уже зажженные, укрепили в венке на голове девушки. И тогда многие, глядя на эту корону, сказали:
– Разве не стало светлее?.. И еще сказали:
– Посмотрим завтра – не короче ли уже ночь… Люсия отправилась в обратный путь. Она шла по тропе, уже хорошо протоптанной и широкой, шла вдоль длинной вереницы людей, каждый из которых спешил прикоснуться к плечу девушки или к ее венку. Иногда Люсия останавливалась и одаривала кого-нибудь свечой из короны. Так она дала свечу Большому Кнутсену и пожелала:
– Чтоб от посева до жатвы всем бондам было светло. И оставила свечу в руках рыбака:
– Пусть в сетях твоих будет светло от обилия рыбы. Также не забыла Люсия купцов:
– Серебро в кошельках – много маленьких солнц! И датчанину-фогту сказала:
– Будь спокоен в ночи…
А ремесленникам пожелала:
– Floreat[7]7
Пусть процветает (лат.)
[Закрыть]!
Свечи снимала одну за другой. Шла, поскрипывала снегом. Прижимала к сердцу Евангелие. Андресу нажелала в близком будущем счастья. Купца Шриттмайера Люсия обошла стороной. Очень огорчился от того Большой Кнутсен и на сияющего Андреса взглянул хмуро. А Шриттмайеру одальман красноречиво кивнул – дескать, все образуется; хороша королева в горностаях, но себе она не принадлежит – поступит так, как укажет ей стоящий рядом, который горностаев и не примеривал…
Неожиданно Люсия остановилась возле Месяца. И они встретились глазами. А до тех пор еще ни разу не видели друг друга так близко. Месяц поразился, как она была юна и нежна, как похожа она была на богиню и своем венке, в свете пылающего у нее за спиной громадного кострища, в свете тысячи факелов, – и она взволновала его так, что у него учащенно забилось сердце и вдруг пересохли губы, и глаза сделались непослушными – они захотели пить и пили. Месяц давно не смотрел на женщин так… Маленький родник при этом покрылся трепетной рябью. К нему прильнули, и он дарил свежесть. Брови Люсии удивленно приподнялись. Она, богиня света, быть может, впервые сегодня по-настоящему дарила свет. И ощущала оттого радость. Человек этот, с пристальным взглядом, как будто остановил время для нее, заворожил – чтобы она могла ощущать радость вечно. Он был очень не похож на других. И опять удивленно сдвинулись ее брови.
А норвежцы сказали:
– Ты, может, не знаешь его, Люсия… Он – Юхан, он – с русского корабля.
– Я знаю. Я видела издали…
Люсия нащупала последнюю в венке свечу, сняла ее и отдала Месяцу:
– У господина капитана красивый корабль. Пусть будет светел его путь!…
И пошла дальше, и не оглядывалась. А Месяц смотрел ей вслед, и каждый ее шаг, каждое движение ее рук, плеч, головы казались ему прекрасными движениями; и еще он думал о том, что она, наверное, чувствует, как он смотрит на нее, – и, может быть, думает сейчас о нем. У него в руках горела свеча, в ней были свет и тепло. Свеча изгнала тьму, свеча была прикосновением богини. Думая об этом, Месяц стоял на месте. А люди потихоньку покидали холм. В руках у многих также горели свечи. Догорающее кострище согревало Месяцу спину. Потрескивали и чадили факелы. А снег все сыпал и сыпал…
Рождество праздновали на Кнутсен-горде. Здесь были и молитвы, и забавы, и щедрое застолье, были песни и гуляния. Лютеране и православные дарили друг другу подарки и танцевали в одном кругу. Они объяснялись на всем понятном смешанном языке, в котором звучали и норвежские, и русские, и датские, и финские слова. Это был чудесный язык северных купцов и мореходов… Пришли на праздник и люди из соседних хуторов – в основном женщины, которые знали, что у Кнутсенов в этом году мужчинам тесно. Только не было на месте Андреса. А Большой Кнутсен часто раздражался и ни у кого не спрашивал, куда подевался его молодой родственник из Вардё. О чем-то тревожно перешептывались кухарки. Месяц спрашивал у гостей, не видел ли кто из них Андреса. Но пойти пожимали плечами и продолжали веселиться. А кухарки на расспросы не отвечали.
Самсон Верета, новгородский купец, лучше всех россиян знавший язык купцов, предпочитал все же язык любви. И рождественскую прекрасную ночь он проводил в зернохранилище-лофте, однако уже не с Анне, а с другой служанкой – датчанкой по имени Йоханна. Самсон был парень не промах – и жох, и хват, – и, похоже, понимал толк в зерне. В то время, когда Анне, мучимая ревностью и обидой, заперлась на кухне и перетирала пшеничные зерна в зернотерке, точно такие же зерна налипали на стройное тело Йоханны.
От Йоханны Самсон Верета узнал, что между Андресом и Большим Кнутсеном незадолго до Рождества вышла ссора, и оттого будто бы Андрее был вынужден спешно покинуть Тронхейм. Больше служанка никаких подробностей не знала, и никто, как видно, не знал, и поэтому в городе и окрестностях стали появляться разноречивые слухи. Сам Эрик Кнутсен только усмехался, когда эти слухи доходили до него.
Ивану Месяцу на вопрос – куда подевался Андрее, – одальман ответил с неохотой:
– Мальчишка много мнил о себе и перешел дорогу достойному человеку. Мальчишка преступил рамки приличия, но не вменял себе этого в вину. А когда я призвал его к ответу, он попросту струсил и куда-то сбежал… Я думал, он будет бороться, но он не стал бороться. Оказалось, что он способен только на скандал. Я уже ничего не имею против него…
Под покровом ночи тайно пришла к россиянам верная служанка Люсии и пересказала слова Андреса, обращенные к ним: на одном из судов Ван Хаара он матросом отправился в Берген, где и собирается ожидать прибытия «Юстуса»… Далее служанка поведала обо всем, что произошло. В несчастьях Андреса она винила только себя – свои бестолковость и сонливость. Все сейчас могло быть хорошо, если бы она не проспала приход этого сумасбродного старца Шриттмайера. Однако все мы в руках Господних, сказала она, успокаивая себя, и чему суждено случиться – случается, как бы мы тому ни противились и как бы ни желали обратного. Конечно же и тайной любви должен когда-то наступить конец, и уже не так важно, кто окажется тому виной – проспавшая девица, или неслышная поступь пришедшего, или не прокукарекавший вовремя петух… После этого красноречивого вступления служанка рассказала, что в тот злополучный вечер Андрее и Люсия сидели наверху, в жарко протопленной комнате, и читали друг другу любимые стихи. Причем сидели они очень близко один к одному, и в это время была обнажена прекрасная грудь Люсии. Вошедший в комнату Эрвин Шриттмайер едва не задохнулся в припадке злобы и ревности, но… был принужден покинуть дом. Шриттмайер, человек опытный, не стал изображать из себя доблестного рыцаря, не стал готовить к поединку оружия – он посчитал ниже своего благородного достоинства вступать в серьезные отношения с безродным юнцом, только и ищущим драки. Шриттмайер попросту нажаловался Большому Кнутсену. Он потребовал от одальмана избавить его от всяческих встреч с бесчестным родственником-голодранцем хотя бы в доме Люсии, который он по договоренности обогревал своими дровами; и еще Шриттмайер просил Эрика Кнутсена хоть с несколько большим тщанием хранить честь его красавицы-дочери… Большой Кнутсен, разумеется, внял жалобе и просьбе купца, тем более, что ему и самому очень надоело такое неустойчивое положение, когда за видимыми благополучием и спокойствием, за уверениями в братской любви и в непогрешимости, за закрытыми дверьми и спящими служанками скрываются какие-то любимые стихи и развлечения, грозящие переродиться в нежданный приплод в подоле, – одальман встретил Андреса на улице и объявил ему свои мысли. Служанка Люсии слышала, что ответил Андрее, и видела, как достойно он при этом держался. Андрее сказал, что если бы в тот момент на месте Большого Кнутсена был какой-нибудь другой человек, то он, не задумываясь, обвязал бы его вокруг первого попавшегося кнехта, однако отцу Люсии и своему будущему тестю он не намерен мять бока и потому предпочитает на некоторое время удалиться… «Наглец!…» – сказал Эрик Кнутсен в спину уходящему Андресу, и больше они не виделись… Так все представила служанка, и, пожалуй, так оно и было. В заключение служанка еще раз искренне повинилась, но никто и не думал считать ее виноватой, ибо никто не виноват в том, что растут деревья, что бегут ручьи, поют птицы и что молодые любят друг друга.
Глава 11
Вскоре после Рождества на Кнутсен-горд приехала Люсия. Россияне как раз тогда готовили «Юстус» к спуску на воду. И было вокруг корабля оживление: и много дела, и много суеты, и много разговоров. Датчанка Йоханна пришла к Ивану Месяцу и сказала, что с господином капитаном желала бы переговорить хозяинова дочь. Тогда Месяц поручил работы Копейке и Тойво, а сам пошел за Йоханной, и та привела его в дом, в гостиную, где возле камина его ожидала Люсия.
Когда Йоханна вышла, Люсия пригласила Месяца сесть и заговорила о том, что приехала на хутор по делам (хотя какие могут быть серьезные дела у девицы за могучей спиной отца – одному Богу известно). Люсия, должно быть, испытывала некоторую неловкость от того, что позвала к себе в гостиную малознакомого ей человека, и потому немного волновалась. Говоря без умолку, она пыталась тем самым скрыть свое волнение… Она сказала, что вообще собирается поездить по Норвегии, хотя бы по разу навестить многочисленных родственников, а то ей уже кажутся несносными стены тронхеймского дома, особенно после отъезда Андреса, и она устала от священника-учителя с его скучным учением по книгам, и она возненавидела всех своих ухажеров и более других – нудного жениха Шриттмайера. А тут, сказала с очаровательным румянцем на лице Люсия, задержавшись на хуторе, она подумала, что имеет удобный случай повидать человека, одного из немногих, которые приятны ей и о котором она постоянно помнит.
Месяц согласился с этим:
– Почему же не повидаться с таким человеком…
Он увидел перед собой совсем другую Люсию, не такую, какой представлял ее до сих пор и какую видел на празднике, – тогда в ней было много тепла, доброты и красоты, а теперь осталась от того лишь красота, и к ней прибавилось много решимости, как у человека, которого загнали в тупик и который приготовился бороться.
Люсия сказала, что в последнее время о ней ходит много дурных слухов, и что это огорчает ее. Оказывается, для тайной молвы и кривотолков вовсе не обязательно иметь веские основания – достаточно всего лишь повода; а поводом могут послужить и случайный взгляд, и прикосновение, и чье-то неумное слово. Так, про них с Андресом болтают невесть что: и будто они валялись в снегу, и будто миловались в церкви, и что-то про обнаженную грудь… Люсия удивилась: почему это всех так волнует? Мало ли людей балуется в снегу? Мало ли людей не думают в церкви о молитве?.. Отец ее устроил Андресу уличный разнос. Шриттмайер и до того был надоедлив, а после отъезда Андреса от него вообще некуда деваться – он делает подарки и часто и бестактно напоминает о них, как будто ждет оплаты, он гасит в доме лишние свечи, как будто это уже его дом, он, опасаясь возвращения Андреса, иногда заглядывает под кровать Люсии, чтобы убедиться, не притаился ли Андрее там (вы можете себе представить, господин капитан, смелого и гордого Андреса прячущимся под кроватью?), – и очень радуется, обнаружив, что под кроватью невинной девицы скрывается только ночной горшок. Шриттмайер с нетерпением ждет известий из Любека. Он очень печалится от того, что супруга его оказалась такой выносливой и так отчаянно цепляется за жизнь. Люсия опять удивилась: неужели Шриттмайера не тяготят эти его «достоинства»? неужели он считает, что они никому не заметны? или он выжил из ума? или он мнит себя милым добрым юношей – пилигримом в начале пути, – каковым, возможно, и был лет пятьдесят назад?..
Для Андреса Люсия просила передать кое-какие его вещи и огарок свечи, а на словах следующее: «Не лучше ли было худо остаться, чем хорошо уйти? Я подожду тебя в Тронхейме год-два, а дальше – как поддержит Господь! Пусть ожидание твоего возвращения скрасит мне тронхеймскую скуку…».
Иван Месяц обещал все передать в точности. На прощание Люсия сказала ему, что досужие люди в городе, выспавшись долгими зимними ночами, обговаривают не только ее с Андресом, но и «Юстус», печально известный в Тронхейм-фьорде под названием «Опулентус», а также, увы! его капитана. Почти никто не верит, что господин Юхан – купец. Говорят, что господин Юхан – ловкий капер со смиренным лицом, что за спиной у него немало пасмурных дней, и будто бы он не в ладах с собственным государем… Но в этом также многие сомневаются, ибо замечают, что у господина Юхана честные глаза. Здесь полнейшая неразбериха, заключила Люсия, а где неразбериха, там следует быть осторожным:
– Не доверяйтесь людям, господин капитан. Согласитесь, не часто встречаются бескорыстные. Вспоминайте изредка про мою свечу. И вот вам самый верный советчик…
Здесь девушка подарила Месяцу Евангелие на немецком языке в переводе Мартина Лютера. Люсия была истинной лютеранкой.
Наконец спустили судно со стапелей – выбили молотом придерживающие колоды, поднапряглись, толкнули корпус; «Юстус» медленно и величаво подался назад, потом заскользил быстрее, и вот корма его с шумом и плеском вошла в спокойные воды фьорда, всколыхнула их; судно закачалось, поскрипывая мачтами, и замерло у самого берега – здесь, во фьорде, был полный штиль.
Через два дня после славного пира покинули Кнутсен-горд. Одальман с сыновьями провожал россиян до Тронхейма. Здесь «Юстус» вошел в русло Нид и причалил к пристани. Это событие не осталось незамеченным горожанами. Многие из них пришли попрощаться, и даже сам фогт изволил пожаловать к судну и сказать напутственное слово. Фогт считал себя человеком неглупым, – вероятно, так оно и было – он увидел, что в мире происходит много такого, что вполне могло привести к союзу России с Данией, он сказал, что Великая Дания сумела бы овладеть всем Восточным морем, если бы ее поддержала Россия. И еще неизвестно, какой из этих стран был бы более выгоден сей союз, ибо корабли Швеции и польского короля тогда не то что перестали бы появляться на нарвском пути, а вообще прекратили бы существование; и остались бы на Восточном море два набитых деньгами мешка – датский пролив Эресунн и российская Нарва или российский Ревель, ведь Ливонию проще поделить на две части, нежели на пять частей. Еще фогт сказал, что если бы у российского государя появился на море хотя бы небольшой флот из кораблей, подобных «Юстусу», то Россия и без союза с Данией могла бы наделать бед польской Короне и шведскому королю…
Пока Большой Кнутсен загружал в трюм судна товары для Бергена, на город опустился густой туман. «Юстус» еще неделю простоял в Тронхейме, потому что погода совершенно испортилась – после тумана повалил снег, затем на море сильно штормило, и ни одно судно не отваживалось выйти из фьорда. Все эти дни россияне провели в тавернах и нашли там немало друзей.
Но вот небеса прояснились, штормовые ветры унеслись на север, вдоль склонов Скандинавских гор, и «Юстус», отчалив от гостеприимной тронхеймской пристани, салютовал городу залпом из четырех пушек. На борту судна, кроме россиян, было в этот час до двадцати человек норвежцев, датчан и немцев, направляющихся в Берген, и среди них – Христиан и Карл Кнутсены, сопровождающие свой груз. Большой Кнутсен и Люсия на прощание махали им руками; за спиной у Люсии стоял купец Шриттмайер – он улыбался, и лицо у него было бледно-желтое, как лист старой бумаги.
По сравнению с Тронхеймом город Берген выглядел морской столицей Норвегии. Неисчислимое множество судов – датских, нидерландских, немецких, английских – встретилось россиянам уже на подходе к городу, в проливах между островами. Но еще большее их количество увидели в укромной бергенской бухте – возле набережной, где кипела работа – разгрузка, погрузка. Кораблей было так много и стояли они так тесно, что являли собой своеобразный город на воде, и лавировать среди них было нелегко.
Для того чтобы попасть в бергенскую бухту, всякому судну нужно было пройти мимо крепости, в высоких стенах которой чернело множество бойниц. Крепость надежно запирала бухту с моря, так как обстрел из всех пушек, даже при беглом огне, мог превратить в решето любой дерзкий корабль.
Сразу за крепостью, что была по левому борту «Юстуса», начиналась просторная пристань, занимавшая весь этот берег. За пристанью располагалась широкая набережная, а на нее выходил крылечками тесный ряд высоких светлых домиков с остроконечными крышами – это были жилища богатых ганзейских купцов. Весь остальной берег бергенской бухты был занят посадом в тысячу домов, разных и по внешнему виду, и по достатку, и по назначению, – каменные и деревянные, новые и ветхие, лачуги рыбаков, цехи ремесленников, добротные жилища знатных бюргеров, таверны, гостиные дворы, склады, склады, склады… кое-где возвышались высокие шпили церквей. Весь городской посад был огорожен извитым деревянным частоколом.
Примечательно, что сами норвежцы называли этот свой город – Бьёргюн, а датчане и немцы и иной гостевой народ – Берген. Горы, окружавшие город, были высокие и покатые, покрытые скудной растительностью, пересеченные дорогами и тропами, обдуваемые всеми ветрами. И если бы не море, отрада глаз, и не город, прекрасный муравейник, то вид этой местности был бы достаточно уныл.
В Бергене «Юстус» выгрузил товары Большого Кнутсена, чем завершил исполнение договора с ним. Здесь же россияне продали всю соль; датчанам-перекупщикам выгодно сбыли китовый жир; купили у оружейников несколько ружей и пистолетов, ядра, свинец; завели многие полезные знакомства среди купцов Ганзы и Дании, и одному из них, датчанину Якобу Хансену, подрядились доставить восемьдесят бочек рыбы в Копенгаген. Все эти дела делались не скоро, а посему «Юстус» задержался в Бергене до весны.
За время, проведенное в этом большом норвежском городе, слышали кое-что из вестей российских. Некоторые из них были столь чудовищны, что казались скорее плодом больного воображения, чем правдой. Царские кромешники уже хватали людей прямо на улицах и в церквях, и далеко не тащили, часто убивали тут же – рассекали секирами и оставляли трупы у всех на виду – на площади, на дороге, на паперти – во устрашение дерзких и строптивых, во упреждение заговоров и измен! По указке царя-ирода не жалели опричники ни жен, ни детей; и головы младенцев летели на землю в таком же обилии, как и головы их отцов. Многие славные воеводы, многие разумные деятели, бывшие до этих пор гордостью царства, по наветам клеветников оказались осужденными на ад – и резали их, и жгли на сковородах и жаровнях, и перекручивали головы тесьмами, и дробили им кости; потом выставляли напоказ изуродованные тела и запрещали хоронить их. Было и так: чем славнее, тем мучительнее. Веселился вокруг государя сонм жестокосердных и кривоумных наветчиков, а государь, внимающий их бесовским песням, самолично вонзал нож в грудь очередному опальному боярину… А прошлым летом куролесил-чудил Иоанн, развлекался по-царски. Лучших московских жен, известных красавиц, отнял государь у мужей их и насиловал с любимцами своими, первыми кромешниками. Красивейших и добродетельнейших Иоанн отобрал себе, а остальных рассовал в походные постели опричников – и кружил с ними в окрестностях Москвы, услаждался забавами нехристей, и между забавами громил усадьбы оклеветанных бояр… Митрополита Филиппа, бывшего игумена Соловецкого, коего государь сам два года назад с превеликим терпением уговаривал на митрополию, теперь невзлюбил Иоанн, потому что Филипп, пастырь православных, не стал ему опорой в злодеяниях его, говорил ему правду об образе его и не давал царю благословения, когда царь искал его. Тогда не благословения стал искать государь, а, по своему обыкновению, – клеветы. И спешно оклеветал Филиппа игумен Паисий, преемник его, и от тех клевет осудили добродетельного и невиновного Филиппа на пожизненное заключение. Всенародно лишили его пастырского сана, унизили на алтаре и упрятали в тверской Отрочий монастырь. Так, возле московского государя не осталось ни одного честного человека, а сплошь были лиходеи…
Пугали эти вести не только россиян, но и всех иноземцев. Иван Месяц три дня молился за возлюбленного своего покровителя и отца – митрополита Филиппа, – хотя особенной набожностью никогда не отличался. Радовало его одно – что хоть жив остался Филипп. Месяц понимал – могло быть и хуже, ибо он на собственной голове испытал крутой нрав государя и знал, как Иоанн обходится с теми, кто осмеливается говорить против него.
Также заслуживает нашего внимания один разговор, который россияне слышали на бергенских торгах. Кичливый англичанин, споря с ганзейцем, в запале доказывал, что Англия как правила всеми морями и повсюду торговала, так и далее будет править и торговать. И хоть говорят умнейшие, что времена меняются, однако для Англии они не очень-то изменились, потому что у всякого англичанина голова на плечах, а не капуста, он из всего спешит извлечь выгоду, и пока каждый выбирает для себя кусок пирога получше, англичанин пододвигает к себе всю тарелку. На это ганзеец сказал, что времена меняются от равновесия к равновесию. Вот теперь, сказал, опять не стало в мире равновесия. И есть на то три причины. Христофор Колумб открыл новые богатые страны – оттого сместились торговые пути; Мартин Лютер выступил с новым учением – оттого сильно сократилось влияние Папы и церковников; да еще причина: зашевелилась Москва – российский царь, дальновидный и упрямый, Казань и Астрахань завоевал и тем возмутил все мусульманские царства, а особенно константинопольских турок, на западе же Иоанн вторгся в Ливонию, и этим испугал мир христианский… Что до Англии, заключил ганзеец, то она здесь не при чем; новое время куется в чужой кузнице, и англичанину с его неглупой головой еще только предстоит в ту кузницу пойти. А пока русский царь раздувает меха – до нового равновесия. Но англичанин никак не хотел сдаваться и сказал за свою страну следующее: велико искусство – сидеть на мешке с деньгами, однако всегда выглядеть как будто не при чем.
Христиан и Карл хорошо знали Андреса Кнутсена с детства и, несмотря на его бедность, лучшего жениха для Люсии и не желали бы. Однако у себя дома Христиан и Карл ничего не решали и никак не могли повлиять ни на замыслы, ни на действия своего отца. Единственное, что было в их возможностях, – так это пообещать Андресу передать записку для Люсии или же где-нибудь в темном месте настучать Шриттмайеру по ребрам. Христиан и Карл, добрые молодцы, искренне советовали Андресу не спешить в делах любви и не лезть на рожон. Они говорили, следует обождать год-другой – а там, быть может, не жена Шриттмайера, а сам Шриттмайер преставится, очень уж он стал желт – не иначе как готовится свернуть на свой последний путь. Братья Люсии, люди неглупые, вот еще с какой стороны обдумывали дело: любовь – любовью (оно, конечно, красиво и возвышенно и необыкновенно поэтично!), но, может, Андресу будет лучше смириться пока да согласиться с Большим Кнутсеном («у него и голова большая, и полна мозгов!») – пусть бы Люсия стала женой Шриттмайера, не померла бы от этого, напротив – еще больше бы нагуляла красоты; а вскорости овдовев, она могла бы наконец соединиться с милым ее сердцу Андресом. Шриттмайер говаривал, что у него не было наследников. Вот и нашлись бы достойные наследники… А? Каков расчет!… Но Андрее злился на братьев за такие слова. А они посмеивались и говорили, что пошутили, однако по глазам их было видно – за словами братьев стоит больше правды, чем скрывается за их смехом. Большой Кнутсен тоже был шутник и любил прикидывать намного вперед. Андрее негодовал… Но согласился с молодыми Кнутсенами в одном: стар и дряхл Шриттмайер и многообещающе пожелтел, – может, и впрямь недолго протянет. А других женихов Христиан и Карл обещали взять на себя. Прямодушный Андрее горячо благодарил братьев и сказал им, что пойдет пока с россиянами; а для Люсии он просил запомнить такие слова: «Я далеко ушел, чтобы близко вернуться. Твоя свеча осветит мне путь к тебе. Ты сама не заметишь, как пройдет время, и наши руки соединятся».
Поминая имя Господа, покинули прекрасную бергенскую бухту. Надо думать, произошло это в добрый час, потому что погода стояла ясная, ветер благоприятствовал; и пустынные холмистые берега и многие острова радовали глаз свежей весенней зеленью и являли собой вид дикости и простоты. Многие суда покинули Берген вместе с «Юстусом» – это были норвежские рыбаки, а также купцы, несущие на своих мачтах флаги Дании, Нидерландов и ганзейских городов. Норвежцы скоро разошлись по проливам между островами, торговые же корабли сами собой сбились в караван, и их оказалось двенадцать. На следующий день к каравану прибились три английских судна, также идущих к Зунду. «Юстус» шел в строю пятым после четверых датчан. Два датских корабля принадлежали тому самому Якобу Хансену, чьи бочки с рыбой заполняли трюм «Юстуса». Хансен был на одном из своих кораблей. Зная, что россияне имели дело с Эриком Кнутсеном, и почитая это за лучшее свидетельство их честности, датчанин настолько доверился им, что даже не оставил при грузе своего человека и не взял с капитана расписки. Более того, он заплатил Месяцу часть денег за доставку груза. Якоб Хансен слыл купцом, ведущим дело с размахом; он доверял и ему доверяли – большая торговля не строится на обмане; большая торговля Хансена – это рукопожатие, это красноречие и щедрость, это дружба, и уже только потом – рынок. Идя торговать, хороший купец катит перед собой золотую монету и дарит ее тому, у кого покупает или кому продает. Якоб Хансен был хороший купец; говорили, что он катит перед собой две монеты – оттого все охотно имели с ним дело.
К вечеру второго дня пути слегка заштормило. Черные тучи, пришедшие с запада, затянули все небо. Оттого стемнело быстрее обычного. Тойво Линнеус посоветовал россиянам отойти подальше в море, чтобы не оказаться выброшенными на скалы. Огляделись по сторонам: огней в темноте поубавилось, – видно, некоторые суда уже оставили караван. Копейка сам стал к рулю. И отошли в море, в самую темноту, в самую жуть, в неведомое, где весь когда-то огромный видимый мир вдруг сжался до размеров штормового фонаря. И кроме него – ни зги…
Тойво Линнеус оказался прав: море скоро разгулялось не на шутку. Море было и внизу, и вверху; и ветер как будто дул отовсюду. Никто не знал, куда правил во мраке Копейка и какие приметы он находил в этом светопреставлении – но Копейка не оставлял руль, а вернее, он боролся с рулем; он правил куда-то, где мыслил спасение, он чувствовал корабль и шел, словно на ощупь, – когда кто-нибудь из россиян оказывался вблизи кормчего, то поражался тому, что глаза кормчего были закрыты.
Пришел день, и снова настала ночь. А буря все не утихала. Буря измотала и людей, и корабль. «Юстус» дал течь, хотя и небольшую, но это напугало многих россиян. Самых испуганных Месяц отправил к помпе. Инока Хрисанфа поставил над ними молиться. Тойво
Линнеус сменил Копейку. А Андрее отсыпался в кубрике: после того, как потоком воды он едва не оказался выброшенным за борт, на него напала сонливость. Потом у норвежца были жар и бред; и все поняли, что он болен. Андрее грезил Тронхеймом. Сначала он праздновал внесение света, потом изгонял Шриттмайера из дома Люсии; кажется, он видел Шриттмайера в образе Сатаны… Андреса отпаивали подогретым вином и жгли возле него в жаровне сухие можжевеловые ветки.
К утру второй ночи шторм стал ослабевать. Сначала совершенно исчез ветер, и только огромные валы воды еще некоторое время ходили по морю – больше не поддерживаемые ветром, они становились все меньше и меньше. К восходу солнца наступил полный штиль, поверхность воды стала как зеркало – ни одна рябинка не нарушала ее гладкости. Инок Хрисанф закончил свои молитвы словами:
– А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и из рода в род возвещать хвалу Тебе…
С этим взошло солнце.
Вконец измученные, россияне легли спать и спали до полудня. Первым поднялся Андрее, которому полегчало, и недуг отошел от него, но хмель от выпитого вина еще оставался. Андрее, покачиваясь и цепляясь за поручни, выбрался на палубу. Солнце сияло в безоблачной вышине, и не было ни малейшего дуновения в воздухе. Один Тойво Линнеус был до сих пор наверху, но и он дремал, повиснув одной рукой на руле. Припекало.
Андрее осмотрелся.
– Вижу корабль!… – воскликнул он. – Тойво! Корабль…
– Катафалк… – пробормотал Тойво, не раскрывая глаз.– Какой такой катафалк? – не понял Андрее.
– Корабль мертвецов… – штурман поморщился. – Слышишь запах?.. Пока вы спали, я уже видел этот корабль.
Андрее принюхался, покрутил головой:
– Я думал, это запах порченой рыбы. Я думал – из трюма…
– Ты рыбак, Андрее, и должен знать, что порченая рыба пахнет совсем не так.
– Да, теперь я слышу это, – согласился норвежец. Здесь вышел на палубу Месяц, с ним – Михаил и Фома. Андрее показал им на стоявшее поблизости судно и пересказал то, что только что слышал от Тойво. Чужой корабль при ближайшем рассмотрении оказался, пожалуй, и не кораблем; это были жалкие останки корабля: корпус без мачт и оснащения, с простреленными и продавленными бортами, с разбитым фальшбортом, без руля, с надломленным бушпритом, уныло склоненным к воде, и с опаленной, где-то даже прогоревшей насквозь палубой, с обугленной кормой… Было удивительно, каким образом это нагромождение обломков держалось на воде; и было непостижимо, как такое истерзанное судно сумело пережить только что затихший шторм. Судном, не имеющим команды, не имеющим кормчего, не имеющим даже руля, теперь правила только судьба. Многие крепкие суда при руле и кормчем, возможно, затонули в прошлую ночь, а ветхая развалина непонятною волей судьбы пересилила все ветры, перескрипела все валы воды и остановилась теперь посреди моря, источая смрад… Россияне разглядели надпись под обгорелой кормой; буквы тоже были повреждены огнем, и потому пришлось потрудиться, чтобы разобрать их, – «Vagabundo». Тойво Линнеус сказал, что по-испански это означает – «Бродяга». И еще он сказал, что настали жестокие, смутные времена, и ветры носят по морям уже немало таких катафалков; и если россияне действительно избрали тот путь, что избрали, то они должны быть готовы ко многим подобным встречам, ибо море – это не только богатейшая сокровищница, это не только обширное поле для трудяги-жнеца, но и печальнейшее из кладбищ. Дно морское – сплошная могила; парусиновые мешки с грузилом – гробы, затонувшие корабли – саркофаги. Души погибших витают над морем, души неприкаянные вселяются в чаек. Птицы кричат, кричат, но никто не понимает их крика. У чаек очень тревожные глаза… Кто вышел в море, пусть помнит о смерти! Очень важно – самим не угодить в катафалк, очень важно – не обратиться однажды в корм для рыбы. Инок Хрисанф перекрестился:








