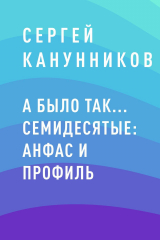
Текст книги "А было так… Семидесятые: анфас и профиль"
Автор книги: Сергей Канунников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Характерен в этом плане довольно громкий в семидесятые фильм режиссера Сергея Микаэляна по сценарию Александра Гельмана «Премия» (1974 г., позднее автор сделал пьесу – «Протокол одного заседания», во МХАТе в 1977-м она появилась под названием «Заседание парткома»). Интрига в этом фильме для советского искусства, в общем, получилась не такая уж редкая – честные рабочие против косности начальства. В картинах шестидесятых подразумевалось, что такое начальство надо снять, понизить, заменить, в крайнем случае, опять же пропесочить – и все наладится. Но вот для реалий семидесятых сам сюжет выглядел, пожалуй, даже несколько фантастичным.
Бригада строительного треста отказывается получать премию, поскольку считает ее нечестно заработанной. Мягко говоря – не типичный для времени и места случай. В масштабе треста такое событие, конечно – скандал. Ведь все давно устоялось, все живут по определенным правилам, выполняют, а иногда и перевыполняют план, получают премии. Стройка, так или иначе, когда-нибудь да закончиться. В конце концов, достроят уже после пуска производства. Первый раз, что ли? Выходку странного, чудного бригадира и его молодых коллег обсуждают на заседании парткома. Длинный разговор о неординарном, да что там – скандальном для советской жизни событии, в общем-то, приводит зрителя к простым, понятным и давно известным и многократно проговоренным на кухнях истинам. К слову, за те часы пока длится заседание парткома, наверняка, можно было бы сделать на стройке что-то путное и полезное. Но в том-то и дело, в том то и соль, и суть советской жизни, что без заседаний, а тем более парткома – никак невозможно! Ведь решают на этих заседаниях не только производственные, а – идеологические и, если угодно – даже философские вопросы.
Конечно, драматургия фильма выстроена потрясающе мастерски. Как точно подметил Марк Зак в книге 1983 года «Кинорежиссура: опыт и поиск», каждое выступление очередного члена парткома – словно подъем по витку спирали, максимально обостряющий конфликт. От мастерских, демагогических речей в начале заседания, роскошно демонстрирующих высшие достижения советского искусства «забалтывания» чего угодно в любой обстановке и на любую тему, интрига идет– таки к правде, к истинным, пусть конечно и не до конца проговариваемым причинам всего того, что происходит в строительном тресте, а по сути конечно – в стране. Эта самая – высказанная с экрана художественная правда, даже в таком, в общем-то, невинном виде, могла сделать в сознании советских людей довольно многое. Кого-то – испугать (хотя испугать этим человека семидесятых было уже очень сложно), обидеть, разозлить, а кого-то – молодого и горячего, может даже, и вдохновить на поступки, подобные тому, что совершила бригада Потапова. Но массовый, закаленный советским социализмом зритель прекрасно понимал, что реально изменить сложившиеся социальные отношения, писанные и не писанные законы и правила, саму жизнь – эта, даже мастерски высказанная правда – не может.
Понятно же, что дело-то не в этом несчастном тресте, не в его руководителе – вполне типичном и, в общем-то, вполне нормальном советском человеке своей эпохи и своей среды – по-своему честном и порядочном. Дело в самом укладе жизни, в системе – по-своему логичной и стройной, но в тоже время – уже совсем саморазрушающейся, поедающей саму себя. А сломать или перестроить (!) эту конструкцию могли надеяться лишь совсем уж идеалисты типа героев «Премии» – бригадира Потапова и нескольких членов его бригады. И, вроде бы, даже жизнеутверждающая, правда, одновременно наивно-пафосная фраза, звучавшая ближе к финалу картины, а в театре иногда даже вызывающая искренние, хотя и не очень густые аплодисменты: «Мы – члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии треста номер сто один! Такой партии нет, и никогда не будет!», – эту простую мысль о невозможности перемен, по сути, лишь окончательно утверждала. Партия-то, действительно, одна. И именно она, а никто другой породила вот такие партии трестов, контор, управлений и НИИ.
Остается жить по тем законам, которые есть, относясь к работе, как к крайне скучной, неприятной, но к счастью, всего по восемь часов, пять дней в неделю, деятельности. Или, например, запить всю эту скуку и бессмыслицу алкоголем. Про алкоголь разговор будет особый – позже. А пока отметим, что пьяница и бездельник в семидесятые, не только в жизни, но даже и в искусстве – далеко не всегда, действительно, неумеха и работник низкой квалификации. Может, он ее конечно уже и потерял, но вовсе не родился таким.
Показателен в этом плане герой чудесного, смешного и грустного, тонкого фильма Георгия Данелия «Афоня» (1975 г.) – деревенский уроженец, а теперь городской сантехник, лодырь, мелкий взяточник и выпивоха. Но работать-то он, заметьте, умеет. Ведь девушке, в которую влюбился, Афоня вполне квалифицированно, быстро, аккуратно, чистенько, умело ставит на кухне новую финскую мойку! Правда, спертую, вернее – замененную на отечественную в квартире наивного профессора. Но это уж – другой разговор. А вот почему ж, Афоня не работает так всегда? Может, потому, что не понимает – зачем? Может, ему не хватает этой самой любви! А может – еще и того деревенского дома, где вырос? Старенького, покосившегося, но – родного и, действительно – своего? В отличие от казенной квартиры в безликой многоэтажке, которая таким домом почему-то не стала.
Кстати, деревни, как таковой и деревенского труда в фильмах семидесятых стало куда меньше, чем в оттепельные годы. Светлые и художественно правдивые, талантливые картины той эпохи, когда государство, писатели и режиссеры впервые, по сути, всерьез обратившие внимание на закрепощенное, с убогим бытом советское село, на нужды нищих крестьян, например «Дело было в Пенькове» или «Чужая родня», в семидесятые были уже невозможны. Пропала та духовная и художественная непосредственность, свежесть и искренность. Попытки показать радость посевной или уборочной выглядели теперь совсем фальшиво и неубедительно. Даже, скажем, в далеко не самом плохом фильме «Русское поле» (режиссер Н. Москваленко, 1971 г.). Уж больно преувеличен там восторг молодых девчонок-колхозниц перед страдой. Уж больно это отдает показным энтузиазмом комсомольских собраний. Этого добра, кстати, было уж совсем с избытком в помянутом уже многосерийном творении «Юркины рассветы». Собраний, совещаний и обсуждений там, кстати, куда больше, чем сельской жизни и сельского труда. И это – очень характерно для эпохи.
А помимо собраний и совещаний, по канонам жанра таких фильмов можно и должно было развернуть на сельском пейзаже и любовную историю, как в тех же «рассветах» или в картине «Приезжая» по сценарию Артура Макарова (режиссер Валерий Ланской, 1977 г.). Там, кстати, перебор был в другом – в уж очень нарочито-народном «старорежимном» языке пожилого крестьянина со всеми этими заковыристыми словечками, типа «скрадом».
В общем, крестьянские картины, если не считать таковыми фильмы Шукшина, которые такими и не были, в подавляющем большинстве были, если и не совсем фальшивыми, то натянутыми. И городские люди смотрели их, скривившись. А деревенские, подозреваю: и вовсе не смотрели. Они-то уж точно знали, как было на самом деле.
Куда убедительней была еще одна эпохальная для темы правдолюбия и борьбы за справедливость в советской производственной жизни картина Татьяны Лиозновой «Мы, нижеподписавшиеся» (1981 г.). Драматургически она несколько напоминает «Премию». Здесь тоже сюжет идет по спирали, на которой нанизываются все новые производственные и, так или иначе, и связанные с ними человеческие коллизии. Тут совсем нет гигантских строек, башенных кранов, ревущих бульдозеров и подозрительно чистых для типичных советских строек самосвалов. Все происходит в вагоне поезда. (О поездах в позднесоветской, так или иначе продолжающей русскую, культуре разговор – особый). А конфликт в фильме Лиозновой, опять же, очень типичен для времени позднего социализма.
Комиссия из райцентра не приняла районный хлебозавод (тема строительства для советского искусства оставалась одной из самых главных, поскольку символичной для идеи строительства новой жизни, нового общества), поскольку обнаружила недоделки. Леонид Шиндин (актер Леонид Куравлев), истинно преданный своему руководителю – начальнику строительного управления, которого зрители, кстати, не видят и знают о нем лишь со слов остальных героев (не оригинальный – но очень убедительный ход, знакомый еще с оттепельных времен, например по «Чистому небу» Григория Чухрая, 1961 г.) с женой Аллой, тоже работающей в этом тресте, и еще одним коллегой, настроенным куда менее восторженно и оптимистично, садятся в поезд, на котором уезжают, опять же трое членов той самой – не принявшей завод комиссии. Леонид Шиндин самостоятельно, вроде и без ведома невидимого начальника, поставил себе задачу изменить решение комиссии, а тем самым спасти от неприятностей руководителя, в которого верит. В процессе общения переговорщиков с членами комиссии (выглядят они, кстати, явно не по районному, а вполне по столичному, и думаю – не случайно) выясняется, в общем-то, советско-очевидное. Недоделки привычны и типичны, а принять или не принять объект верховное начальство (его мы опять же не видим в фильме), пославшее комиссию, решает сообразно вовсе не состоянию объекта, а своим симпатиям и антипатиям к конкретным руководителям. Ну, прямо Римская империи (помните у Окуджавы: «В Римской империи времени упадка…») с ее подковерными интригами. Только в масштабах районного (а на самом деле вовсе и не районного, а как говаривали тогда – общесоюзного) строительства.
Леонид Шиндин из «Мы, нижеподписавшиеся» – очередной и один из последних, кстати, в кино застоя правдолюб. Истрепав в поисках справедливости, категорически противоречащей общим, давно устоявшимся принципам жизни нервы себе, жене и всем окружающим, уставший и ошалевший от безумного вечера в поезде Шиндин, уже на станции случайно падает в случайную же, но ведь такую типичную для советских улиц и площадей (и это было так понятно зрителям тех лет!), давно забытую строителями или ремонтниками яму. Смехом Леонида, его жены – Аллы и даже председателя комиссии, который вроде уже согласился с Леонидом, но успел уже и начать колебаться в правильности своего решения, картина и заканчивается. Смех – великая сила, способная уберечь, спасти если не общество, то уж точно отдельного человека на определенных этапах его жизни. Хотя, надежды на справедливость в картине, конечно, тоже остаются. Как же без них! Председатель-то все колеблется…
Тему труда в семидесятые прекрасно, умно, а главное – очень неординарно с точки зрения массовых советских производственных творений, иллюстрирует и фильм Юлия Райзмана (этот режиссер, пожалуй, вообще – один из лучших и точных бытописателей советского кинематографа) – «Частная жизнь» (1982 г.).
Директор огромного завода, а скорее всего, как называли тогда огромные концерны – производственного объединения – то есть нескольких заводов, Сергей Абрикосов (актер Михаил Ульянов) – типичный советский производственный руководитель: убежденный трудоголик, не представляющий себе жизни без работы, жесткий и даже грубоватый. В общем, тот кого принято было называть в былые, более ранние советские времена, «капитанами индустрии». Абрикосов вступил в конфликт с министерским начальством и внезапно для себя получил согласие на демонстративное заявление об уходе по собственному желанию. В душе он, конечно, надеялся, что начальство станет уговаривать. А оно вдруг – не стало. И вот теперь Абрикосов получает положенную персональную пенсию, но попадает в совершенно иную, абсолютно непонятную и кажущуюся ему бессмысленной жизнь. То, что он не умеет переходить улицу, поскольку давно не ходил дальше, чем от машины до подъезда, и не совсем уверенно чувствует себя в переполненном автобусе – еще мелочи. Оказывается, у окружающих, причем, в первую очередь у членов семьи Абрикосова, свое – какое-то свосем другое, не укладывающееся в принципы «трудового фронта», а потому – странное с его точки зрения существование.
Случайно встреченный бывшим директором в простой народной пельменной, и некогда уволенный грозным, требовательным Абрикосовым веселый острослов, оказывается легко, без страданий променял инженерную карьеру на огромном заводе на мастерскую по ремонту зонтиков и не видит в этом ничего плохого! Для него важнее не производственный героизм, а возможность не общаться с начальством. Но это, все-таки – чужой. Но самый болезненно непонятный Абрикосову человек – младший сын Игорь. Ему – вполне типичному студенту конца семидесятых (из Игоря можно было бы сделать героя эпохи, по аналогии с хуциевскими оттепельными персонажами картины «Мне двадцать лет», но с такой силой – не получилось, да Райзман и цели такой не ставил) совершенно непонятен трудовой фанатизм отца. «Я не умею с тобой разговаривать», – говорит Игорь. И это очень важная, а во многом – и ключевая фраза отношений отцов и детей переломных семидесятых. Дети смотрели на возводящих новое советское благосостояние «предков» (тоже термин тех лет) уже совсем другими глазами, нежели поколение героев Хуциева на своих измученных отцов и матерей – строивших, воевавших, погибших на фронте или в сталинских лагерях.
Да работать, конечно, надо – признает Абрикосов-младший, но – где и кем, в общем-то – все равно. Для сына капитана индустрии, оказывается, есть вещи не только поинтересней, но и поважней, нежели каждый день в течение десятилетий ходить на один и тот же завод, находится там с раннего утра до позднего вечера, расти в должностях, но не знать в жизни ничего иного, выходные, как отец – ненавидеть, уход в отпуск воспринимать, как тяжелую и очень неприятную обязанность, а выход на пенсию, вообще – как крах жизни. «Душа обязана трудиться», – цитирует Игорь отцу ни кого-нибудь, а Заболоцкого! И постепенно грозный отец-директор, у которого чуть ни впервые в жизни появилась возможность подумать о чем-то ином, кроме производственных планов, становится как-то помягче ко всем окружающим, вроде бы налаживает более-менее человеческие отношения с женой и даже с этим – «непутевым» сыном.
Вся проблематика, да просто вся идеология этого фильма Райзмана была бы немыслима даже еще на заре семидесятых, не говоря о шестидесятых! Такие вопросы прежде просто не ставили. Таких отношений между советскими людьми не могло быть. А то, что вот так о труде говорил не ярко выраженно-отрицательный герой – тунеядец и проходимец, а вполне нормальный молодой советский парень – вообще не видано!
Этот фильм Юлия Райзмана символичен еще и тем, что Абрикосова прекрасно, тонко и умно сыграл великий Михаил Ульянов, некогда уже сыгравший «капитана индустрии» в картине «Добровольцы» (режиссер Юрий Егоров, по роману в стихах Евгения Долматовского, 1958 г.). Только там капитан совсем другой – такой же сильный, как у Райзмана, но менее жесткий (жесткость подразумевалась, но осталась за кадром), жизнерадостный, но главное – не сомневающийся, живущий в полной гармонии с миром, с близкими, с самим собой. Кстати, Ульянов же сыграл еще и «капитана сельского хозяйства» председателя колхоза в сильной картине Алексея Салтыкова «Председатель» по Юрию Нагибину в 1964-м. Там послевоенный председатель, инвалид войны, конечно, куда жестче и грубее, а потому – вернее и точнее героя «Добровольцев», но тоже – уверенный в себе и в своем деле человек. Так вот, Ульянову вполне логично довелось провести эту – производственную линию через несколько советских десятилетий. Впрочем, умел великий артист далеко не только это.
Образ советской науки в семидесятые тоже постепенно, хотя вроде и незаметно, но причудливо, а потом – и почти до неузнаваемости трансформировался в жизни, в общественном сознание и в художественном творчестве.
Трудно не признать, что все великие, эпохальные достижения и прорывы советской науки и техники, в том числе главные оправдания, как писал Юрий Пивоваров, всего того что произошло в России в ХХ веке – атомная энергетика и космос, о которых сегодня приятно особенно ностальгировать, случались раньше – до семидесятых. Эпоха застоя, условно говоря, эксплуатировала, пусть и, как могла, развивая те достижения. Утопая при этом в бюрократии, гигантски разрастающемся околонаучном аппарате, в циклопическом росте расходов. Это, кстати, очевидно, в частности, и при внимательном прочтении фундаментального четырехтомного труда Бориса Евсеевича Чертока, наиболее полно и очень честно рассказавшем всю историю советской космонавтики. Черток – соратника Сергея Королева – отца советского космоса успел под конец длинной почти вековой жизни обстоятельно и правдиво изложить в этих книгах много интересного и малоизвестного прежде. Черток честно говорит, скажем, о колоссально разросшихся в семидесятые советских космических «фирмам», все больше конкурировавших между собой (что, во многом было связано с личными антипатиями их руководителей и подогревом подобной конкуренции сверху, по типично советской логике: у нас незаменимых нет) и при этом демонстрировавших все меньше реальных достижений (например, в освоении Луны), отдавая некогда безоговорочное космическое первенство американцам. Советские космонавты, конечно, по-прежнему летали в космос группами, в том числе с иностранцами, в первую очередь из соцстран. Апогеем развития космоса в семидесятые стала, конечно, стыковка советского и американского кораблей на космической орбите в 1975-м. Но это стало, в первую очередь, все-таки политическим, а не техническим достижением брежневской «разрядки». Да, и луноход (как писал Высоцкий: «любимый лунный трактор»), поездивший по спутнику земли, стал довольно слабым ответом штатникам, высадившимся в 1969-м на Луне. И все – от обывателей до специалистов масштаба Чертока это понимали, хотя публично и не высказывали. Это, конечно – лишь отдельные космические примеры, но очень характерные именно потому, что космос, наряду со связанной с ним обороной, много лет, действительно, был одной из главных и наиболее мощных движущих сил советской науки и техники.
Я вовсе не хочу сказать, что прикладная, а тем более фундаментальная наука в СССР окончательно застопорились, что все, кто работал в сотнях разнообразных НИИ, были бездельниками. Как и в любые времена и при любых формациях, были люди честно, увлеченно, а иногда и самоотверженно занимающиеся своим делом. Но в данном случае речь не о них, а об общем настроении, о тренде, о векторе развития. Советские трудоголики, вообще и научные в том числе, в семидесятые, по сути, уже превратились в вымирающее племя – в «белых ворон». Их – научных трудоголиков потом добьет уже новая – перестроечная эпоха. Кто-то пойдет собирать пустые бутылки, иные ринуться в бизнес. Кому из них в итоге стало хуже – еще вопрос. Об этом, к слову, здорово написано в «Большой пайке» Юлия Дубова.
Увлеченные ученые – трудоголики уже и времен застоя общего тренда советской жизни не формировали. Интеллигенты сами все чаще с иронией и сарказмом говорили в своем кругу, на кухнях и в курилках о гигантских, постоянно разрастающихся НИИ (в том, где мне довелось трудиться, было более 3000 человек), «выхлоп» от которых, по сравнению с гигантскими затратами, был ничтожен, а порой, выражаясь математическим языком – и просто стремился к нулю. Если уж сами сотрудники НИИ относились ко многим коллегам, а часто даже и к себе с сарказмом, не мудрено, что постепенно, но неотвратимо менялось отношение к ученым во всем обществе. Происходило это постепенно, вроде бы, незаметно. Тем не менее, дух шестидесятых практически развеялся.
В сознании советских людей времен оттепели, ученые делали нечто очень важное, сложное и интересное (что, в общем-то, так и было), работали на оборону страны, а заодно внедряли передовые идеи в быт – массовое телевиденье, новую реактивную авиацию, в так называемую «большую химию» в быту проявляющуюся новыми синтетическими материалами. А еще – ученые, научные работники обязательно, ну или почти всегда были в общественном и культурном сознании оттепели трудоголиками, иногда – почти фанатиками. Исключения, конечно, встречаются, но их – мало и уж точно не они определяют жизнь. А большинство физиков (в данном случае – обобщающий термин ученого, вообще) самоотверженно работали чуть ли ни сутками и, к тому же, часто рисковали здоровьем и жизнью. В общем, к ученым в оттепельную эпоху относились, как минимум с интересом, а часто и с искренним уважением, порой – почти поклонением. Пожалуй, первые признаки потускнения этого света, размывания пытливости ума и истинной увлеченности потоком околонаучных, полуфилософских, но в общем-то, пустых разговоров, тонко показал еще в 1966-м Марлен Хуциев в «Июльском дожде».
В семидесятые же сотрудники НИИ превратились в глазах очень многих обывателей в жирующих на народные деньги бездельников, самое место которым – на переборке гнилых и гниловатых плодов несчастно советского сельского хозяйства на овощной базе. Куда их – сотрудников НИИ, кстати, активно и посылали. Рабочих от станков отрывать было не принято. Само понятие овощной базы теперь уже требует разъяснение. Эти грандиозные по территории учреждения, расположенные в ближнем Подмосковье представляли собой посреднические между производителями сельхоз продукции и магазинами организации. На базы железнодоржными вагонами или огромными грузовиками везли десятки тонн продуктов (в том числе, импортные бананы и прочую экзотику). Их там перебирали (гнить все начинало еще в вагонах), перегружали в небольшие контейнеры и ящики и везли в магазины. Потери при этом были огромными (не говоря уж о воровстве дефицита штатными сотрудниками баз), а грузчиками, как раз работали, в основном, «добровольно-принудительно» направленные на базу недобитые интеллигенты..
Конечно, песня Высоцкого «Товарищи ученые» (1972 г., по другой версии – 1966-й) – острая сатира, поэтическая гипербола, насмешка, как раз над непросвещенным, маргинальным отношением к науке. Но и сатира, ведь, появляется не на пустом месте. Трудно представить рождение такой песни лет на десять раньше. Ведь такого отношения к сотрудникам НИИ и в «низах» тогда не было, по крайней мере, оно уж точно не было массовым даже в среде советских маргиналов.
Что касается самих сотрудников НИИ, армия которых действительно выросла в эпоху застоя до огромных масштабов, то ведь и в их кругах, как мы уже говорили, стало нормой обсуждать (пусть и в более мягкой, конечно, форме) свою и своих коллег деятельность с легкой усмешкой. Скажем, о научных монографиях коллег часто говорили, как о трудах, сварганенных с помощью «ножниц и клея». О своих монографиях так, правда, обычно не говорили. Хотя, некоторые, все же говорили или, как минимум – думали.
Приведу один частный, но вполне типичный для эпохи «позднего застоя» эпизод из собственной жизни в огромном закрытом НИИ, сформированном в самом конце семидесятых. В начале восьмидесятых, когда советская пресса неутомимо писала об агрессивных планах США по созданию космического оружия (некоторые спецы, кстати, говорят теперь, что это был выражаясь современным языком – фейк), в Московский Радиотехнический институт (он же – почтовый ящик), где я служил слесарем, уже после рабочего дня приехал заместитель министра обороны адмирал С. Г. Горшков. По этому поводу в отведенный нашему отделу отсек гигантского «стендового зала» – помещения, в которое, к слову впору было загнать самолет, выставили неработающее еще, зато внушительное с виду блестящее нержавейкой и сияющее медью «железо». Все это пока лишь планировали превратить в некую работающую установку. Как показало будущее – так, кстати, и не превратили. Зато всех, в том числе даже и слесарей, одели в белые халаты (ни до, ни после так никто в институте, а уж, тем более, слесари не одевался, тоже мне хирургия!), выдали чистый, новый, блестящий инструмент. Мы, старательно, давя в себе смех и кроя серьезные, сосредоточенные лица, развивали вокруг несуществующей установки бурную деятельность, пока директор и его свита с не менее серьезными сосредоточенными лицами общались со строгим адмиралом и его свитой. Часа через полтора адмирал с суровым взором погрузился в «Чайку» и отбыл. Ну, а мы тут же сдали белые халаты, зато получили по заслуженному отгулу за работу после окончания рабочего дня. Тут уж смеялись все, включая инженеров и научных работников. Но ведь все были довольны! Институт прекрасно финансировали, все получали неплохие зарплаты и премии. И случай этого, попросту говоря очковтирательства, был, в общем-то – неединичный, а даже вполне типичный и показательный для атмосферы гигантских НИИ конца эпохи застоя.








