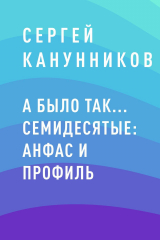
Текст книги "А было так… Семидесятые: анфас и профиль"
Автор книги: Сергей Канунников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Еще одна вариации на тему героя поколения – два Сергея из «Полетов во сне и наяву» Романа Балаяна (1982 г.) и из картины «В четверг и больше никогда» (1977 г.) Анатолия Эфроса. Фильмы разделяют пять лет и, думаю, их герои не случайно имеют одно имя. И уж точно не случайно Зилова из фильма Мельникова и эфросовского Сергея сыграл именно Олег Даль. Его лицо, его глаза, его голос, его артистическая манера, стали знаковыми для эпохи позднего застоя.
Для таких – типичных советских персонажей конца семидесятых навязчивым, навивающим в лучшем случае тоску мифом, стали уже не только советские символы и устои. Разладилось и все остальное: работа, отношения с близкими родственниками – забытыми, брошенными матерями, детьми, давно нелюбимыми женами, бывшими друзьями. Развалилось, рассыпалось и само понятие любовь. В общем – все, на чем держится нормальная жизнь. Подобные герои позднего застоя и в кино, и в литературе, и в жизни увязли в лживом, потерявшим общественные и просто человеческие ориентиры, извращенном и развращенном мире. Как не мудрено увязнуть в грязи, окружающей типовую новостройку, в которой на далекой тоскливой городской окраине получил квартиру вампиловский Зилов. Бесконечная жидкая или вязкая грязь вокруг строек на окраинных городских пустырях это, кстати – тоже одна из реальных, знакомых поколению семидесятых, типичных примет тех лет.
Эти персонажи семидесятых мучают себя и близких. Кто-то инстинктивно пытается вернуться в позу эмбриона, спрятавшись в стоящем посреди поля стоге сена («Полеты во сне и наяву») или, переплыв реку, вернуться на берег детства («В четверг и больше никогда»), а может просто – вернуться в первый вечер с когда-то любимой девушкой, а теперь – нелюбимой женой («Утиная охота» – «Отпуск в сентябре»). В общем – куда-то в прошлое. Тоже, конечно, эфемерное, идеализируемое уже потому, что – прошлое; но сохраняющее, хотя бы в памяти, свежесть чувств, способность ждать и надеяться. Того прошлого уже нет и не будет, а в определенном смысле – никогда и не было. Но советское общественное, коллективное, мифология «строителя коммунизма» тут уж точно не поможет. И на нее не просто не надеются, ее никто и не вспоминает.
Похожих, в общем-то, героев рисовал в так называемых московских повестях, в частности в культовом в начале семидесятых «Обмене», Юрий Трифонов – один из самых любимых интеллигенцией той эпохи писатель. Герой «Обмена» (1969 г.) Виктор Дмитриев тоже ведь далек от общественной жизни, он занят бытом – обменом квартиры, как тогда говорили «улучшением жилищных условий». Комната больной матери не должна «пропасть» после ее смерти. У Виктора есть все, что положено человеку его возраста: жена, ее родители, более ли менее налаженный быт, в общем – жизнь. Но все это оказывается разорвало связи Виктора не только с общественным, но и с юностью, искренностью чувств и помыслов, наконец – с матерью. Но насколько прочна была та связь?
Подобные герои фильмов, книг и, вообще жизни семидесятых иногда, все-таки, вяло пытались остановить разрушение семьи. Иногда – создать новую, переиграть уже безвозвратно сложенную (а на самом деле уже и сломанную) жизнь. Они даже и подличали-то, как-то вяло, слабо, неумело – без вдохновения. Но эти тридцати пяти – сорокалетние представители «потерянного поколения» застоя, хотя и врут напропалую, все же, парадоксально оказывались честнее вроде бы совсем непотерянных – «нормальных» граждан. У них – потерянных просто тоньше кожа и они лишь пытаются найти себе защиту там, где ее нет и быть не может. Да и защититься хотят от того, от чего защититься невозможно. Но другие-то, ведь – те, кто рядом с потерянными – «непотерянные» – живут нормально, без душевных метаний. Работают, «поддерживают теплые отношения» с родными и друзьями, растят детей, заботятся о нехитром быте, наконец, повышают благосостояние. А ради этого, кстати, можно и в партию вступить и если надо на собрании выступить. Но общественная жизнь этих уживчивых, благополучных граждан, все равно – фальшива, лицемерна и скучна. Они просто приспосабливаются лучше. Ну, например, попросту умеют «держать себя в руках». Но даже и их – нормальных граждан кухонные разговоры – отдушина молодости, звучат теперь уже как-то глуховато, бледно и неискренне.
Вот так в «Полетах во сне и наяву» сидят за столом Сергей (Олег Янковский) и его куда более уравновешенный и устроенный друг и чуткий начальник – Николай Павлович (Олег Табаков). Все, вроде, как положено, располагает к интеллигентскому дружескому общению: полумрак маленькой кухни, с обоями под кирпич (между прочим, модный как сказали бы теперь, тренд квартир семидесятых), выпивка, яичница на закусь. Даже запели окуджавскую песню про полночный троллейбус. Но не очень получилось – зазвучало, как-то фальшиво.
И вот так советский человек семидесятых и уходил от практически разрушенной уже мифологии, от общественного, от ценностей советского социализма – спотыкаясь, но бесповоротно. Герой эпохи старательно отдалялся от общественного, а по сути-то – от государства, уходил в быт, в личное, в земное, в свое – частное. Об этом-то и писал Юрий Пивоваров.
Люди все глубже окунались в провозглашаемое, кстати, с высоких трибун «улучшение благосостояния», в поиски лучшей одежды и более вкусной еду, в покупку машины, гаража и дачи. Совсем недавно, еще в шестидесятых, интеллигенты это называли мещанством и осуждали. И отчасти, кстати, правильно делали. Но у семидесятников сформулировать подобную мысль получалось куда хуже, чем у шестидесятников. Идейно выдержанное искусство о «духе стяжательства» получалось теперь, как правило, тягомотиной и не находило отклика в сердцах граждан. Причем, как стяжателей, там и не стяжателей.
И дело не только в том, что эти годы стали гимном советскому вещизму, накопительству, крахом того, что считали прежде духовностью. Хотя и это, в известной мере, конечно, справедливо. И мы еще будем говорить об этом подробно. Но ведь накопительство советских людей, в их массе выглядело наивно и, в общем-то – совсем невинно. Граждане ведь просто увидели, что есть хоть какая-то возможность купить, наконец, новые ботинки, не штопать уже множество раз перештопанные носки, а просто купить новые, одеться так, чтобы не пугаться собственного отражения в зеркале. И даже поехать на собственный садовый участок с сумками, баулами, запасами еды (поскольку там – на даче с едой в магазине – совсем туго) и рассадой не в переполненной электричке, а в собственном автомобиле. Иногда это принимало (и не могло не принимать!) забавные формы. Скажем, на смену оттепельному стилю на лаконичные книжные полки, миниатюрные журнальные столики и простые абажуры из яркого пластика, пришла мода на монументальные мебельные стенки, массивные столы, тяжелые кресла, занимающие чуть не половину малогабаритной комнаты и хрустальные люстры, ставшие одним из главных показателей благосостояния советского человека. Вместо аккордеонов – пианино, едва втиснутые в малогабаритные квартиры. Но ведь желание учить детей музыке часто, правда, вопреки наличию у отпрысков желания и хоть какого-либо таланта, а у родителей лишних денег, стало в семидесятые просто манией молодой советской интеллигенции. Именно этот «вещизм», это мещанство (хотя, конечно, далеко не только они) сделали заметный вклад в окончательное разрушение советской системы. Обо всем этом еще тоже поговорим подробнее.
А пока подчеркнем: разрушение «краеугольных» мифов было вовсе не следствием вещизма, как такового, а скорее, наоборот – толчком, побудительной силой, стартом гонки семидесятых за благосостоянием. А на самом деле – в свой мир, в свою семью, в свои маленькие, приватные – человеческие интересы.
Еще одна характерная культурная примета ухода от увядающих советских мифов и от пропитанной ими советской реальности – литературная и кинофантастика, а на противоположном полюсе – история. Увлечение и тем, и другим стало в семидесятые, особенно в интеллигентских кругах, почти повальным. Оба жанра ведь позволяли говорить то, что просто так – в рамках традиционного социалистического реализма сказать было нельзя. Именно «под фантастику» прошли на широкие экраны «Солярис» и «Сталкер» Андрея Тарковского. Правда, массовый зритель с презрительной скукой уходил с этих картин, особенно – со «Сталкера». Ведь эти фильмы оказывались вовсе не той фантастикой, которую этот самый – массовый зритель ждал. Тем не менее, сама по себе «упаковка» в фантастику помогала и авторам и читателям-зрителям позднего застоя.
Словосочетания «научная фантастика», столь популярное в шестидесятые, десятилетием позже использовали уже куда реже, а интеллектуалы справедливо относились к такой формулировке с иронией, но именно «крыша» фантастики по-прежнему прикрывала, например, братьев Стругацких. Фантастика или то, что в нее заворачивали, притягивала не только занимательностью самой литературы, уходом от занудства соцреализма, но и возможностью посмотреть на мир с другой стороны, с другого ракурса, может, даже с другого неба. В таком виде и с таких позиций мир казался ни то, что уж сильно лучше, но, по крайней мере – свежей и интересней. Кстати, секрет колоссальной популярности романа Владимира Орлова «Альтист Данилов» – московского мифа эпохи застоя с героем, соединяющим в себе человека и демона, в первую очередь, конечно в этом. Этой книгой в самом начале восьмидесятых зачитывалась практически вся интеллигенция. Орлова иногда сгоряча даже сравнивали с Булгаковым, хотя общего между этими писателями практически нет. Разве, что некая мистическая и, при этом, лишь очень внешняя «аура».
Историческую же массовую литературу представляли, в первую очередь, Валентин Пикуль и Юлиан Семенов. И тот, и другой писали быстро, очень много и оба – занимательно. И Пикуль, и Семенов были крайне популярны в интеллигентских кругах, при том, что многие над ними, как-то стыдливо иронизировали. По меткому замечанию Дмитрия Быкова в книге «Советская литература» Пикуля и Семенова называли порой «литературой для бедных. Но ведь книги обоих, при всей их идеологической разности – диаметральности, были совсем не похожи на «официальную» историография дореволюционной России и Великой Отечественной войны. Герои в этих, в общем-то действительно масскультных книгах, были живыми людьми, а не масками советской грустной «комедии дель арто». Именно этим, в первую очередь, но еще, конечно, и роскошной игрой актеров, объяснялся и феерический зрительский успех сериала «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой по самому известному семеновскому роману.
Но, помимо занимательности, противостоящей занудности иных продвигаемых официальными идеологами исторических книг и особенно фильмов, Пикуль, а в еще большей степени Семенов, служили, как ни странно, просветителями эпохи. Эти писатели – обладатели колоссальной эрудиции и начитанности, обильно, но вовсе не навязчиво, а напротив интригующе наполняли свои тексты массой всякой малоизвестной широкому кругу советских читателей информации, так или иначе, пробуждая во многих желание узнать что-то новое, не растиражированное; о дореволюционной ли России или о той же нацистской Германии. Прекрасно помню, как книги Семенова становились для юношей моего поколения стимулом раскопать, разузнать, понять нечто, о чем раньше вовсе и не знали.
Тут, конечно, сделаю важную оговорку. Не великий стилист, но главное – антисемит Пикуль – один из ярких представителей оппозиции справа бесил (и было за что!) многих просвещенных интеллигентов. Юрий Нагибин попросту покинул редакцию журнала «Наш современников» после публикации романа Пикуля «Нечистая сила». Такие книги опасны для неподготовленных умов и душ, как водка для пустого, особенно – молодого, нетренированного желудка. Но если не считать книги Пикуля – истинной историей, уметь относится к авторским концепциям с умом и критически, просветительская оставляющая этих книг могла заинтересовать вовсе не только антисемитов и советских черносотенцев. Проще говоря, сначала в детстве надо читать Маршака и Драгунского, Носова и Милна в переводе Заходера, тогда потом можно читать и Пикуля.
Наконец, тяга к просветительству, к поиску новых тем и новых к ним подходов в эпоху застоя проявилась и в росте интереса к серьезным культурологическим (а официально филологическим и историческим) работам современных советских авторов, в первую очередь филолога Дмитрия Лихачева, филологов-философов Сергея Аверинцева и патриарха советской классической филологии, что называется: с дореволюционным стажем – Алексея Лосева. Конечно, увлечение подобной литературой не было и не могло быть массовым. Но в кругах городской интеллигенции, в том числе молодежи эти авторы и их книги были востребованы. Тем более что Лихачев, скажем, писал отнюдь не только о древнерусской литературе (хотя основной его темой была именно она), но и о Достоевском и, кстати, даже позволял себе в ссылках упоминать фактически запрещенного в СССР Владимира Набокова. Правда, разумеется, не как автора «Лолиты» и «Приглашения на казнь», а как прекрасного переводчика и комментатора Пушкина.
В определенной мере, интеллигентское, в том числе молодежное увлечение древностями было, конечно, тоже своего рода элементом протеста против государственной истории с ее занудными и лицемерными учебниками и лживыми фильмами. То есть, уход от казенной, официальной истории в нечто отстраненное от государственной идеологии. При этом к тому же – не запрещенное, а потому, с позиций государства – практически невинное. Ну, что крамольного может быть, скажем, в древнерусской литературе и тем паче в Аристотеле с Платоном? Правда, и здесь, конечно, можно было додуматься бог знает до чего! От признанного классика русской литературы, которого давно уже проходили даже в школе – Достоевского, скажем, путь шел к подозрительному у партийных мыслителей СССР Ницше и, что еще опасней – к русской философии начала ХХ столетия: Бердяеву, Розанову и прочим, практически запрещенным в СССР авторам. А там недалеко и до возможного переосмысления русской революции, а тогда и , вообще, всего остального…
Несколько лет назад по одному из телеканалов, специализирующихся на показе старых советских передач, запустили запись помянутой уже нами в начале «Песни-71» – первого из серии новогодних концертов «Песня года», которыми 1 января радовали похмельных граждан вплоть до краха Советского Союза и даже позже. Едва ли ни две трети песен в 1971-м были посвящены именно войне. На сцену выходили закованные от подбородка и до пят в тяжелые темные материи, гладко причесанные, предельно серьезные, неулычбивые девушки и мужчины, а скорее, несмотря на возраст – дяди и тети. С каменными лицами и стальным надрывом они вполне себе профессионально, с точки зрения музыкальности, выдавали пафосные, но неискренние, а часто и почти косноязычные тексты, положенные на незапоминающиеся, зато прямо почти симфонические мелодии. Все это – тоже наглядный пример трансформации официального отношения семидесятых к Великой Отечественной. Кто теперь помнит те бездушные тексты и навевающие тоску мелодии? Ничего святого? Да, ничего подобного! Простенькую, считающуюся народной (автор, действительно, неизвестен) песню из уже помянутого фильма Виктора Трегубовича «На войне, как не войне» – «Нас извлекут из-под обломков» (танкистская версия еще довоенной шахтерской песни), спетую в фильме нормальными человеческими голосами и с нормальными живыми человеческими лицами, помнят и поют! Причем, в разных вариантах. Фильм, напомню 1968-года, того самого, когда шестидесятые стали безвозвратно превращаться в семидесятые.
Через двадцать лет, кстати, эта песня еще раз появилась у Виктора Трегубовича в фильме «Башня». Поют ее тоже за столом. Но на случайную ночевку приехал теперь не экипаж самоходки, а отец, мать и взрослая дочь – вполне современная семья, в которой никто никого не любит, и все друг другу врут. Такая вот метаморфоза.
Интересно, что во второй половине семидесятых даже такие обязательные, добровольно-принудительные мероприятия, как весенний субботник, который, разумеется, называли Ленинским и коммунистическим, походы на демонстрации на 1 мая и 7 ноября граждане сами стихийно очеловечивали. Люди шутили, смеялись над тем, что происходило на этих мероприятиях, а заодно и над самими собой. Ну, и конечно – выпивали. Демонстрации проходили веселее, разумеется, 1 мая, когда (и если) погода была солнечной и теплой. Я неоднократно ходил на них с отцом и старшим братом и помню некую шутливую, дружескую и, все-таки, кстати, какую-то праздничную атмосферу. На остановках по пути на Красную площадь мужики, особо не прячась, доставали бутылочки-фляжечки или даже забегали в кафе. А подогревалось все это тем, что день, все-таки, выходной и потом с Красной площади все пойдут и сядут за праздничные столы. В общем, люди неистребимо и не без успеха сами старались придать человеческие черты даже бессмысленным и занудным официальным мероприятиям.
Идеалы, так называемая национальная идея и прочие оплакиваемые сейчас ориентиры СССР, рухнули вовсе не в восьмидесятых и уж точно не в девяностых. По сути, все это произошло уже в семидесятые, когда мифология, на которой держалась некая советская духовность, окончательно выродилась и потеряла убедительность. Люди, подсознательно ощутив образовавшуюся пустоту – вакуум, стали заполнять его – возвращаться к себе, в человечность, в собственные мелкие бытовые проблемы и нужды, а по сути – в индивидуальность из коммунальности (любимый термин мыслителя Александра Зиновьева, от которого он и образует понятие коммунизм).
Это не могло пройти для всех одинаково и гладко. А скорее, это обязано было пройти не гладко. Уже в позднем застое, например, были готовы будущие хозяева жизни – обитатели райкомовских и обкомовских кабинетов, принявшие, а вернее и построившие местный – российский капитализм с той же циничной страстностью, с которой возводили коммунизм. То, что они соорудили, оказалось худшим вариантом того, о чем думали и с чего начали. Но это – отдельный разговор. А конец семидесятых это – тоска, примитивный цинизм, фарисейство, водка… Но ведь тут же – и прекрасные, замечательные фильмы и книги, реальное просветительство, новая музыка. Вот такие были странные, удивительные, противоречивые годы. Об этом мы и продолжим разговор.
ГДЕ БЫ НЕ РАБОТАТЬ
Фразу: «Где бы ни работать, только не работать» я впервые услышал в середине семидесятых от единоутробного брата (мать – одна, отцы – разные) моего отца, с которым они по разным причинам общались очень редко. Сказана фраза была с улыбкой, вроде даже и с юмором, но в тоже время – вполне серьезно. Даже я это понял, и хорошо помню, что меня это страшно удивило. В нашей семье такого лейтмотива существования не было, а с миром вне семьи я пока был знаком совсем мало. Уже позже в советский народный фольклор вошло: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем». Называлось это итальянской забастовкой. И еще, из фольклора тех лет: казенное словосочетание «Пятилетка эффективности и качества» (так официально назвали десятую пятилетку в 1976 году на XXV съезда КПСС), постоянно повторяемое с экранов, из репродукторов и со страниц всех газет, быстро трансформировалось в народе в «пятилетку фиктивности и трюкачества». И, наконец, вот уж совсем саркастичное и желчное:
Вот он наш советский герб,
Слева молот, справа серп.
Хочешь жни, а хочешь куй,
Все равно получишь…»,
После характерной паузы добавляли: деньги!
Конечно, в эпоху развитого социализма (это определение, кстати, прозвучало впервые еще на ХХIV съезде КПСС в 1971-м) вовсю работали заводы и фабрики, строили БАМ (Байкало-Амурская Магистраль – грандиозная железная дорога в труднопроходимых районов Восточной Сибири и Дальнего Востока), огромный завод грузовиков КамАЗ в городе Набережные Челны в Татарии (кстати, неуклюжее название про набережные реки Челны, в итоге еще и начали склонять), великое множество других крупных, средних, мелких предприятий. Страна наращивала производство практически всего: от станков и автомобилей (про танки и ракеты не писали, но и с ними было все понятно) до ботинок, ткани и прочих, как тогда говорили «товаров народного потребления». Но догадаться о том, что производительность труда в СССР крайне не высокая и практически не было не трудно даже не будучи экономистом. Хотя бы потому, что при отсутствии безработицы, всеобщей занятости и очень невысоких в среднем зарплат, в стране постоянно не хватало самых разных, в том числе совсем немудреных товаров. Куда же уходил пятидневный, восьмичасовой труд миллионов советских людей? Что они делали? Даже с учетом того, что многие из них работали на оборону и производили, соответственно то, что в магазинах не продавали. Или, вот сельское хозяйство, в котором трудилось уйма народа, а им на овощных базах и в совхозах помогали студенты, школьники и научные работники, а с едой было, при этом, все труднее.
Причины дефицита – нехватки практически всего и вся, характерной с самого начала Советской Власти и до самого ее конца и являющегося постоянной составляющей жизни большинства советских людей, были не только в том, что страна тратила огромные средства на военное производство и помощь коммунистическим и рабочим (как тогда писали) партиям всего мира. Конечно, характер советского дефицита в семидесятые заметно изменился, как и сама жизнь. Нехватка простой еды, элементарной одежды и обуви, сменилась нехваткой уже более или менее нормальной обуви, приличной одежды и хорошей еды, наконец, автомобилей и иной техники. Потребности-то росли вместе с ростом доходов. Но об этом основательно поговорим позже. А пока попробуем проследить трансформацию отношения советских граждан к труду: от оттепели до позднего застоя.
Мы не ставим здесь, разумеется, задачи анализировать экономику СССР, как таковую, ее официальные показатели, рожденные Госкомстатом (Государственный комитет по статистике) и прочими научно-советско-партийными структурами. Тем более что официальная статистика «выплавки чугуна и стали на душу населения в стране» (песню «Товарищ Сталин» Юз Алешковский написал еще в 1959-м), которых выплавляли, действительно очень много, далеко не полно, а с точки зрения обычной человеческой жизни и вовсе – практически никак, отражала реальный быт советских граждан. И, уж точно, не характеризовала их отношение к труду, как таковому. А ведь изменение этого отношения в общественном сознании, в бытовых разговорах, в книгах и фильмах, наконец – попросту в том, что происходило на обычных советских рабочих местах – одним из главных трендов эпохи, во многом определяющих сам дух застоя.
И дело не только в том, что, как мы уже заметили, при постоянном официальном росте экономики реальный дефицит рос куда стремительней этой самой экономики. Кстати, даже в официальных статистических данных было немало лукавства. Речь не только о прямых приписках, которых, как известно, тоже хватало. Были и другие – вполне официальные маленькие и большие хитрости. Прикрываясь тем, что теперь для предприятий главное не производство, а сбыт и доход, рост этого самого производства чего-либо считали в рублях. А цены-то, вопреки официальной пропаганде, потихоньку росли практически на все. Поднимали их двумя основными способами. Официально – с предварительным объявлением в прессе и на телевиденье периодически дорожало то, что с точки зрения государства не считалось «товарами первой необходимости». Например, ювелирные украшения, автомобили, табак, изделия из кожи и, конечно же, алкоголь. Такие события случались не часто, но вполне регулярно. Одновременно цены снижало на что-нибудь уж совсем не нужное, залеживающееся на прилавках. Но не только советская роскошь, но и все остальное, за исключение уж совсем простых продуктов, типа хлеба и молока, которые были главными для официальной идеологии товарами и которые всегда приводили в пример, чтобы подчеркнуть стабильность социализма, или, скажем – убогих войлочных ботинок, потихоньку дорожало. Выглядело это по-своему даже элегантно: вместо устаревшей модели обуви или пальто, магнитофона или проигрывателя появлялась новая – естественно дороже прежней. Вот и производство, измеренное в рублях, таким образом росло естественно всю дорогу. При этом товары могли лежать в магазинах не проданными. Люди-то хотели уже что-то получше, а не абы что. Даже, если за это абы что предприятию перечислили деньги, а значит – и таким же, как и все советским гражданам заплатили уже зарплаты и премии.
Среди многого, чего не было в СССР, как известно – и безработица. Этот очевидный факт стал один из главных и мощных идеологических столпов советского социализма. Сентенцию о полной занятости и «праве на труд», закрепленном в Конституции, повторяли всем советским гражданам, начиная уже с детсадовского возраста. Что уж говорить: ощущение стабильности, «незыблемости основ», уверенности в завтрашнем дне в советской жизни, конечно, были. Но выражалось это, в частности, и во фразе: «Я на каждом заборе требуюсь». Так насмешливо или зло говорили рабочие, поругавшись с начальством. И это – тоже сущая правда. У редкого предприятия не висели плакаты с объявлениями, начинающиеся со слова «требуются». В производственных картинах семидесятых ни раз показывали конфликты руководителей предприятий: один недоволен, что у него сманивают кадры. Речь в данном случае, конечно – о простых рабочих специальностях: слесарях, электриках, токарях, водителях. Но особых проблем с трудоустройством не было и у людей более сложных и престижных специальностей. Вечно не хватало врачей и любого медицинского персонала, учителей. Рядовой инженер и младший научный сотрудник тоже ни в коем случае не пропали бы. О наборе доцентов, профессоров и докторов наук на заборах, правда, не писали. Но в сфере науки действовали, вообще, свои – особые неписанные правила. Переходить их НИИ в НИИ специалистам, успевшим стать в своем институте более или менее заметными, тем более руководителями лабораторий и отделов, было не принято, без согласия не только «принимающей», но и «отпускающей» стороны. А если человек был еще и членом партии, то требовалось благословение и вездесущей партийной организации. Особенно это казалось НИИ системы Академии Наук. В этой – в известной мере привилегированной касте существовали свои законы, не позволяющие выносить сор из избы и уходить из НИИ со скандалом.
Семидесятые, вообще, резко трансформировали советскую науку, в частности – НИИ разрослись во всех смыслах. В иных институтах работали уже тысячи сотрудников, и атмосфера там была совсем не та, что в романтические и во многом идеалистические пятидесятые– шестидесятые. Тем не менее, некая аура избранности вокруг тех, кто там трудился, по-прежнему существовала. Впрочем, отношение к науке и сотрудникам НИИ в общественном сознании стремительно и резко менялось. Тем не менее, у моего отца – всего-то кандидата наук – физика, правда члена партии в середине семидесятых процесс перехода из одного института, где он проработал четверть века и, по сути, зашел в тупик в отношениях с начальством, в другой, по сути, ушло три года. Смешно, но для мирного урегулирования этого немудренного, казалось бы, действа где-то на нейтральной территории собирались заинтересованные стороны. Ну, прямо как переговоры Даллеса с Вольфом в «Семнадцати мгновениях»! Но все эти годы, несмотря на в общем-то конфликтную ситуацию, отец безработным не был. Он продолжал работать, получал все ту же твердую зарплату и, главное – точно знал, что не станет безработным никогда.
Остаться без работы и значит, хоть какого-то дохода не боялся никто. Другое дело, что работа могла быть интересней или менее интересной, ближе к узкой специальности или дальше. Но любой советский человек знал, что в любом случае какую-никакую работу и, соответственно, гарантированную зарплату он всегда получит. И, что характерно – без особых усилий.
Но советская всеобщая занятость вовсе не значила, как кому-то кажется теперь, всеобщей уравниловки в доходах. Разрыв в них в семидесятые рос особенно стремительно и наглядно. Об этом по разным поводам мы будем вспоминать неоднократно. Например, у людей в ту эпоху все чаще появлялись не официальные, альтернативные, так сказать, источники немалых доходов. Но даже официальные зарплаты в стране были очень и очень разные. Причем, подчас даже у людей одинакового образования и одной профессии. Скажем у инженера или слесаря где-нибудь на заводе или в обычном НИИ оклад и особенно премии были куда ниже, чем на оборонном предприятии – так называемом «почтовом ящике». Это словосочетание, кстати, нынче тоже, вероятно, требует особого пояснения.
Многие, связанные с обороной предприятия – заводы, конструкторские бюро, НИИ имели, по сути, два названия: официальное и известное лишь узкому кругу. В большинстве документов такие заводы и институты обозначали, как «п/я» – почтовый ящик, дальше следовал номер. От этого, кстати, у Бродского «служил на номерном заводе» и характерное словосочетание семидесятых – «работает в ящике». Так, вот многие стремились именно в «ящики», потому, что платили там больше, чем на «мирных» предприятиях. Но несмотря на то, что военно-промышленный комплекс в семидесятые, явно, приобрел циклопические масштабы, на всех «ящиков» и высокооплачиваемой работы там просто не хватало. Ну не могли все-таки все работать на оборону! Кстати, и не все хотели. И дело было не в тщательной (а на самом деле, думаю, уже не очень тщательной проверке) при оформлении на работу. Кстати, в «ящиках» еще и в поздний застой при поступлении на работу заполняли анкеты чуть ли ни на восьми листах с вопросами не только о судимостях, но и том где гражданин был во время войны, кто его родственники (включая родителей, которых индивидуум не видел с детства или вовсе – никогда) и тому подобная мура. Причем, анкеты надо было заполнять строго по форме. Подозреваю, правда, что внимательно их уже никто в те годы не читал. Но помимо дурацких анкет, работа в «ящике» имела и иные дополнительные неудобства. Скажем, более жесткий режим рабочего дня. Это, разумеется, не значило, что ты должен работать. Но подразумевало, что нельзя опаздывать и уходить раньше официально окончания рабочего дня. Впрочем, в угар застоя и это довольно быстро стало растворяться в скуке, охватившей даже тех, кто призван был следить за трудовой дисциплиной и всеобщем пофигизме. Работники «ящиков» не могли выезжать за границу, даже несколько (чуть ли ни семь) лет после увольнения, причем, даже туристом. А в эпоху, когда в этом смысле границы немного приоткрылись, некоторых это тоже не устраивало.








