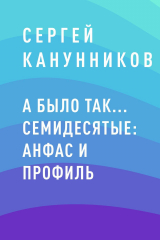
Текст книги "А было так… Семидесятые: анфас и профиль"
Автор книги: Сергей Канунников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Конечно, буквально, в точности ничего не повторяется. Тем не менее, понятие модернизация в нашем – советско-российском контексте имеет собственное – национальное прочтение. Эта цикличность, периодическое возвращение к архаике, в противовес сомнительному модернизму, собственно, и обусловила одно из главных, принципиальных отличий западноевропейского и нашего мировосприятия, а стало быть, и – пути развития. Но в данном случае для нас это, все-таки – не главная тема.
Вернемся к «номерным» культурам. Итак, по Паперному, повторим, архитектура перешла от авангардного конструктивизма 1920-х – начала 1930-х к классицизму («сталинскому ампиру») 1930-х – 1950-х. Разумеется, концепция Паперного, как и любая культурологическая схема, не безгрешна, в том смысле, что – не математика. В гуманитарном мире любое деление, конечно – условно. Всегда есть исключения или, по крайней мере, попытки исключений. Тем не менее, на наш взгляд, эта схема вполне логично и образно (что, в общем-то, не менее, а иногда и более важно для понимания того, чем и как жила наша страна в ХХ веке) характеризует культуру, эстетику и даже этику советской жизни. Напомним, что Культура 2 охватывает период от начала 1930-х – окончательного утверждения сталинской диктатуры и эстетики, до конца хрущевской оттепели и начала брежневского застоя (без кавычек!).
В общем, переход от авангарда к архаике, от конструктивизма к сталинскому ампиру, от модернизма и романтизма в литературе к матерому соцреализму (не сказать – публицистическому натурализму), действительно – характерные черты первой половины прошлого столетия.
Но вернемся пока к архитектуре. Основы и принципы советского ампира – сталинского Большого стиля отличают, в частности, абсолютно нечеловеческие масштабы. Речь не о небоскребах, как таковых. От американских высоток, советские отличались принципиально. (Как, к слову, и кино Большого стиля, созданное Григорием Александровым и Иваном Пырьевым, от продукции Голливуда). И дело не только, в том, что московские (а за ними, скажем, варшавская и рижская) высотки подчеркивали величие власти перед слабостью и несовершенством отдельного индивидуума. Это, уж конечно, придумал не Сталин и даже не его придворные зодчие. Помните, как сказал Бродский о фетишизируемом всем миром символе Парижа: «И башня, чтоб почувствовать: ты – вошь». В сталинской архитектуре сверхчеловеческих масштабов необходимое условие «нарядность» – помпезный, причудливый декор. Кстати, именно об этом неоднократно писали советские теоретики былых времен, противопоставляя «радостную» советскую архитектуру «мрачной» американской. Декор был особенно важным эстетически-воспитательным элементом. Причем, в декоре этом советские зодчие причудливо и, кстати, умело и талантливо, сочетали новые советские символы с теми самыми «устоями», которыми жили наши предки и которые в концепции той эстетики незыблемы для нас – современников и будут незыблемы для наших потомков. Понятно, что это, например, символы здорового тема – мускулистые мужчины и дородные, грудастые женщины, все – с сосредоточенными на созидании лицами. Тут же, конечно, и символы сытости и плодородия – бесконечные венки из злаков и богатые фруктово-овощные корзины. Но, помимо этого, советская культура большого стиля, вроде бы, отрекшаяся от всех прежних «неправильных» культов, настойчиво и старательно продвигала не только новую советскую религию, но и культ промышленного производства, рожденный капитализмом. Просто в СССР капиталистический культ товарного производства и потребления заменили преклонением перед новой «машинерией», по сути – вариацией заокеанского «фордизма». Но социалистическое производство, в отличие от «фордизма», это – труд на благо всех, а не одного человека – толстого капиталиста. И, в этом смысле, труд имеет не только романтическое, а скорее даже религиозно-мистическое наполнение.
Одним из самых мощных мастеров раскрывать эту сущность в литературе второй половину прошлого столетия был, конечно, Леонид Леонов. Железная поступь советской индустриализации, скажем, в «Соти», и в «Скутаревском» превращается в некий новый религиозный культ. И выживает во всем этом лишь тот, кто не просто подчиняет этому ритму жизнь, но фактически встраивается в него, осознает себя лишь малой частью, деталью гигантской, ревущей почти мистической мощью конструкции. Вот этот культ машин, производства, труда тоже стал необходимым элементом культуры Большого сталинского стиля и архитектуры – в частности. Американские небоскребы сослужили сталинской культуре прекрасную службу, поскольку помогли подчеркнуть высоту, звездность, недосягаемость великого идеала. К нему необходимо стремиться, но его нельзя достичь. Вот они: величественные скульптурные – строгие, но вдохновенные рабочие, солдаты с суровыми лицами, мощные крестьянки, способные не только посадить на грудь двухлетнего ребенка, но и накормить всю великую державу. Но все эти персонажи расположены на недосягаемой архитектурной верхотуре, и едва различимы с земли. В общем, ведь, они – боги нового социалистического Олимпа.
У этого Олимпа есть и еще одно важное свойство. Культура Большого стиля подразумевала демонстрацию жизни, которой, по сути – нет. Ну, совсем просто: ломящиеся от разнообразной снеди и прочих товаров прилавки советского базара в «Кубанских казаках» Ивана Пырьева. Голодная и раздетая после опустошительной войны, наполненная инвалидами и детьми – сиротами страна в этой эстетике совсем – не самое важное. Это, по сути – иной мир, возведенный Пырьевым профессионально, талантливо и монументально. В этот мир необходимо было не просто поверить, а воспринять его, как нерушимый устой, как – надбытие. Наконец, как то, что есть просто потому, что – есть. Оно не подлежит обсуждению, поскольку – выше человеческой мелочности и сиюминутности. А великое в этой схеме, в этих этике и эстетике и существует лишь вне, вернее над отдельно взятым грешным, слабым и мелким человеком.
Увидеть гигантские масштабы и величавую геометрию задуманных сталинским генеральным планом реконструкции Москвы 1935 года, а отчасти – и воплощенных со временем столичных площадей, можно было разве, что с птичьего полета. То есть – находясь над простым, прозаичным миром. А кто бы увидел циклопического Ленина, задуманного, как завершение еще более циклопического Дома Советов? Даже воплощенные, все-таки, в камне скульптуры на московских крышах (скажем, полукруглых домов на нынешней площади Гагарина, а тогда – площади Калужской заставы, задуманной, как парадный въезд в Москву из аэропорта Внуково) достойно оценить могли, да и могут теперь разве, что вороны и голуби. На широченных проспектах за Садовым кольцом, пробиваемых среди деревень и картофельных полей, терялись не только люди, но и редкие автомобили. Зато на этих магистралях 7 ноября масштабно смотрелась мощная, многолюдная демонстрация трудящихся и не менее эффектно – черные длинные лимузины, едущие вдоль рядов граждан, восторженно встречающих зарубежных гостей или своих космонавтов. Это, впрочем, было уже позднее. Во времена «вождя всех народов» – Сталина такого демократизма, как народное ликование по поводу зарубежных лидеров, приезжающих в гости к своим старшим братьям и наставникам, просто быть не могло. Помните у Слуцкого: «Однажды я шел Арбатом, бог ехал в пяти машинах». Кстати, элементы сталинского Большого стиля, явно, сродни и недоступным восприятию простых смертных, да и попросту невидимым интерьерам этих машин. Важно, чтобы гражданин осознавал: там за темными стеклами огромных лимузинов, также как на крыше роскошного монументально дома, есть нечто важное, неизмеримо более масштабное и серьезное, чем его – личные, мелочные, бытовые проблемы. Стремиться надо именно туда – к высокому и «главному». То есть – в некую бесконечность, в высоты, по Александру Зиновьеву – «зияющие». И еще очень важно, что даже эти «промежуточные» высоты: квартиру в величественном доме или огромную черную машину нельзя купить даже за самые твердые советские рубли. Все это можно лишь заслужить беззаветной и преданной службой государству и партии. Кстати тот, кто заслужил все это, в идеале тоже постоянно должен был помнить, что машина с шофером, квартира, паек и прочие блага, по большому счету, по-прежнему принадлежат высшей инстанции – государству и могут вернуться к нему, если временный владелец поведет себя не как положено правилами, традициями, канонами. А все остальные должны быть уверены, что со времен и у них появится (ну, могут появиться) подобные квартиры или хотя бы похожая еда.
Мой брат, чье раннее детство пришлось на середину пятидесятых, рассказывал мне забавный монолог его няни, с который они гуляли по Москве. Восемнадцатилетняя девчонка Нюра из землянки на бывшей оккупированной территории приехала в Москву учиться в техникуме и некоторое время за совсем небольшие деньги, еду и спальное место в коридоре коммуналки на Мытной подрабатывала няней. Так вот, глядя на новые высотные дома, Нюра вдохновенно говорила мальчику, что вот пока здесь будут жить ученые и артисты, а потом такие же квартиры получат и все остальные. И она, и не только она в это, действительно, свято верила.
Парадокс (вернее, один из бесконечных парадоксов) нашей истории в том, что сколько ни иронизируй над градостроительством советского большого стиля, именно порожденные им гигантские площади и широченные проспекты для парадов и демонстраций, например Ленинградский или уже помянутый, Ленинский в Москве, начатый при Сталине, еще будучи Большой Калужской улицей, и продолженный при Хрущеве в том же градостроительном стиле, сегодня позволяют хоть как-то проехать в центр города и из него. И это, несмотря на все старания нынешних градостроителей – творцов пародийного нового Большого стиля, довольно успешно пытающихся застроить каждый клочок земли новыми небоскребами и расширять пешеходные зоны, превращая центр город в плац для всенародных гуляний и существующих, в основном лишь, в воображении начальства, огромных колонн туристов, пораженных новым государственным величием. Это ведь, кстати – все те же элементы параллельной, мифологической, далекой от презренного быта обычных горожан жизни. В общем, конструирование параллельной жизни, то есть – мифологии – одна из главных задач Культуры 2 – эстетики Большого стиля.
Термин мифология, как известно, нынче растиражирован и донельзя затерт (конкурировать с ним в этом может лишь слово – легендарный), но лучше, все-таки, подобрать сложно. Тем не менее, применение этого термина в этой книге и в этом контексте требует небольших, но важных пояснений.
«Мифологией мы называем, – писал величайший отечественный мыслитель, знаток античной философии и литературы А.Ф. Лосев – именно понимание всего неживого, как живое и всего механического, как органического… Общее и единичное тождественны… единичная вещь должна действовать на манер общего понятия». Такое мировосприятие, говорит далее Лосев, меняет причинно-следственные связи: «Дыхание вылетает изо рта умирающего в виде облачка и летит по воздуху. Птицы тоже летают по воздуху. Следовательно, душа есть птица».
Ну чем не советская мифология? Вот например, до боли знакомое людям пятидесятых – семидесятых: «человек может ошибаться, а партия – нет, следовательно, нельзя обижаться на партию». Или: «главнокомандующим Красной Армии был Сталин, значит, без него мы бы не победили в войне». Ну, и еще: «до революции большинству жилось плохо, Красная Армия победила в Гражданской войне, а значит, выражала интересы этого большинства». Продолжать можно еще и еще. Мы жили в этом – все, просто замечали и пытались анализировать это – не многие.
Но советская мифология – не только специфические причинно-следственные связи, но и, повторю – некая новая реальность. Та, которую «единица-ноль» (по Маяковскому) должна не только принять, как должное, но и полностью в нее встроиться, а скорее даже раствориться в ней. А заодно, участвовать в ее сохранении и совершенствовании по определенным «советско-мифологическими» законам.
Но в семидесятых (наконец-то, мы подошли к главному, но предисловие это было необходимым), все это, вроде бы – вековечное и незыблемое, постепенно стало меняться, растворяться в мелкой, частной жизни. Сначала – плавно и довольно робко, потом – все стремительней и, в общем, даже нахальней. Конечно, хрущевскую оттепель, то есть – Культуру 1 на новом витке истории с характерным для конца пятидесятых – начала шестидесятых очередным модернизмом – совсем новым кино и литературой, стеклянными, зрительно-легкими, в противовес сталинским классицистично– монументальным зданиями, простой рациональной мебелью, вытеснила на рубеже семидесятых очередная Культура 2 эпохи позднего застоя. Но эта новая Культура 2 (на современный лад, скорее Культура 2.2) – поиск нового Большого стиля эпохи развитого социализма или позднего брежневизма, все-таки – уже совсем не та, что была при Сталине. Отчасти она даже пародия на ту – «настоящую», на тот Большой стиль. И к концу эпохи застоя это становилось все очевидней и наглядней.
Конечно, принцип «казаться, а не быть» никуда не делся, сохранился и в идеологии и в официальной культуре. Но эстетика ампирных домов Культуры 2, построенных, кстати часто наспех – из непонятно чего и, при близком рассмотрении, «сикось– накось», как говаривала моя бабушка, и фильмы типа «Кубанских казаков» с их картонной жизнью, бутафорской едой и показной радостью, все-таки, ушли в прошлое. В семидесятые идеология уже была совсем не та. Мощный (почти без иронии) кинематограф Ивана Пырьева времен апогея сталинской эпохи сменился вялыми, хотя и «идеологически-выверенными» производственными драмами позднего застоя. Одновременно, правда, именно тогда выходили лучшие, талантливые и мощные картины, которые, действительно, составляют золотой фонд нашего кино. Но именно они-то, по краней мере на первом этапе выделялись из мейнстрима, а вернее – символизировали его кардинальное и безвозвратное изменение.
Советские мифы и каноны официально никуда не делись, но воспринимать их стали совсем по-другому: для начала все более недоверчиво, все более «без души», а потом уже – и с раздражением и даже цинизмом. Жизнь семидесятых, по-прежнему, подразумевала два типа поведения, а отчасти и мышления. Один – для собраний (комсомольских, партийных и профсоюзных) и разговоров с начальством и для начальства. Второй – для дебатов на пресловутых советских кухнях и в рабочих курилках. А там все чаще и все громче говорили то, что думали на самом деле. И уже не просто ругали конкретное начальство, свое – мелкое, а брали даже выше!
В этом разрушении, для начала – просто размягчении гранитной советской мифологии огромную роль сыграло, как раз, искусство – литература, кино, музыка. Ведь делало эту культуру поколение, взращенное оттепелью, и даже – уже и следующее. Но идеология, при всех попытках очередного закручивания гаек, поощрение «правильного» творчества всеми возможными в советской жизни способами, гонение на андеграундное творчество и борьба с инакомыслием, даже во вполне невинных его проявлениях, оказывались слабее лучших проявлений советского искусства. Ведь делали это самое искусство куда более талантливые, чем творцы идеологии люди. Да и последние, чего уж говорить, стали относится к своей миссии тоже «без души», благ-то у них стало больше, а вероятность их потерять – куда меньше. Так, что семидесятые – некая по-своему удивительная несочетаемость, несовместность того, что оставалось на поверхности официальной советской жизни с тем, что созревало и мощно росло в ее глубинах.
Сталинская культура, во многом и по преимущество, конечно – архаика, возвращение к классическим канонам, к древним традициям. Это проявлялось и в архитектуре, и в музыке, и в культивирование древних национальных героев: от Александра Невского и Михаила Кутузова до «собирателя русских земель» Ивана Грозного и первого российского императора Петра I.
А семидесятые, все-таки – совсем другое время. Ну, какая тут архаика? Ведь среди плодов этого застоя, например – насквозь несоветские и неклассические в контексте советского кинематографа, а скорее, как раз модернистские по поэтике фильмы Андрея Тарковского – «Зеркало» (1974 г.) и «Сталкер» (1979 г.), авангардный (хотя и советский, конечно) «Романс о влюбленных» (1974 г.) Андрея Кончаловского. Правда, рядом вполне комфортно, привольно и вальяжно разрослись «исторические» деревенско-сибирские телевизионные сериалы, настойчиво утверждающие, как раз архаичное сознание и являющие ярчайшие примеры культивирования советской мифологии. Сюжетные конструкции отработаны были еще в тридцатые – пятидесятые и лишь получали новый колорит. Вместе с цветной кинопленкой. Скажем, бывший кулак, купец или промышленник, почти непременно, должен служить потом в гестапо. А вот, его отпрыск под влиянием здорового партийно-комсомольского коллектива, возможно, все-таки, станет «настоящим человеком». Заблудшую деревенскую красавицу, думающую о парнях, чуть больше разрешенного, обязательно перевоспитают. Ну, и даже если и были отдельные ошибки в истории страны, вообще, и в этой самой деревне – в частности, они – ошибки, разумеется, не имеют никакого отношения к системе, к «генеральной линии», к безгрешной по определению партии. Обычно, несправедливые, как потом выяснилось, репрессии в таких многостраничных эпосах и снятых по ним картинах, были инспирированы происками тех самых бывших, затаившихся купцов и кулаков. Отдельные представители враждебного класса умудрились-таки, обманув, вообще-то очень зоркую партию, пробраться к власти. Ну, а в крайнем случае, в несправедливых репрессиях виноваты паталогические злодеи, дуболомы (а еще, кстати, и костоломы, но это – оставалось за кадром), на которых как-то случайно оказалась форма НКВД.
Но и эти до оскомины длинные произведения с предсказуемым сюжетом, в общем-то, были лишь жалким эпигонством, по сравнения с искренними, мощными работали Большого стиля, скажем, картинами того же Ивана Пырьева или Григория Александрова. В тех картинах было мастерство, в создаваемый ими мир – граждане искренне верили. По крайней мере – большинство. А, кроме того, в той или иной степени, те, кто творили Большой стиль, как ни удивительно, сами верили в созданный ими мир. Иначе бы так хорошо не получалось!
Примерно такие идеологически-стилистические нестыковки сплошь и рядом происходили и на советской эстраде семидесятых. Эти годы, как ни крути – вершина советского эстрадного стиля и одновременно – его постепенное разрушение. Песни советских композиторов (помниться еще в детективе пятидесятых «Дело № 306» из радиоприемника, по иронической задумке создателей фильма, звучало: «Мы передавали концерт, теперь послушайте песни советских композиторов») входили в каждый дом через миллионы радиоприемников, телевизоров и с грампластинок фирмы «Мелодия», издающихся, опять же, миллионными тиражами. Да, тех, кто совсем не умел петь, на эстраду тогда не допускали. Поэтому антимузыкальный и антихудожественный ужас следующей эпохи тогда и представить было невозможно. Но творчество многих советских авторов и исполнителей времен застоя навевало вселенскую тоску примитивными, но обязательно пафосными или приторно– «добрыми» текстами и псевдо симфонической или псевдо народной мелодикой.
Теперь несложно пересмотреть финальные концерты ежегодных телевизионных конкурсов «Песня года» годов эдак 1971-го – 1975-го. Начиная с 1971-го, эти большие концерты, в которые по идее включали все лучшие песни, появившиеся в прошедшем году, показывали к вечеру 1 января. Смотрели их практически все. С одной стороны – эстрада в начала семидесятых постепенно демократизировалась. Но первые годы большую часть репертуара певцов в строгих костюмах и певиц в платьях от подбородка до пят, составляли, в основном патетические произведения про родину, труд и, конечно, войну. Песен на десять приходилась одна, так сказать, лирическая, которую можно было спеть, хотя бы, с легкой улыбкой на губах. К концу же десятилетия все стало куда веселей и ярче (об этом мы еще будем подробно говорить), а идейность приобрела уже совсем упаднические формы. Советская «патриотическая» песня от бравурной и все-таки с задором «Любовь, комсомол и весна» (А. Пахмутовой – Н. Добронравового, исполнитель Лев Лещенко) дошла до уж совсем чудовищного опуса «Стоп, мистер Рейган!» в исполнении ансамбля «Самоцветы» (музыка Ю. Маликова –В Преснякова, слова – В. Сауткина), 1984-го, в известной мере – уже предперестроечного года.
Но ведь, в тоже самое – застойное время на эстраду, особенно в конце семидесятых – начале восьмидесятых вновь (после оттепельных лет), стали проникать очень неплохие, приличные, а иной раз – и действительно хорошие, почти или совсем безыдейные лирические песни в исполнении популярных вокально-инструментальных ансамблей, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Юрия Антонова. Ярчайший пример этого преображения – песни Пугачевой на стихи совсем непопулярного на государственном, официальном уровне, хотя, конечно, уже и не запрещенного и изданного Осипа Мальдештама, в том числе: «Я больше не ревную, но я тебя хочу…» (1982 г.). Это вам – не «Мой адрес Советский Союз» в исполнении уже помянутых «Самоцветов».
А ведь рядом с официальной эстрадой был уже и разнообразный и мощный музыкальный андеграунд. Скажем модернистский «Гойя» Александра Градского (1974 г.) и пластинка «По волне моей памяти» Давида Тухманова ( 1976 г.). Причем, эта работа Тухманова – вовсе и не андеграундное искусство. Она была вполне официально издана фирмой «Мелодия» (правда, говорят, что худсовет да выхода пластинки ее целиком так и не слышал, а потом уже было поздно) и, несмотря на большой тираж, мгновенно стала дефицитом. Тут же развивался и советский полуподпольный рок. Число команд, играющих совсем другую музыку, к началу восьмидесятых было уже огромно. Помимо уже хорошо известных даже и в не очень узких к концу эпохи кругах, скажем, «Машины времени» и «Воскресенья», появлялись и существовали немало других. В том числе, к слову, и не только в столице, но и на периферии, в частности – в союзных республиках. Об этом тоже будет отдельный разговор.
С одной стороны между культурами официальной и андеграудной (само появление последней уже – признак другого времени, «не чистой» Культуры 2), существовал пока еще довольно четкий барьер. Но он ведь существовал, по сути, даже и в официальном искусстве. Вот ведь и кино, которое в силу производственной специфики просто не могло в СССР быть андеграундом, стало настолько разным, что порой, кажется: эти фильмы делали люди, живущие в разные времена и в разных мирах. При том, что и те, и другие учились в одном советском ВУЗе, жили в одном и том же советском мире. Речь даже не о фильмах, положенных в ту эпоху на полку и вышедших на экраны лишь в перестройку. Тем более что никакой антисоветчины, как таковой, в них, ровно также как и в тех, что выходили, все-таки, на экраны – не было. Это вопиющее разнообразие касалось и принятых к прокату фильмов. С важной оговоркой: эти самые экраны в Союзе тоже были уже очень разные. На выходе фильму присваивали определенную категорию и, в зависимости от этого, картину показывали в главных огромных кинотеатрах, сопровождая броской рекламой и в той или степени восторженными рецензиями в прессе. Иные же фильмы, скрепя сердце, благословленные все-таки на выход в советский мир, показывали, как тогда стыдливо говорили: «малым экраном» – в периферийных кинотеатрах на окраинах, в каких-нибудь домах культуры (к слову, самое столь привычное тем поколениям словосочетание «дом культуры», в общем-то, тоже – явление мифологизированной жизни), а то и вообще – в залах лишь неких НИИ. Именно НИИ, кстати, в семидесятые стали рассадниками неофициального, а иногда и почти подпольного искусства. Так показывали, в частности, гениальное «Зеркало» Тарковского. Трудно было увидеть «Осень» Андрея Смирнова (1984 г.), обвиненную чуть ли не порнографии, а между тем просто – один из лучших советских фильмов о любви. Краем прошли «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна (1982 г.) – один из наиболее тонких и одновременно предельно точных фильмов о советском мире конца семидесятых.
Еще четче делилась музыка. Причем с распространением магнитофонов (устройство это – один из главных знаков эпохи, о чем мы тоже поговорим потом подробнее), в куда большей, понятно, степени, чем кино. Одна музыка лилась из радиоприемников и телевизоров каждой квартиры и занимала огромные, лучшие концертные залы страны. За другой надо было ехать куда-нибудь на окраину в небольшой зал дома культуры какого-нибудь завода, учебного института, или опять же – НИИ. Но все это вовсе не значило, что такого кино и такой музыки – не было. Просто для того, чтобы с ними познакомиться, надо было приложить чуть большие усилия, чем для включения телевизора. А нехитрый фокус и одновременно тренд финала застойной эпохи состоял в том, что «зажим» картины, барда или музыкальной группы теперь был для людей лучшей рекламой. Едва ли ни более эффективной, чем огромные плакаты на главных кинотеатрах страны.
Все это существовало рядом, по соседству, вовсе не за железным занавесом. Ровно, как и два мировоззрения – одно для выступления или хотя бы голосования на собрании, другое – для общения со своими единомышленниками – нормальными людьми. Но, кроме того, две параллельные культуры еще и влияли одна на другую. Со временем иногда даже потихоньку перемешивались, создавая, порой, причудливые, возможные лишь в позднем СССР коктейли. Причем, движения по вектору официоз-андеграунд шло в обе стороны. Конечно, некоторые представители советского музыкального андеграунда, настойчиво и искренне презирали официальных исполнителей, в первую очередь тех, кто работал в ВИА (принятое в те годы сокращение от вокально-инструментального ансамбля). Но непримиримыми максималистами были уж точно не все. Тем более что речь шла не только о текстах и даже не только о музыкальной стилистике, а еще, ведь, и о музыкальности и профессионализме, как таковых. А эти качества при массовом распространении моды на подпольные рок-группы были далеко не у всех. Представители же официальных ВИА играли и пели, что уж говорить, иногда чудовищные по содержанию вещи, но – профессионально.
Более свободный андеграудный, роковый стиль музыки, бурно, несмотря на неофициальный статус, развивающийся уже с начала семидесятых, тем не менее, потихоньку просачивался на официальную эстраду; скажем – с Юрием Антоновым или некоторыми вокально-инструментальными ансамблями, например «Веселыми ребятами». В их музыке появились новые «не нашенские» краски и безыдейные, лирические (пусть и не всегда серьезные с точки зрения настоящей поэзии) тексты. Ну, а кто-то, наоборот, уходил из андерграундых групп на официальную сцену, в поисках признания, ну и чего греха таить – достатка. Взрослеющим рокерам ведь тоже надо было жить: появлялись семьи, о которых надо было заботиться. В общем, так или иначе, даже официальный музыкальный стиль СССР к концу семидесятых заметно менялся.
Кстати, именно из этого культурно-исторического смешения официального и подпольного искусства часто и получались наиболее талантливые и значительные вещи. Ведь, по сути, это часто было слияние андеграундого куража, драйва с профессионализмом. К этому мы еще тоже неоднократно будем возвращаться. А пока, вернемся к советским устоям и стереотипам, с которыми от монолитности сталинского Большого стиля, через оттепельные порывы из жара в холод, страна пришла в семидесятые.
Две главные мифологемы СССР, на которых, собственно говоря, и держалась вся советская идеология, несомненно: революция с последовавшей за ней гражданской войной и, конечно – Великая Отечественная. Они оставались основой, стержнем культуры и всего общественного сознания – и плотно встраивались, как в сталинский Большой стиля, так и в годы хрущевской оттепели. И именно эти мифологемы в семидесятые стали сильно изменяться, а их мощь заметно ослабела, растеряв убедительность и бесспорность, подлинность, а заодно и талантливых проводников этих идей в искусстве.
Что, как ни мифология: «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской» Окуджавы? Если конечно не считать всерьез, что комиссары в пыльных шлемах склонились над белогвардейцем. Такая версия тоже, кстати, мелькала. Но здесь мифологема превращается в настоящее искусство, в художественную правду, поскольку основана на подлинных чувствах. Это – талантливые и искренние стихи. Но написаны-то они в далеком от семидесятых 1957 году. Во времена, когда после ХХ съезда советские интеллектуалы совершенно искренне, по зову сердца один за другим вступали в КПСС. Оттуда же: «В каком году мы с вами ни родились, родились мы в 1917 году!» Евгения Евтушенко – строки, написанные, кстати, аккурат в том же 1957 году. Чуть пониже, конечно, но все же достаточно талантливы и убедительны были революционные пьесы Николая Погодина. Последняя редакция его «Кремлевских курантов» написанных в 1939 году, была логично и, конечно, в духе эпохи сделана в 1956-м. Именно в таком виде спектакль был хорошо знаком поколению шестидесятых и семидесятых, поскольку его регулярно, как правило к 7 ноября, еще и показывали по телевизору. А телевизор, к слову, в те времена вошедший уже в каждый дом, стал чрезвычайно важным, а для многих – и главным идеологическим ,и в широком смысле, воспитательным фактором – источником формирования вкусов и общественного сознания. А уж поздние пьесы Шатрова – своеобразная летопись революции: от «Именем революции» 1957 года до «Брестского мира» 1987-го интеллигенция, вообще, воспринимала, как очень смелые и очень светлые.
Нет, такое искусство вовсе не было пропагандой в чистом виде и уж, тем более – вымученной идеологией. По крайнем мере, совсем не в том смысле, в котором ее – идеологию понимал главный идеолог СССР – незаметный, бесцветный, молчаливый на публике и жестко-непримиримый ко всякому свободомыслию член Политбюро Михаил Суслов. Именно за борьбу с художественным инакомыслием его к началу восьмидесятых и стали величать «серым кардиналом». Конечно, и за эти, как тогда казалось вольнодумные, а на самом деле довольно беззубые, но у любом случаем – талантливые пьесы, коли уж их утвердили и поставили, авторам платили неплохие гонорары, а то и давали правительственные награды. И делали это не просто так, не из особого либерализма. Начальники чувствовали, что советской интеллигенции, да и всему обществу такие пьесы необходимы, как некая духовная опора, как стержень всей послереволюционной духовной жизни страны. Ведь эти произведения, по сути, проповедовали: в нашей сложной истории было всякое – кровь, лишения, ошибки и даже несправедливость отдельных граждан к другим отдельным гражданам, но в основе-то всего – великая социальная революция, справедливая гражданская война, освободившей «голодных и рабов», быстрая и мощная индустриализация. А недостатки мы всем социалистическим миром изживали, изживаем и, в конце концов, конечно – изживем. Как ни посмотри, а в этой концепции было и нечто убедительное. Особенно если ее талантливо нанизать на простую человечность, связав историю страны в ХХ веке с «абстрактными», «внеклассовыми» понятиями: честь, порядочность, достоинство, доброта. К слову, эта самая «абстракция» и «внеклассовость» годами клейменные советскими идеологами всех мастей, теперь уже – в семидесятые не вызывали такого раздражения, поскольку помогали подпитывать коммунистические идеи на новом этапе жизни и для иных уже поколений. Но, по сути: чем талантливей были авторы и их произведения, тем дольше они продлевали жизнь первому из главных советских мифов – безоговорочной справедливости революции и гражданской войны, «несмотря на».








