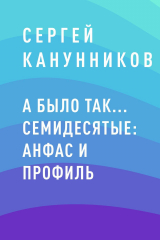
Текст книги "А было так… Семидесятые: анфас и профиль"
Автор книги: Сергей Канунников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Конечно, один из главных телевизионных символов семидесятых – сериал Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.). О нем, давно растащенном на цитаты и анекдоты, начиная с перестроечных времен не принято было говорить всерьез. А напрасно. Ведь этот фильм не только классно сделан, но и смело ломал тогда каноны и художественные стереотипы. И дело не только в том, что концепция восприятия Исаева-Штирлица, как нового Остапа Бендера, особо ярко прорисованная Дмитрием Быковом, действительно, имеет право на существование. С той оговоркой, что черты Бендера в «после ильфопетровскую» эпоху в нашей литературе в той или иной степени ярко и не единожды проступали в книгах и фильмах. В «мгновениях» вновь нет натурализма, погонь и драк, пыток и крови, нет масштабных атак (за исключением документальных кадров). Но обычный рядовой солдат вселенской, огромной, страшной войны, все-таки, есть – немецкий, в форме СС. Он и спасает русскую радистку Кэт и ее грудного сына.
«Семнадцать мгновений весны», по сравнению с популярным сериалом шестидесятых «Щит и меч» (1968 г.) – несравненно умней, правдивей, талантливей. Но тот фильм, даже несмотря на старания отличных актеров Олега Янковского, Станислава Любшина, Аллы Демидовой и даровитого режиссера Владимира Басова, просто не смог пробиться через тяжеловесный текст Вадима Кожевникова с его штампованными, лозунгообразными диалогами и фальшивыми сюжетными ходами. «Семнадцать мгновений весны» (при том, что патронировался лично председателем КГБ Андроповым!) побуждал смотреть не те события и тех людей совсем иными глазами. А Олег Табаков и Леонид Броневой, сыгравшие генералов СС, руководителей немецкой разведки и гестапо, вообще – первые высокопоставленные нацисты в советском кино, предстающие живыми людьми, а не предельно упрощенными символами зла, а то – и просто карикатурами. В общем, «мгновения» тоже пробили заметную, обширную брешь в устоявшейся мифологии и мировоззрении семидесятых.
И, уж тем более, очень многое в этом контексте изменил фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны» (1976 г.) по прозе Константина Симонова. Здесь, опять же, вполне сообразно названию, не было войны в классическом, советском понимании. Зато была всеобъемлющая, вселенская война-трагедия, затронувшая не только тела, но и головы, души людей. Причем, даже если эти люди находились за тысячи километров от фронта, война приходила и туда. Это, собственно, примерно тоже самое, что написано Виктором Астафьевым в повести «Где-то гремит война». В ней мощно передано ощущение именно того, что сибирский мальчишка, находящийся в глубоком тылу, все равно живет на войне. Воюет все и вся, все люди и вещи, кажется – даже сама природа.
Невротические, если не психопатические офицеры в поезде в картине Германа – первый летчик, не способный говорить ни о чем, кроме воздушных боев, второй – офицер, потрясенный изменой жены, были совсем не похожи на приглаженных и внешне и внутренне офицеров массового советского искусства. Как, впрочем, и исхудавшие, с перевернутыми войной мозгами (у каждого по-своему) женщины и дети тылового Ташкента. «Двадцать дней без войны» долго не пускали на экраны. Вышел фильм лишь благодаря гигантским стараниям Константина Симонова, которому картина понравилась, и который имел, все-таки, авторитет в партийных верхах. Но широким экраном картина Германа, все равно, не шла, да и не способна она была вытеснить из массового, извращенного уже официальной пропагандой сознания серийную теле– и кинопродукцию той эпохи.
Для понимания психологического и культурного перелома в восприятии войны – от шестидесятых к семидесятым, особенно конечно, важен и характерен эпохальный, тонкий, умный и совсем не простой, при кажущейся на первый взгляд очевидности, фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1971 г.). Официально раскрученный, часто (чуть ни каждый год, а то и пару раз в год) показываемый по телевиденью (а песня на стихи Булата Окуджавы, вообще, стала одной из главных песен о войне) фильм многие понимали «в лоб» – предельно упрощенно. А ведь речь там о том, что ветераны войны, вполне благополучные, вроде бы, люди до сих пор (и навсегда!) с трудом находят себя в послевоенном – даже конца шестидесятых мире. И дело вовсе не в самодовольном прохвосте, отказавшемся помочь отвезти отравившегося газом парнишку в больницу. С прохвостом-то этим, как раз, все предельно просто – можно дать в морду. И шумный вокально-инструментальный ансамбль в кафе (снимали реальный ВИА «Камертон», кстати – один из первых подобных коллективов в СССР), конечно, чужд мужикам, только сегодня похоронившим однополчанина. Но и это – мелочь, от шума, в конце концов, можно уйти. А вот от общей атмосферы времени уже – не удастся. А потому-то что-то и происходит в душах ветеранов, в их отношении к миру и времени, явно, есть некий разлад, неопределенность, дисгармония.
Характерно, что герои фильма вовсе не демонстрируют правильных решений, по устоявшемуся принципу: мы ветераны, мы воевали, поэтому мы знаем: как! Напротив, солидные, умудренные, вроде бы, огромным опытом мужчины ведут себя довольно противоречиво и неуверенно. Вот бухгалтер Дубинский (актер Анатолий Папанов) настаивает в разговоре с безвредным, вообще-то, молодым начальником: устаревшие, дурацкие инструкции аж от 1949 года нельзя нарушать, надо официально отменить, или уж следовать им неукоснительно. Дубинский тут – престарелый матерый бюрократ? Но ведь он, и все остальные герои сами-то действуют вовсе не по инструкции! И когда лезут в подземный коллектор устранять аварию, и когда Дубинский бьет морду тому самому прохвосту, и когда абсолютно незаконно заимствуют у этого самого обормота «Москвич», чтобы отвезти потерявшего от отравления газом сознание парнишку в Склиф. В общем, бывшим солдатам совсем не просто в этом мире с его писанными и неписаными законами и правилами. Неизвестно еще – какие более тягостны! Проще всего обвинить в этом всех окружающих, но они-то – фронтовики, как раз, этого и не делают.
В известной мере «Белорусский вокзал» Смирнова подводил итог не только оттепели, но и характерному для шестидесятых светлому, доброму, честному, романтичному но, увы – подчас, все-таки, слишком упрощенному и слишком сладкому отношению к войне и к ее участникам. Что будет дальше? Какими глазами будет смотреть на эту историю появляющаяся в конце картины Валя – девочка уже семидесятых – дочь сестры милосердия Раи (актриса Нина Ургант), которая некогда латала раны этих – теперь стареющих мужчин, тогда – молодых солдат? Смогут ли они объяснить Вале то, что знают и чувствуют сами? Сможет ли она все это понять? Сегодня мы знаем: получилось не очень.
Характерно, что киношное начальство поначалу отнеслось к картине «Белорусский вокзал» настороженно. Но она очень понравилась Брежневу, которому многие фильмы показывали еще до официального выхода (такая традиция существовала еще со сталинских времен). Говорили, что Брежнев прослезился в финале, и судьба картина была решена. Даже если эта история расцвечена временем, она очень правдива – по сути. Ведь культ памяти о войне в семидесятых был, действительно, связан с Брежневым, который, в отличие, от большинства партийных деятелей из его окружения видел настоящую, а не кабинетную войну. Пусть и в погонах старшего офицера и на должности высокопоставленного политработника, но на Малой земле. А там – всем хватало.
И, все же, военное кино, за все более редкими исключениями, как правило, очень нелегко пробивающимися на широкие экраны, в семидесятые, явно мельчало. Что вполне логично, поскольку кино, как известно, еще по Ленину «важнейшее из искусств» и, действительно – массовое сознание определяет в первую очередь. Поэтому идеологи и уделяли ему всегда особенное внимание. И вот доуделялись! Тогда-то в семидесятые у части молодежи и стали появляться кривые улыбки и саркастичные шутки даже в связи с темой Великой Отечественной. В этом, правда, не было особого цинизма, неуважения к ветеранам и к павшим. Это просто была вполне естественная реакция на государственную фальшь, на халтуру, которую с широких и узких экранов нес в массы советский масскульт.
Куда сильнее, жестче и правдивее была военная литература застоя. Большой вклад в это внесли белорусские авторы, в первую очередь Алесь Адамович и Василь Быков. Хотя, конечно, не только они. Про войну прекрасно, сильно писали помянутые уже Виктор Астафьев, Константин Воробьев, Владимир Богомолов. Но Белоруссия в этом смысле была, все же, на несколько привилегированном положении. Республика больше других пострадала от войны, причем не только от боев, но и от карателей. Белорусы – от подростков до стариков были массово вовлечены в партизанскую войну. В руководстве Белоруссии, начиная с Петра Машерова – первого секретаря ЦК компартии было немало тех, кто участвовал в партизанском движении и своими глазами видел сожженные деревни. В том числе и поэтому из печати, все-таки, вышли правдивые и страшные «Сотников» Василя Быкова (1971 г.), «Хатынская повесть» Алеся Адамовича (1972 г.), его же, написанная совместно с Даниилом Граниным «Блокадная книга». Ее в 1981-м впервые опубликовали в «Новом мире». Правда, с трудом и с купюрами. «Блокадная книга», основанная на воспоминаниях оставшихся в живых блокадников, ломала все советские стереотипы о том, как жил и сражался Ленинград в те страшные годы. В книге Адамовича и Гранина впервые шел честный рассказ о страшном голоде, деградации многих людей, даже людоедстве, о котором, вообще, открыто прежде не говорили, иных ужасах, с которыми истинная, а не приукрашенная – официальная героика блокады была неразрывна. Цензоры и высокие начальники морщились и злились. Но ведь, пусть и с купюрами «Блокадную книгу» опубликовали, все-таки! Полу в шутку, полу всерьез говорили, что редакции «Нового мира» разрешили напечатать все это в качестве компенсации за публикацию «Воспоминаний» Брежнева.
По «Сотникову» в 1976-м Лариса Шепитько сняла потрясающей силы, пропитанный библейским мотивами, беспощадно – жесткий фильм «Восхождение». Уже в другую эпоху – в 1985-м вышла лента «Иди и смотри» Элема Климова (мужа трагически погибшей Ларисы Шепитько) по «Хатынской повести» Алеся Адамовича. Эта предельно натуралистичная, страшная, жестокая картина у меня вызывает противоречивые чувства, поскольку находится если не за пределом, то уж точно на грани того, что, вообще, можно показывать в художественном кино. Естественно, массовая публика картины подобные этим воспринимала с трудом, стараясь от всего этого отстранится. Ведь куда легче воспринимать войну со стремительными победными атаками, добрыми, душевными, гладко причесанными (во всех смыслах) партизанами, радостными, нарядными жителями освобожденных городов, приветствующими колонны веселых освободителей. А уж вот этого «добра» на экранах было сколько угодно. И даже в кино, чтобы увидеть все это, ходить было не надо, хватало телевизора.
Характерная черта лучших фильмов и книг о войне семидесятых – некое тяготение к документалистике. Это относится не только к книгам Адамовича и Гранина, к сильным очеркам Безыменского о карателях, но даже и к тому же роману и фильму «Семнадцать мгновений весны», пусть и стилизованно привязанного к конкретным реальным событиям и даже датам. И, уж конечно – к роману Владимира Богомолова «В августе 1944-го» («Момент истины»), опубликованному в 1974-м в «Новом мире» и тут же ставшем безумно популярным. Ссылка на документы, даже символическая привязка к датам и реальным событиям, облегчали пропуск военной прозы в свет, позволяли сухо, сжато, но и правдиво написать то, что в чисто-художественной форме, может и не прошло бы. Вот и Брежнев, которому очень понравилась картина «Семнадцать мгновений весны», поверил в нее настолько, что дал указание разыскать и наградить Штирлица-Исаева!
На бытовом, человеческом уровне, вопреки все более навязчивой и неумелой пропаганде (а вовсе не благодаря ей!), бездарным, вымученным фильмам люди, в том числе и совсем молодые, искренне и абсолютно не организовано шли в майские дни с цветами на Могилы Неизвестным Солдатам по всей стране, в Москве – в Александровский саду. Где, к слову, тогда никакой казарменной заорганизованности, появившейся куда позже – уже в российско-демократичные времена, тогда не было. Люди сами – без организаторов вставали в очередь и медленно двигались к Вечному Огню. А немногочисленные милиционеры в этом не участвовали. Потом люди садились за праздничный стол, пили за Победу и, не чокаясь – за павших. И дело было не только в том, что в миллионах семей (как и в моей) помнили своих – конкретных павших. И даже не в том, что война была еще относительно близка. Ведь даже в 1975-м многим выжившим фронтовикам было всего-то чуть за пятьдесят, а родители детей семидесятых сами были дети, а часто и сироты войны. Свое дело сделали, конечно, и те самые оттепельные фильмы, в общем-то – простые, бесхитростные, но честные и человечные. Для подростков – самое оно!
У следующего поколения ничего подобного уже не было. А чтобы смотреть «Восхождение» Шепитько и «Или и смотри» Климова такая, как кино и книги шестидесятых основа – некая база, вероятно, была не только желательна, но даже и необходима. Но важно еще и то, что память о войне, День Победы оставались, последними – по сути единственными связующими советское общество понятиями. Причем, связующими – горизонтально, без участия или почти без участия все более неуклюжего и неповоротливого государства. Такие горизонтальные связи, вообще, единственное, что помогало выжить в те годы, сохранив нормальные человеческие отношения. К этому мы будем возвращаться в этой книге постоянно.
Конечно, в том. что идеи революции, гражданской и даже Великой Отечественной войны потеряли в семидесятые в сознании советских людей свежесть, остроту и силу, а главное – искренность, во многом виноваты естественные причины – смена поколений, да и всего уклада советской жизни. Ведь не только смотрели и читали, но и писали, и снимали в семидесятые уже другие люди. Но дело не только в смене поколений, в пресловутой проблеме отцов и детей. Молодые не воспринимали эти идеи не сами по себе, а потому, что чувствовали фальшь тех, кто занудно, безвкусно, как говорили тогда «для галочки» пытался им эти идеи внушить.
На бытовом уровне, советских кухонь отношение к революции и даже к войне стало отчасти напоминать отношение советских интеллигентов к богу. О боге, о вере, о религии говорить, как правило, было не принято. Разве, что уж в очень сильном подпитии и, пожалуй, только в диссидентствующих кругах православной направленности. Не христианских диссидентов, как таковых, а именно – обычных интеллигентов, в той или иной степени им духовно близких. Вот и революция, и война превратились в некие дежурные темы, для которых редко и с трудом находили искренние слова. А неискренних хватало на собраниях, в газетах и на экранах. Иронизировать же в открытую, или откровенно говорить о том, о чем годами говорить было не принято решались пока не многие.
Если уж эти два главных мифа – основы советской идеологии в семидесятые сильно поблекли, то современную, актуальную, так сказать, мифологию советских ценностей «строителей коммунизма» – веру в партию, которая, как известно, ошибаться не могла (могли лишь отдельные отщепенцы, оказавшиеся там случайно) всерьез в семидесятые воспринимали разве, что уж самые ортодоксальные из ветеранов партии и младшие школьники. Да, и последние – очень с натяжкой.
Вся эта новая советскость, еще и в приложении к комсомольской тематике очень неплохо прописана в повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба» и показана в фильме по ней (режиссер Сергей Снежин, 1988 г.). Повесть написанная в 1981-м, опубликованная в 1985-м и фильм по ней очень достоверно передают партийно-комсомольский дух позднего застоя.
Из райкома комсомола ночью украли знамя. Как раз тогда, когда члены бюро обоих полов весело с водкой, песнями и купанием в бассейне, проводили ночь в бане. Украл знамя, как выясняется позднее, просто выпивший лишнего (без всякой «идеологической» нагрузки!) подросток из неблагополучной, как тогда принято было говорить, семьи. Он просто по приколу повесил знамя в тесной, бедной комнате в коммуналке. Но для первого секретаря райкома комсомола пропажа знамени – страшная неприятность, фактически трагедия – крах бурной и успешной карьеры! Этот секретарь – главный герой – совсем другой, чем внушали советским людям советско-комсомольско-партийный руководитель.
На смену председателю колхоза – однорукому фронтовику (актер Михаил Ульянов) из фильма по сценарию Юрия Нагибина «Председатель» режиссера Алексея Салтыкова (1964 г.) – жесткому, грубоватому, но честному и прямому, искренне верящему в то, что делает, поднимающему нищий послевоенный колхоз, как полуживых, изнеможенных, уже практически умирающих коров в одном из первых эпизодов фильма, не только в кино, а – в первую очередь в жизни, пришли молодые холеные, циничные советские функционеры. Советскую систему они воспринимают, как возможность вкусно есть и пить, ездить в черной «Волге», иметь хорошую квартиру и дачу. Ни в какой социализм и коммунизм они давно не верят (вернее, они-то никогда и не верили). Как и школьники в «ЧП районного масштаба», которые вступают в комсомол только потому, что так принято, так нужно. А нужно – для поступления в институт, а в перспективе, может быть и обладания теми самыми благами, которыми имеют те, кто их в комсомол принимает. Красное знамя же райкома для школьника из неблагополучной семьи (откуда же это неблагополучие через 60 лет после установления справедливой, народной, советской власти?) – просто прикольная штука, которую можно повесить в убогой комнате рядом с дурацкими, яркими вырезками из журналов.
Конечно, ни тот, кто украл пресловутое знамя, ни те, у кого он его украл, ни каким боком не относились к классической советской интеллигенции. Эти персонажи, несмотря на «верхнее», как часто говорили тогда с иронией образование, книг особо не читали и над «вечным» не размышляли. Зато они: бедолага – неудачливый и бессмысленный вор и райкомовские деятели, по большому счету – вполне социально близки. Просто обстоятельства жизни сложились по-разному. А склад ума и души у них практически одинаковые.
И здесь очень важно еще раз напомнить, что как ни парадоксально, но советская мифология долгие годы держалась, как раз, ни на райкомовских деятелях – циничных и лицемерных, а именно на интеллигенции – инженерах, служащих, врачах, учителях, научных работниках, библиотекарях и т.п. Именно они, при всей их некой пассивной оппозиционности, и только они – всерьез размышляли о революции, войне и, вообще – о советском строе. И именно интеллигенция (при, опять же, оппозиционности!) находила-таки строю более-менее убедительные оправдания. Причем, чаще всего делала это не только совершенно бескорыстно – не с трибун и не на собраниях, а в дружеских компаниях на кухнях или на очередных конкурсах самодеятельной песни (КСП); и при этом довольно, а иногда даже и очень талантливо.
Ни рабочий класс, считавшийся опорой социализма, ни так называемое колхозное крестьянство ни в семидесятые, ни даже еще и в шестидесятые о таких отвлеченных от реальных нужд и забот материях всерьез не думали и не говорили. Люди уходили с собраний, где вынуждены были соблюдать определенный ритуал и тут же забывали о бесполезных и лицемерных речах.
Если в шестидесятые на молодежной вечеринке до мельчайших достоверных деталей показанной Марленом Хуциевым в картине «Мне двадцать лет» (1965 г., полная версия – «Застава Ильича» впервые показана в 1988-м), обсуждать такие материи было нормой: один из главных героев говорит, что верит в революцию, в 1937-й год, в картошку, которой спаслись от голода в 1941-м, а его циничный оппонент интересуется не входит ли в этот список репа, за что и получает пощечину от присутствующей здесь же девушки, и делали это, действительно, серьезно (хотя уже и тогда – не все, как и показано в картине), то попытки показать нечто подобное в бытовых картинах семидесятых (скажем, в сельском молодежном сериале «Юркины рассветы») оборачивались матерым примитивизмом, а то и просто лицемерием, которого не видеть было невозможно. Конечно, здесь многое зависело от таланта режиссера. Но ведь и Хуциев говорил в семидесятые уже на другие темы. О тех – главных, тем поколением все уже было сказано, а врать могли и хотели, все же – не все. Кстати, Хуциев точно показал эти изменения уже в «Июльском дожде» 1966 года. Герои этой картины уже другие люди – эпохи перехода от оттепели к семидесятым, от искренности – к трепу.
Особенно неуклюже выглядели в семидесятые попытки связать мифологию революции и войны с современностью. Происходило это, как правило, к очередным юбилейным датам Победы. Но даже неплохая, в общем-то, песня «За того парня» (музыка Марка Фрадкина, стихи Роберта Рождественского) была столь заезжена, что вызывала в народе незлобные, но достаточно циничные интерпретации. Почин, как говорили тогда, состоял в том, что все должны жить за погибших в Великой Отечественной, работать лучше (имелось в виду – еще лучше) и больше, и за них. Но слова «за себя и за того парня» вскоре стали насмешливо использовать прося, например, закурить. «Дай две, за себя и за того парня!». В этом не было какого-то особого цинизма и, тем более, неуважения к памяти павших. В этом была лишь насмешка над примитивной, неискренней, неумелой и навязчивой советской пропагандой и мифологией. Защитная реакция на нее.
В идеалы коммунизма, партии верили всерьез разве, что люди типа моей бабушки – старой большевички, доброй, но не слишком просвещенной и восприимчивой к изменениям жизни. Думаю, что в самых верхах последним убежденным коммунистом был Андропов. КПСС, действительно, управляла всем – от экономики до идеологии. Но делала это все более неуклюже и неумело, порой, очень грубо и жестоко, но все чаще, скорее – спустя рукава, опять же «для галочки». Как таковая ненависть к партии была лишь у немногих убежденных диссидентов. В массовом же сознание партия занимала не много места. Ее просто сторонились, старались не связываться, обходить стороной. Вступали же туда, часто, даже не из-за карьеры (хотя некоторые откровенно для нее), а потому, что в определенных кругах и в определенных условиях (например, в армии, на крупных заводах) так просто было принято.
Хорошо запомнил разговор двух мужиков в пивном зале в центре Москвы, который произвел на меня – совсем молодого сильное впечатление. Обсуждая третьего приятеля, один из мужиков помянул, что тот, мол – хороший мужик. «Был хороший, – отозвался второй, – а теперь в парию вступил». В этом, впрочем, не слышалась ненависть, скорее – некая брезгливость и осторожность.
К комсомолу, в котором прибывали практически все от 14 до 28 лет, вообще, относились без идеологической окраски (понятно, речь не о редких, все-таки, активистах и выросших из них комсомольских функционерах) и вовсе, как к детской болезни, типа свинки или кори. Что, в общем-то, было вполне справедливо: возрастное – переболеем.
Официальная советская мифология, то есть – то, что должно было объединять эту самую общность – «советский народ», о создании которой, вроде бы, так пеклась власть (она – общность, кстати, действительно, состоялась, только не совсем такая, как планировали) тускнела; а потом и начала активно, буквально на глазах, рассыпаться именно в семидесятые. Куда же уходила нормальная человеческая энергия, что заменяло людям веру в славное прошлое, светлое настоящее и еще более радостное будущее? Конечно же – личное!
Именно уход от общественного в личное (а, значит, в общем-то – и от мифологии), эдакий советский экзистенциализм – во многом, определял тренды семидесятых, особенно второй их половины. А заодно, конечно, и следующей эпохи. Но началось все, конечно, еще раньше.
Предельно четко написал об этом мыслитель, историк, политолог Юрий Пивоваров: «Все начало ломаться в прекрасных (после 1953-го) пятидесятых. А в шестидесятых-семидесятых пошло-поехало. Массовое жилищное строительство с отдельными квартирами, довольно широкая возможность получить за городом клочок земли и построить незамысловатую дачу, чуть позже индивидуальный («диким путем» или образом, как тогда говорили) отдых, включая туризм в маленьких, своих, тесных компаниях, постоянно – несмотря ни на что – увеличивающаяся покупка личных автомобилей и пр., пр. привели к своеобразному советскому privacy. Возник новый личностно-приватный мир, включающий в себя элементы выбора, свободы, повышенных стандартов потребления (причем, не только материального характера). Появление миллионов и миллионов подобных людей означало смертельный приговор Русской Системе в ее коммунистическом изводе».
Все абсолютно верно! О росте благосостояния и его влиянии на духовную и общественную жизнь семидесятых мы еще поговорим отдельно и подробно. А пока нам особенно важно, что несмотря (а, скорее – благодаря) на давление идеологии, мощь соответствующих органов и матерое лицемерие партийных чиновников (тех самых – из «ЧП районного масштаба»), люди стремительно уходили от идеологии и мифологии в свое – личное, индивидуальное. И именно эта тенденции, это направление даже не мысли, скорее, конечно – чувства, душевного порыва стали едва ли ни главной темой самых интересных, самых ярких и правдивых произведений эпохи. Люди не хотели больше ощущать себя деталями, винтиками и гаечками гигантской беспощадной машины. Да, и машина ведь была уже не та, что в романах Леонова. Впрочем, и авторов такой силы, берущихся за тему неукротимого хода этой машины в следующем поколении – не было.
Даже лучшие производственные фильмы – из тех, что можно было смотреть без смертельной тоски или действительно – хорошие, что тоже бывало, правда, куда реже, показывали не людей-функции, не популярные прежде типажи, скажем, увлеченного созиданием строителя, начальника-ретрограда, бюрократа – члена райкома и обязательно – спасителя увлеченного строителя – председателя обкома, а – более-менее нормальных людей с их человеческими характерами и страстями. Наглядный и яркий пример – картина Татьяны Лиозновой «Мы нижеподписавшиеся» (1981 г.). В банальном, в общем-то, производственном конфликте – комиссия не приняла из-за недоделок хлебозавод где-то в провинции – обобщения были уже совсем другими, да и герои – ни чета прежним. Получалось, что и сам производственный конфликт, и способы его решения во многом (хотя, конечно, не во всем – система еще жила, из последних сил продолжая коверкать людей) определялись, не ходом неумолимой машины, а живыми человеческими характерами. А самый сильный характер, кстати, как раз у Леонида Шиндина (актер Леонид Куравлев) – человека порывистого, горячего, невыдержанного. Он выпадает из нормальной производственной среды, из нерушимой еще вчера конструкции, поскольку пытается жить честно, а значит – ломать порядок, действовать сообразно велению собственной совести, то есть – очеловечить машину, саму систему. Эко куда замахнулся!
Такой персонаж – новый советский юродивый, не то чтоб очень уж сильный, чаще – обыкновенный, но никак не укладывающийся в десятилетиями существующие схемы и правила, вообще – один из главных типажей лучших книг и фильмов семидесятых. У него могло быть несколько лиц, но вполне четко прорисованных.
Такой герой мог быть «маленьким советским человеком», как персонажи Эльдара Рязанова в картине «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975 г.) или в «Служебном романе» (1977 г.). Главные герои этих фильмов живут, конечно, по общим правилам; но их присутствие в общественном – старательно и предельно минимизировано, а нерастраченная, а скорее даже и сэкономленная энергия, направлена на индивидуальное – нормальную человеческую дружбу и любовь.
Характерный пример в этом контексте – и первый советский сериал (тогда такие называли телевизионными спектаклями, поскольку снято все было в павильонах), написанный романтиком – талантливым поэтом, писателем, художником, отцом советской бардовской песни Михаилом Анчаровым – «День за днем». От обычных многосерийных фильмов этот сериал, стартовавший в 1971-м, отличало, по признанию самого Анчарова, отсутствие четкого сценария на все серии. Анчаров придумывал следующую серию, и только тогда актеры узнавали: что им дальше играть. То есть, по сути, «День за днем» стал первой советской работой, сделанной по типу западной мыльной оперы. Но главное не в этом. В истории, написанной Анчаровым, все происходило в обычной московской коммунальной квартире. Ее обитатели решали свои простые, человеческие, житейские проблемы. И жизнь героев шла почти без привязки к грандиозным событиям и свершениям социализма – жизни заводов, фабрик и колхозов. Все это, конечно, подразумевалось – герои, конечно, работали, но где-то там – в стороне, за кадром. И общественное, так или иначе, не выглядело главным в их жизни. Жили в квартире и ветеран войны – художник, и стареющая ткачиха, и шофер-пенсионер. Фигурировали в сериале и люди иных, самых разных профессий. Но их профессия и рабочие дела были, все же, лишь фоном, причем довольно удаленным, для нормальных человеческих, житейских отношений, в которых главными были иные, нежели перевыполнение плана и повышение по службе, ценности. А ценности эти вполне, кстати, в духе всей романтики Анчарова: честность, порядочность, дружба, любовь, доброта.
Второй вариант советского индивидуалиста семидесятых существовал в нескольких, но очень близких друг к другу, модификациях. Этот индивидуум, например, тонул в провинциальной тоске, в алкоголе и самоуничтожительном цинизме, как Зилов из замечательной пьесы Александра Вампилова «Утиная охота» (1967 г.) и снятого по ней фильма «Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова (1979 г.). У этой картины, кстати, очень символичная для эпохи судьба. Фильм – один из тех, что наиболее правдиво, мощно и беспощадно подводил итоги семидесятых, да и всей, в общем-то, советской истории, положили на полку. Премьера состоялась лишь в 1987 г. А сыгравший Зилова Олег Даль – грандиозно талантливый, тонкий, ранимый и сильно пьющий человек – один из самых ярких актеров семидесятых, так и не дожил до выхода картины. Жизнь, как известно не только умеет влиять на искусство, но часто, а скорее – чаще следует за ним. Особенно в России, и особенно в такие переломные, изломанные времена, как семидесятные.








