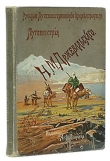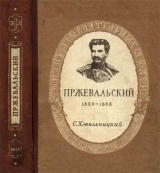
Текст книги "Пржевальский"
Автор книги: Сергей Хмельницкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
«ПУТЬ СРЕДИНОЮ ГОБИ»
«По предположенному заранее плану», как пишет Пржевальский, его караван должен был идти из Дынюаньина «прямо на Ургу, срединою Гоби». Этот путь, не пройденный до Пржевальского ни одним европейцем, представлял большой научный интерес.
В Дынюаньине Пржевальский запасся всем необходимым, нанял проводника-монгола, променял с приплатой истощенных верблюдов на свежих и купил новых. Утром 14 июля караван двинулся в путь.
Опять длинный ряд изнурительных дней. Опять кругом на тысячи километров – пустыня, такая же дикая и бесплодная, как тибетская. Только вместо леденящего холода – зной, доходящий днем до 45°C в тени. А для того, чтобы производить съемку, путешественникам приходилось делать переходы как раз в дневное время.
Сверху обжигало солнце, а снизу веяло жаром от почвы, накалявшейся до 63°C. Палатка не спасала от жары – духота внутри стояла еще большая, чем на открытом воздухе. Напрасно путешественники обливали палатку и землю вокруг нее водой – через полчаса все было сухо попрежнему, и опять некуда было деться от невыносимого зноя. Росы не падало вовсе, а если изредка и собирались дождевые тучи, то дождь не долетал до земли: встречая нижний раскаленный слой воздуха, он снова превращался в пар. Даже ночью термометр не показывал ниже 23,5°C.
На карте путешествия Пржевальского, приложенной к его книге, путь экспедиции от Дынюаньина до Урги обозначен линией в шесть сантиметров длиною. Но для того чтобы проложить эту линию на карте, путешественникам пришлось совершить сорок четыре перехода по страшной дневной жаре пустыни!
Особенно мучительным был переход 19 июля.
Рано утром караван выступил в путь. От берегов соленого озера Джаратай-дабасу путешественники двигались к хребту Хан-ула. Вскоре они нашли колодец, напоили своих животных и, наполнив бочонки свежей водой, двинулись дальше.
По словам проводника, до следующего колодца было недалеко. Но вот пройдены восемь, девять, десять километров, а колодца все нет.
Время подвигалось к полудню, жара становилась невыносимой. Знойный ветер обдавал путешественников песком и соленой пылью. По раскаленной почве мучительно было идти не только людям, но и животным. Путешественники несколько раз останавливались, смачивали головы себе и собакам. Наконец воды осталось меньше полуведра, и ее приходилось беречь на самый крайний случай.

Пейзаж Средней Гоби. Рис. Роборовского.
– Далеко ли еще до колодца? – много раз спрашивали путешественники у своего проводника и каждый раз получали ответ, что уже близко, вон за тем холмом. Так караван прошел еще километров десять. Воды все не было, люди брели уже из последних сил.
Тогда Пржевальский решил послать вперед к колодцу Пыльцова и проводника. Вместе с ними отправили Фауста. Пес уже не мог бежать, то и дело ложился и начинал выть Николай Михайлович велел проводнику взять Фауста к себе на верблюда.
Монгол не переставал уверять Пыльцова, что до воды близко. Когда они отъехали километра два от каравана, монгол с вершины холма указал место, где должен был находиться колодец. Пыльцов прикинул на глаз расстояние – добрых пять километров! Да и есть ли еще там колодец? Не уверенный в том, что проводник не обманывает и на этот раз, Пыльцов решил остаться ждать Пржевальского. Фауста он положил под куст зака, на подстилку из седельного войлока.
Бедная собака слабела с каждой минутой. Когда подъехал Пржевальский, у нее уже начались судороги. Наконец она завыла, зевнула раза два-три и издохла.
Положив на вьюк труп несчастного Фауста, путешественники двинулись дальше. Запас воды почти кончился. Люди брали в рот по одному глотку, чтобы смочить пересохший язык. Пржевальский понимал – еще немного, и спасение придет слишком поздно.
Николай Михайлович приказал казаку Иринчинову взять котелок и вместе с проводником скакать к колодцу.
«Быстро скрылись в пыли, наполнявшей воздух, посланные вперед за водой, – рассказывает Пржевальский, – а мы брели по их следу в томительном ожидании решения своей участи. Наконец, через полчаса показался казак, скачущий обратно, – но что он вез нам: весть о спасении или о гибели? Пришпорив своих лошадей, которые уже едва волочили ноги, мы поехали навстречу этому казаку и с радостью, доступной человеку, бывшему на волосок от смерти, но теперь спасенному, узнали, что колодец действительно есть, и получили котелок свежей воды. Напившись и намочив головы, мы пошли в указанном направлении и вскоре достигли колодца Боро-сонджи. Дело было уже в два часа пополудни, так что по страшной жаре мы шли 9 часов сряду и сделали 34 версты (36 километров).
Развьючив верблюдов, я отправил казака с монголом за брошенным по дороге вьюком, возле которого лежала другая наша, монгольская, собака, сопутствовавшая нам уже почти два года. «Улегшись под брошенным вьюком, она осталась жива и, освежившись привезенной водой, возвратилась к стоянке вместе с посланными людьми.
Несмотря на все истомление, физическое и нравственное, мы до того были огорчены смертью Фауста, что ничего не могли есть и почти не спали целую ночь. Утром следующего дня мы выкопали небольшую могилу и похоронили в ней своего верного друга. Отдавая ему последний долг, мы с товарищем плакали, как дети. Фауст был нашим другом в полном смысле слова. Много раз, в тяжелые минуты различных невзгод, мы ласкали его, играли с ним и наполовину забывали свое горе. Почти три года этот верный пес служил нам, и его не сокрушали ни морозы и бури Тибета, ни дожди и снега Ганьсу, ни трудности дальних хождений по целым тысячам верст. Наконец его убил палящий зной Алашанcкой пустыни и, как на зло, всего за два месяца до окончания экспедиции…»
Нелегким был и дальнейший путь по раскаленной бесплодной пустыне. Сахара едва ли страшнее Гоби, а Северный Тибет по сравнению с ней казался теперь путешественникам благодатной страной.
Даже птицы, пролетавшие над Гоби, бедствовали от безводья и бескормицы. Несколько раз Николай Михайлович находил пернатых странников мертвыми.
Уже кончался август, но изо дня в день стояла сильная жара. Измученные путешественники напрягали все силы, чтобы добраться до Урги.
Люди обносились вконец: вместо сапог – разорванные унты, одежда вся в дырах и заплатах, рубашки – гнилые рубища без рукавов.
И, наконец, добрались! 5 сентября, оборванные, измученные и счастливые, пришли в Ургу.
«Не берусь описать, – говорит Пржевальский в своем дневнике, – впечатление той минуты, когда мы впервые услышали родную речь, увидели родные лица… Нам, совершенно уже отвыкшим от европейской жизни, сначала все казалось странным, начиная от вилки и тарелки до мебели, зеркал и прочего. Сумма новых впечатлений была так велика и так сильно действовала на нас, что мы в этот день очень мало ели и почти не спали целую ночь. Помывшись на другой день в бане, в которой не были почти два года, мы до того ослабели, что едва держались на ногах. Только дня через два мы – начали приходить в себя и есть с волчьим аппетитом».
Отдохнув неделю в Урге, путешественники 19 сентября 1873 года прибыли в Кяхту, пройдя за 34 месяца 11832 километра.
Книгу, в которой он рассказывает о своих трехлетних странствиях, Пржевальский заканчивает такими словами:
«Путешествие наше окончилось! Его успех превзошел даже те надежды, которые мы имели, переступая в первый раз границы Монголии. Тогда впереди нас лежало непредугадываемое будущее, теперь же, мысленно пробегая все пережитое прошлое, все невзгоды трудного странствования, мы невольно удивлялись тому счастью, которое везде сопутствовало нам. Будучи бедны материальными средствами, мы только рядом постоянных удач обеспечивали успех своего дела. Много раз оно висело на волоске, но счастливая судьба выручала нас и дала возможность совершить посильное исследование наименее известных и наиболее недоступных стран Внутренней Азии».
Пржевальский из скромности говорит: «счастье», «удача», «судьба». А не вернее ли сказать: воля, мужество, талант!
3. ЗАГАДКА ЛОБ-НОРА
В ДАР НАУКЕ И РОДИНЕ
Пржевальский возвращался на родину, обожженный солнцем и ветрами Азии – то знойными, то студеными. Позади остались тысячи километров караванного пути. Дикие пустыни, на обширном пространстве которых уместились бы все государства Западной Европы. Нагорья, поднятые на высоту Алагёза. Из трехлетних странствий путешественник вез богатые дары науке и Родине.
5650 километров впервые пройденного пути легли на карту. Маршрут Пржевальского обнял обширное, ранее неисследованное пространство Центральной Азии от Урги на севере до верховьев Голубой реки на юге, от Большого Хингана на востоке до Куэнь-луня на западе.
Пржевальский первым из европейцев прошел «путь срединою Гоби», пересек великую пустыню из конца в конец. Он первый открыл для науки неведомые страны Куку-нора и Северного Тибета с их горными хребтами – Северо-тэтунгским, Южно-тэтунгским, Южно-кукунорским, Бурхан-будда, Шуга, Баян-хара. Впервые были точно установлены высоты, до которых поднимается над уровнем моря Тибетское нагорье.
Заполнилась часть большого «белого пятна» на карте Азии.
Дневник Пржевальского содержал ежедневные метеорологические наблюдения и данные о температуре почвы и воды, чрезвычайно важные для изучения климатов Монголии и Северного Тибета.
Путешественник собрал также множество сведений об общественно-политической и домашней жизни народов, населяющих Центральную Азию, о животном и растительном мире, полезных ископаемых и строении земной поверхности центрально-азиатских стран.
Пржевальский привез около 10000 экземпляров растений, насекомых, пресмыкающихся, рыб, млекопитающих. В этой коллекции было представлено более 3500 видов. Многие из них были новы для науки: тибетская кобрезия, тибетский лекарственный ревень, «рододендрон Пржевальского», «ящурка Пржевальского», «ящерица-круглоголовка Пржевальского», «расщепохвост Пржевальского», «герань Пыльцова», «живокость Пыльцова», «ящурка Пыльцова», «расщепохвост Пыльцова».
В старой, предшествовавшей его исследованиям, географии Центральной Азии Пржевальский обнаружил немало ошибок. Так, например, оказалось, что некоторых высот, упоминаемых Риттером на юго-восточной окраине Монгольского нагорья, или изображавшихся на картах разветвлений Хуанхэ при северном ее изгибе – в действительности не существует.
До Пржевальского пустыню Гоби, тогда еще никем не изученную, неверно представляли себе в виде океана песков. Только после того как Пржевальский пересек великую пустыню из конца в конец, стало известно, что природа Гоби разнообразна: в ее просторах поросшие густой травой степи чередуются с песками, солончаки с глиной, каменистые пустыни с лесами, горы с равнинами.
Всех этих выдающихся научных результатов Пржевальский сумел достигнуть несмотря на крайнюю скудость денежных средств.
Ежедневно рискуя жизнью, Пржевальский и три его спутника пересекли обширные области, где шла гражданская война. Ни американский путешественник Помпелли в 1864 году, ни немецкий путешественник Рихтгофен в 1868 году не отважились проникнуть на запад Китая дальше берегов Желтой реки. Но через эти районы, куда опасались вступить западноевропейские и американские исследователи, бесстрашно прошла горсточка русских во главе с Пржевальским.
Первая центральноазиатская экспедиция явилась обширной научной разведкой для последующих путешествий Пржевальского. В ходе первой экспедиции у путешественника уже наметились две главных задачи всей его будущей деятельности: исследование Гоби, исследование Северного Тибета. Наметились и два основных маршрута будущих экспедиций: путь поперек всей Гоби, который Пржевальский впоследствии прошел еще дважды, и путь через горы Северного Тибета, пройденный им еще четыре раза.
По значительности своих научных результатов первое путешествие в Центральную Азию оставило далеко позади уссурийское. И в дальнейшем каждое новое путешествие Пржевальского являлось, как мы увидим, также новой, высшей ступенью в неуклонном творческом росте исследователя.
ВЕСЬ МИР УЗНАЁТ О РУССКОМ ПУТЕШЕСТВЕННИКЕ
9 октября Пржевальский прибыл в Иркутск. Здесь он отдохнул, прежде чем пуститься в долгий путь на перекладных через Сибирь. В конце 1873 года Николай Михайлович приехал в Смоленск, чтобы повидаться с матерью и няней Макарьевной. В начале 1874 года он был в Петербурге.
В столице путешественника ждал триумф. Но Николай Михайлович не привык к торжественным приемам и публичным чествованиям, не любил их. Лучше всего он чувствовал себя под кровом походной палатки, где ничто не отвлекало его от любимых занятий. Беспрерывное шумное внимание столичного общества тяготило Пржевальского. «От приглашений и знакомств нет отбоя, – жаловался он в письме к товарищу. – Верите ли, мне до того надоели расспросами, что я иногда и жизни не рад». Но, конечно, ни назойливость любопытных, ни тягостная торжественность приемов и чествований не мешали Пржевальскому радоваться успеху заветного дела.
О путешествии Пржевальского стало известно во всем мире. Его письма из Китая Русскому географическому обществу перевели на французский, немецкий и английский языки. Русские и иностранные путешественники присылали Николаю Михайловичу экземпляры своих книг.
Научные результаты экспедиции Пржевальского были так велики, что их выдающееся значение вынуждены были признать во всех странах.
Дарованиями и отвагой замечательного исследователя Азии Россия могла гордиться по праву. И даже царское правительство, которое так скупилось на средства для экспедиции, теперь готово было козырнуть перед другими державами ее успехами.
По распоряжению правительства коллекции Пржевальского перенесли в помещение Главного штаба. Здесь, под руководством путешественника, их систематизировали, разложили на столах. «Я сам, – писал Николай Михайлович, – в первый раз видел в таком блеске всю коллекцию. Одних птиц лежало 1110, кроме того 35 шкур больших животных и проч.»
Коллекции осматривали академики, царь и австрийский император. При царском осмотре Пржевальскому объявили о производстве его в подполковники.
Русские ученые чрезвычайно высоко оценили коллекции Пржевальского.
Зоологическая коллекция содержала совершенно новые для науки виды и значительно расширяла и уточняла сведения о географическом распространении животных Центральной Азии.
В начале апреля 1874 года зоологическую коллекцию приобрела Академия наук.
Когда-то смоленский мальчик Коля Пржевальский мечтал о славе великого охотника, но даже и в мечтах не представлял он себе, что чучела убитых им зверей будут храниться в одном из богатейших зоологических музеев мира.
Необыкновенно интересна была и коллекция растений. Пржевальский привез множество видов, ранее неизвестных ботаникам. Особенно богато была представлена флора, собранная в Ганьсу. По отзыву академика Максимовича, познанием этой флоры «мы будем всецело обязаны трудам H. M. Пржевальского».
Русские географы дали общую оценку экспедиции в следующих словах:
«С необыкновенным самопожертвованием и успехом совершил капитан Пржевальский замечательное свое путешествие. Русское географическое общество, рассмотрев ныне материалы и коллекции, собранные Пржевальским, убедилось в необыкновенных заслугах этого исследователя, ставящих его наряду с замечательнейшими путешественниками нашего времени».
Имя Пржевальского было поставлено рядом со знаменитейшими именами – с именами Крузенштерна и Беллинсгаузена, Семенова-Тян-Шанского и Невельского, Ливингстона и Стэнли.
Это было признание – восторженное и полное! Русское географическое общество присудило Пржевальскому высшую свою награду – большую золотую медаль.
Одновременно Пржевальский получил признание и за границей. Французское министерство народного просвещения наградило его золотым знаком «Palme d'Académie», a международный географический конгресс в Париже отметил почетной грамотой исключительную важность открытий Пржевальского для географической науки…
В продолжение всего 1874 года Пржевальский напряженно работал над книгой – «Монголия и страна тангутов».
В первых числах января 1875 года книга вышла из печати, а 8 января на годовом собрании Русского географического общества был заслушан отзыв о ней известного русского путешественника М. И. Венюкова.
Венюков называл путешествие Пржевальского «географическим подвигом», а о книге, в которой это путешествие описывалось, сказал, что «западноевропейские литературы имеют мало книг, написанных так увлекательно и в то же время с соблюдением научной строгости содержания».
Через год книга Пржевальского была издана в переводах на английский, немецкий и французский языки.
Парижское географическое общество присудило Пржевальскому золотую медаль.
Еще в те дни, когда он работал над книгой, Николай Михайлович уже обдумывал план нового путешествия.
«Я не намерен успокоиться, – писал Пржевальский в 1874 году, – и в конце будущего 1875 года, лишь только окончу второй том своего писания, снова отправлюсь на два года в Тибет, на этот раз из Туркестана».
Мечтали разделить с Николаем Михайловичем труды новых странствований его прежние верные спутники – казаки Чебаев и Иринчинов. Из далекого Забайкалья они прислали ему телеграмму: «Память о вас перейдет из рода в род. С вами готовы в огонь и воду».
ЗАГАДКА ЛОБ-НОРА
14 января 1876 года Николай Михайлович представил в Совет Русского географического общества план нового путешествия. В этот первоначальный план входило исследование Восточного Тянь-шаня, Кашгарии, бассейна озера Лоб-нор и Тибета. Путешественник собирался пересечь Тибетское нагорье с севера на юг, дойти до Лхассы и до берегов Брамапутры.
Замысел экспедиции на неведомый европейцам Лоб-нор возник у Пржевальского еще во время первого путешествия.
В XIX веке это озеро и окружающая его страна представляли собой научную загадку.
С глубокой древности через страну «Лоб» пролегал караванный путь из Восточного Туркестана в Китай. В XIII веке этим путем шел Марко Поло. В 57-й главе своего «Путешествия» он описывает «пустыню Лоп», ее горы, пески и долины, ее пресноводные источники, но он ни словом не упоминает об озере Лоб-нор. Это озеро описано только в старинных китайских источниках.
В последующие века новые пути связали Китай с Туркестаном, а путь через Лоб-нор был забыт, и европейцы после Марко Поло больше не проникали в эту страну.
Пржевальский во время первого своего путешествия по Центральной Азии слышал рассказы монголов о Лоб-норе и о диких верблюдах, которые там водятся. Еще Марко Поло сообщал в своей книге о диком верблюде. Но ни один европеец до Пржевальского никогда не видел этого животного.
Проникнуть в страну, недоступную путешественникам со времен Марко Поло! Добыть неведомого дикого верблюда! Первым из европейцев достигнуть берегов загадочного озера или убедиться в том, что его не существует! Разгадать загадку Лоб-нора – такова была мечта Пржевальского.
Неудивительно, что к замыслам путешественника отнеслись с горячим сочувствием в Русском географическом обществе. Но, казалось бы, что за дело было до «загадки Лоб-нора» царским чиновникам? А между тем один министр, ознакомившись с планом новой экспедиции Пржевальского, заявил: «Географическое общество может быть совершенно уверенным в полной готовности министерства оказать все зависящее от него содействие к осуществлению столь полезного предприятия».
«Замечательные качества как путешественника и наблюдателя, обнаруженные подполковником Пржевальским во время его прежних экспедиций, – заявило министерство иностранных дел, – дают полную надежду, что и предстоящая трудная поездка принесет значительную пользу».
Правительство, которое с такой скаредностью выдавало по тысяче рублей в год на первое путешествие Пржевальского, теперь отпустило целых 24 тысячи для снаряжения новой двухлетней экспедиции.
24 тысячи рублей! Почему же экспедиция Пржевальского была так нужна русскому правительству?
ДЖЕТЫ-ШААР И ЕГО ЭМИР ЯКУБ-БЕК
Намеченный Пржевальским маршрут – через отделившуюся от Китая Кашгарию («Джеты-шаар») и далее через Тибет к границам Индии – должен был охватить обширный географический район, который в это время для русского правительства представлял особый интерес.
1875–1877 годы ознаменовались так называемым «восточным кризисом» в международных отношениях.
Восстание против гнета турок в Боснии, в Герцеговине, в Болгарии в 1875–1876 годах и готовность России оказать поддержку освободительному движению балканских славян толкали Турцию на союз с агрессивной империалистической Англией.
Английская экспансия на Ближнем и Среднем Востоке в это время усиливалась. Англия овладевала Суэцким каналом (1875), Белуджистаном (1876), пыталась завоевать Афганистан (1875), засылала разведчиков в Тибет (в 1872 и в 1875), подготовляя вторжение в его пределы.
Своей экспансии в Азии Англия пыталась придать вид «обороны от России» своих индийских владений. Такую же империалистическую политику проводила Англия и в Причерноморье под предлогом «защиты от России» неприкосновенности Оттоманской империи.
Заключив между собой союз, Англия и Турция стремились использовать во враждебных России целях новое мусульманское государство в Центральной Азии – «Джеты-шаар» [35]35
« Джеты-шаар» – тюркское слово, обозначающее: «Семиградие». Новое государство было названо так по числу главных городов округов и ханств, вошедших в его состав.
[Закрыть].
Это государство образовалось на территории Восточного Туркестана, отделившейся от Китайской империи в результате следующих событий.
В 1861–1862 годах в Шэньси и Ганьсу восстали угнетенные мусульманские национальные меньшинства этих провинций – «дунгане». Восстание дунган было последней волной Великой Крестьянской войны в Китае, – так называемого Тайпинского восстания. В 1863–64 годах мусульманское восстание распространилось на города Восточного Туркестана – Кульджу, Чугучак, Урумчи, Куча, Аксу. Восстанием старались по мере сил воспользоваться для захвата власти над Восточным Туркестаном потомки былых его властителей, господствовавших здесь до китайского завоевания, – «ходжи». В 1865 году один из них – Бузрук-хан, во главе конного отряда, вторгся из Западного Туркестана в Кашгарию (в Восточном Туркестане). Конным отрядом Бузрук-хана командовал предприимчивый и властолюбивый Якуб-бек.
Мухамед Якуб-бек родился в 1820 году в Западном Туркестане. Ко времени своего появления в Кашгаре он уже приобрел некоторую известность своей враждебной русскому правительству деятельностью в Западном Туркестане: сражался против войск генерала Перовского в Ак-мечети в 1853 и против войск генерала Черняева в Чимкенте и Ташкенте в 1864 году.
В Восточном Туркестане Якуб-бек, сосредоточив в своих руках власть над вооруженными силами Бузрук-хана, в 1866 году сверг его. В 1870–72 годах, после успешной борьбы – с одной стороны с богдоханскими войсками, а с другой – с образовавшимися в результате восстания самостоятельными ханствами и дунганским Союзом городов, Якуб-бек стал самодержавным правителем Восточного Туркестана. Его государство получило название – «Джеты-шаар», Якуб-бек – титул эмира.
Англия и Турция старались использовать властолюбивого Якуб-бека для того, чтобы создать враждебное России государство в Средней Азии. Они пытались превратить Джеты-шаар в центр «газавата» – «священной войны» мусульман против иноверцев, распространить газават под англо-турецким руководством на Западный Туркестан, отделить Западный Туркестан от России. С этой целью турецкий султан заботился о создании Якуб-беку религиозного престижа в глазах мусульман и признал его «вождем верующих» – «аталык-гази». Англия и Турция посылали военных инструкторов в армию эмира. Англия снабжала его европейским оружием.
С помощью этого оружия Якуб-бек и его военная клика установили в Восточном Туркестане такой террор и взвалили на плечи народа такое тяжкое налоговое бремя, что жизнь населения не стала лучше, чем была при богдоханском владычестве.
Русское правительство, стараясь преградить путь английской агрессии на Среднем Востоке, в 1871 году временно ввело войска в Илийский край [36]36
Орошаемая рекой Или небольшая область с городом Кульджой на примыкающей к русской границе окраине Синь-цзяна.
[Закрыть]. Россия пыталась завязать дипломатические связи с Джеты-шааром. Но Россия не могла признать в качестве самостоятельного государства территорию, принадлежащую дружественному ей Китаю и подпавшую под английское влияние.
Естественно, что русское правительство было заинтересовано в получении разносторонней информации относительно географических районов, на которые направлялась английская агрессия, – Джеты-шаара и Тибета.
Ценные научные сведения об этих районах и могла доставить экспедиция Пржевальского.