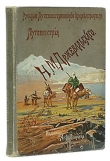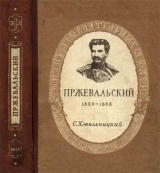
Текст книги "Пржевальский"
Автор книги: Сергей Хмельницкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
ПРОЩАЙ, УССУРИЙСКИЙ КРАЙ!
Летом 1868 года Николай Михайлович был оторван от своих занятий путешественника-исследователя. Географ и натуралист уступили место офицеру. Все лето Пржевальский участвовал в военных действиях против вооруженной банды хунхузов, которая ворвалась в Приморье, сожгла три наши деревни и два поста. Хунхузы убивали мирных жителей. За успешные действия Николай Михайлович был представлен к производству в капитаны. После того, назначенный старшим адъютантом штаба войск Приморской области, он должен был всю зиму провести в Николаевске-на-Амуре.
У офицеров николаевского гарнизона, у местных чиновников и купцов не было иных интересов, кроме водки да карт. За карточным столом николаевские купцы в один вечер выигрывали и проигрывали тысячи рублей.
Николай Михайлович очень хорошо понимал, откуда берутся эти тысячи. Впоследствии в своей книге об Уссурийском крае он писал: «Основанная исключительно на спекуляциях различных аферистов, пришедших сюда с десятками рублей и думающих в несколько лет нажить десятки тысяч, уссурийская торговля зиждется, главным образом, на эксплоатации населения, на умении «ловить рыбу в мутной воде». «Как из России, – писал Пржевальский, – так и из-за границы стараются сбыть сюда самую дрянь, которая не идет с рук дома. Притом же цены на них непомерные… В Иркутске и Николаевске цены на все, по крайней мере, двойные».
Вот откуда брались те тысячи, которые проигрывались и выигрывались длинными зимними вечерами.
Николаевск произвел на Николая Михайловича гнетущее впечатление. Зимою, из-за глубоких снегов, здесь нельзя было даже поохотиться.
«Водка и карты, карты и водка – вот девиз здешнего общества», – писал Пржевальский. «Как на воротах Дантового ада была надпись: все вошедшие сюда теряйте надежду, так может это написать в своем дневнике каждый офицер и чиновник, едущий сюда на службу… Нравственная гибель каждого служащего здесь неизбежна, будь он сначала хоть распрехороший человек. Ему предстоит одно из двух: или пойти по общей колее, т. е. сделаться таким же, как и все здесь (пьяницею, негодяем и т. д.), или стать одному против всей этой банды. Действительно, бывали примеры и последнего рода, но они обыкновенно кончались весьма печально, так как подобный человек обыкновенно через год или два втягивался сам мало по малу в общий строй, или делался крайне желчным, раздражительным и, наконец, сходил с ума, или, если это была действительно твердая, честная натура, то оканчивал самоубийством. Не думайте, что это преувеличение или выдумка; я могу представить вам сотни фактов».
Пржевальский был человеком на редкость твердым, жизнерадостным, целеустремленным. Он не покончил жизнь самоубийством, не сошел с ума, не погиб нравственно. Пржевальский остался самим собою. В свободное от службы время он занимался обработкой собранных коллекций и составлял описание своего путешествия.
Наконец в начале февраля 1869 года Пржевальский получил разрешение вернуться к своим исследованиям.
Перед отъездом из Николаевска Пржевальский отправил в Сибирский отдел Географического общества статью, в которой впервые сообщались подробные сведения о народностях Приморья. Статья вскоре была напечатана в «Известиях» Сибирского отдела.
Опять Николай Михайлович встретил весну на озере Ханка. Он оставался здесь до середины мая: наблюдал за перелетом птиц, охотился, приготовлял чучела, собирал растения.
Летом 1869 года Пржевальский исследовал долины рек, впадающих в озеро Ханка с юга и с запада. Эти три последних месяца своего пребывания в Уссурийском крае Пржевальский, то бродя пешком, то плывя в лодке, неделями не видел над собой иного крова, кроме неба, не слышал вокруг иных голосов, кроме птичьих: свистели камышевки, перекликались журавли, токовали фазаны. Громко шумел крыльями японский бекас, неутомимо кружившийся в вышине.
Далеко кругом не было ни одной человеческой души. Все здесь было еще дико, нетронуто. Густые травы и заросли стояли не измятые ничьей ногой, и только кое-где след на грязи или клочок ощипан-ной травы указывали, что здесь прошел какой-то зверь.
7 августа Пржевальский в последний раз перед отъездом вышел побродить по берегу Ханка.
Вот раскинулись болота и потянулся узкой лентой тальник, где он так часто в засадках подстерегал добычу. Налево извивалась река Сунгача, а там, далеко за болотами, синели горы на берегу Даубихэ.
Пройдя немного, Пржевальский остановился и стал медленно осматриваться, стараясь запечатлеть в памяти расстилавшуюся перед ним картину.
Прощай, Ханка! Прощай, Уссурийский край!..

Зимний уссурийский пейзаж. Поселок Фроловка на Сучане. Снимок 90-х годов.

Страница путевого дневника Пржевальского.
8 начале октября Николай Михайлович прибыл в Иркутск. Здесь он получил приказ о переводе его в генеральный штаб.
Перед отъездом в Петербург, 29 октября 1869 года, на заседании Сибирского отдела Географического общества, Пржевальский сделал сообщение о своих исследованиях природы Уссурийского края. Лекция привлекла много слушателей. Пржевальский говорил очень увлекательно и так увлекся сам, что даже стал подражать пению разных птиц, о которых рассказывал.
Делал он это с таким искусством, что один из его слушателей, которому случилось проезжать по Амуру через несколько лет, узнавал голоса лесных птиц, вспоминая имитацию Пржевальского.
Вскоре Пржевальский был уже на пути в Петербург.
«Прощай, весь Уссурийский край! – писал путешественник. – Быть может, мне не увидать уже более твоих бесконечных лесов, величественных вод, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены воспоминания о счастливых днях страннической жизни».
В эти дни странствований, которые Пржевальский называл счастливыми, он делал утомительные переходы, страдал от стужи, мок под дождями, терпел голод и жажду, боролся с опасностями.
Таково счастье творца и героя, – счастье, которое доставляет исполнение заветного, большого и трудного дела.
ПЕРВЫЙ УСПЕХ
Совершая долгий путь через дикие, безлюдные местности, терпя лишения и опасности, путешественник изо дня в день с жадной любознательностью приглядывается ко всему окружающему.
Путешественник – это человек, умеющий замечать и запоминать, отбирать и коллекционировать, умеющий в том, с чем он сталкивается, отличать главное от второстепенного, постоянное от случайного, делать верные общие выводы из разрозненных наблюдений.
Два года странствий Пржевальского по Уссурийскому краю были его «экзаменом на путешественника». Этот экзамен он выдержал блестяще.

Путешествие по Уссурийскому краю в 1867–1869 гг.
Пржевальский охватил своими маршрутами ряд районов, никем ранее не исследованных. Он впервые изучил и описал западное и южное побережья Ханка и долины впадающих в озеро рек Сиянхе, Лефу и Mo. В результате исследований Пржевальского озеро Ханка приобрело на карте истинные свои очертания. От залива Посьет до устья реки Тадуши путешественник прошел новым, никем до него не пройденным путем, по лесным, звериным тропам. Он дважды пересек хребет Сихотэ-Алинь, который, по его словам, «не посещался даже и нашими зверопромышленниками». Путь от бухты Находки до реки Тадуши и восточный склон хребта Сихотэ-Алинь путешественник снял на карту.
Гербарий, собранный Пржевальским на Уссури, насчитывал 2000 экземпляров, представлявших 300 видов растений. По отзыву академика К. И. Максимовича, «система и способ собирания их отличались новизною и обращали на себя особое внимание. Путешественник употреблял бумагу огромного формата, так что растения могли помещаться в ней часто во весь рост и оттого получалось о них представление более полное и гораздо лучшее, чем по тем образчикам, которые обыкновенно берутся путешественниками. Высушивание производилось на скорую руку, так сказать по-военному, в два, три приема, раскладыванием бумаги с экземплярами растений на солнце во время привала. От скорой сушки отлично сохранялась свежесть красок… К коллекции был придан реестр, содержащий довольно полные заметки о местонахождении, времени сбора, почве, росте, распространении и т. д.» Пржевальский нашел на Уссури новое пальмовидное тропическое растение – диморфант.
Путешественник собрал в Уссурийском крае, по отзыву академика А. А. Штрауха, «единственную в своем роде коллекцию, настолько полно представлявшую орнитологическую фауну этой интересной окраины нашего отечества, что последующие многократные изыскания доктора Б. И. Дыбовского лишь немного изменили и дополнили полученные H. M. Пржевальским результаты». Всего в этой коллекции было 310 чучел птиц. Некоторые из них представляли виды, впервые найденные на Уссури.
Пржевальский привез также журналы метеорологических наблюдений, позволявших сделать важные выводы относительно климата дальневосточной окраины.
Пржевальский обратил внимание на своеобразное смешение в природе Уссурийского края растительности теплых и холодных стран, северного и южного животного царства. Он, первым из исследователей, дал правильное научное объяснение этому явлению, разобравшись в климатических условиях края, зависящих от близости холодных вод Тихого океана и от расположения горного хребта Сихотэ-Алинь, проходящего вдоль всего тихоокеанского побережья.
Наконец в рукописи книги (еще не законченной), которую Пржевальский привез в Петербург, впервые была правдиво и с достаточной полнотой описана жизнь населения Уссурийского края.
В Петербурге Академия наук и Русское географическое общество встретили Пржевальского как исследователя, обогатившего науку новыми ценными наблюдениями и выводами. За статью о народностях Приморья Географическое общество присудило Пржевальскому малую серебряную медаль. Это была первая его медаль.
В зиму 1870 года, рассказывает П. П. Семенов, «Пржевальский сделался в нашем общественном кругу своим человеком». Лекции Николая Михайловича о природе и о населении Уссурийского края привлекали много слушателей и имели большой успех. «Целый взрыв рукоплесканий по окончании каждого чтения был лучшим заявлением того, что публика оставалась довольна», – писал сам Николай Михайлович.
В Петербурге Пржевальский напечатал в «Вестнике Европы» статью о населении Уссурийского края. Работая над окончанием своей книги, он сам заботился об ее издании (на собственные средства) и одновременно хлопотал о новом путешествии.
В работе над книгою об уссурийском путешествии уже проявилось характерное для Пржевальского умение в самый короткий срок обработать весь громадный научный материал, собранный экспедицией, изложить его в прекрасной литературной форме и издать его. В книге уже видна замечательная способность Пржевальского создать из разнообразных наблюдений целостную и всестороннюю картину исследованных им местностей и жизни их обитателей.
В начале августа 1870 года «Путешествие в Уссурийском крае» вышло в свет. Книга, написанная с большим литературным талантом, вскоре же сделала имя Пржевальского известным.
Теперь повсюду в нашей стране и во всем мире знают о многолюдном Приморском крае, о нашем крупнейшем тихоокеанском порте Владивостоке, о местах, прославленных победами наших войск над японскими. Но в 1870 году Приморский (Уссурийский) край представлял собой территорию неизведанную и почти безлюдную. В ее широких просторах лишь незадолго до того поселилось пять тысяч казаков и тысяча крестьян. Гарнизон и население Владивостока вместе едва насчитывали пятьсот человек. Об озере Ханка, о горах Сихотэ-Алинь, о быте гольдов и некоторых других дальневосточных народностей большинство читателей узнавало впервые из книги Пржевальского. Всего лишь через десять лет после присоединения к России Уссурийского края в печати появилось обширное исследование о природе и населении новой русской территории. Это произвело в Европе большое впечатление.
Правда, уссурийскому путешествию Пржевальского предшествовали экспедиции Максимовича, Маака, Шмидта, Будищева и других. Но академик Максимович занимался почти исключительно ботаникой, Маак – ботаникой и зоологией, академик Шмидт – геологией, капитан корпуса лесничих Будищев дал только описание лесов, и т. д. Каждый из этих исследователей изучал Приморье лишь со своей специальной точки зрения. Пржевальский явился первым всесторонним исследователем края. Он собрал сведения и о строении земной поверхности Приморья, и об его растительности, животном царстве и климате, и о численности, быте и хозяйственной жизни населения.
Пржевальский – первый исследователь, у которого мы находим обстоятельные сведения о дальневосточных племенах. Он первый нарисовал картину заселения новых владений царской России, первый описал жизнь русских переселенцев.
Пржевальский показал, как велики природные богатства Приморья и как непроизводительно, преступно они используются.
Пржевальский приводит слова одного из переселенцев: «Здесь – видишь, какой простор: живи где хочешь, паши где знаешь, лесу тоже вдоволь, рыбы и всякого зверя множество; чего же еще надо?»
Между тем посевы не только не давали хороших урожаев, но часто совсем погибали. «Хлеб с весны всегда растет хорошо: высокий, густой, а потом или его водой зальет, или дождем сгноит, или червяк поест, и в результате можно не получить никакого урожая», – рассказывали путешественнику переселенцы.
Несмотря на «множество всякого зверя», местное население для облегчения охоты прибегало к таким способам, как рытье глубоких ям или поджог подсохшей травы. Это приводило к тому, что животные часто погибали без всякой пользы для охотника.
Для разведения особого гриба, находившего сбыт в Китае, промышленники-китайцы рубили десятки тысяч дубов, на которых через год, когда начиналось гниение, появлялись слизистые наросты. «Владетель фанзы, истребив в течение 5 или 6 лет все окрестные дубы, перекочевывал на другое, еще нетронутое место, опять рубил здесь дубовый лес… Таким образом прекрасные дубовые леса истреблялись периодически». «Грустно видеть, – писал Пржевальский, – целые скаты гор оголенными и сплошь заваленными гниющими остатками прежних дубов».
Еще более хищнический характер носила торговля. «Если на 1 рубль нельзя заработать в год 3, то не стоит денег брать в руки», – таково, по наблюдениям Пржевальского, было «правило» уссурийского купечества. «Хабаровские торговцы берут в 1½ – 2 раза против того, почем они сами покупали, а мелкие купцы, торгующие по станицам, берут опять в 1½ – 2 раза против хабаровских цен».
Пржевальский верно изобразил бедственное положение первых русских переселенцев на Дальнем Востоке. «Большая часть из них не имеет куска хлеба насущного… Казаки к получаемому провианту подмешивают семена различных сорных трав, а иногда даже глину». «Рыбную и мясную пищу зимой имеют весьма немногие, едва ли и двадцатая часть всего населения». «Бледный цвет лица, впалые щеки, выдавшиеся скулы, иногда вывороченные губы, по большей части невысокий рост и болезненный вид – вот характерные черты физиономии этих казаков… Дети казаков какие-то вялые, неигривые».
Удивительный контраст этой картине нищеты и дикости, которую наблюдал Пржевальский, представляет Приморье наших дней!
Только при новом, социалистическом строе Приморский край стал богатым, культурным, многолюдным.
Связи примитивных способов ведения хозяйства, хищнической торговли, эксплоатации населения с общественным строем царской России Пржевальский не видел. Но он подверг достаточно смелой критике колонизаторские приемы царской администрации. Именно они, по его мнению, и «довели население до того безвыходного положения, в котором оно находится ныне».
Пржевальский с возмущением осуждал насильственное переселение в Уссурийский край забайкальских казаков «по жребию». Зажиточный казак, вытянувший жребий, нанимал вместо себя бедняка, а бедняк, не имевший средств к обзаведению хозяйством, отправлялся на новые места, где погибал с голоду. Пржевальский обличал царских колонизаторов, которые оставляли принудительно переселенных ими людей без достаточной помощи земледельческими орудиями, семенами, рабочим скотом, отягощали их непосильными государственными повинностями, беспощадно взыскивали с них казенные долги. В уплату долгов власти забирали у казаков не только мелкий скот, но продавали коров и лошадей. После этого начинался голод и повальные болезни.
«Все эти истории, – говорит Пржевальский, – повторяются из года в год, то в большей, то в меньшей степени, и сильно тормозят развитие земледелия на Уссури, отбивая у казаков всякую охоту к труду, который часто не дает никакого вознаграждения».
О бедствиях переселенцев, которые ему довелось видеть на Дальнем Востоке, Пржевальский писал еще до отъезда из Сибири – в отчете начальству: «О результатах исследования на реке Уссури и озере Ханка». Правдивый рассказ Пржевальского пришелся не по вкусу его начальнику. «Я и без вас знаю, что в этом крае скверно», – сказал он Пржевальскому.
«Эти слова произвели на меня удручающее впечатление», – вспоминал впоследствии Пржевальский.
В Петербурге, в Географическом обществе, со стороны деятелей передовой русской науки, труд путешественника получил высокую оценку.
Николай Михайлович, ободренный первым успехом, решил добиться, наконец, осуществления заветной своей мечты: он представил в Совет Географического общества план экспедиции в неведомые области Центральной Азии.
«Меня лично в особенности манят, – писал Николай Михайлович одному из членов Совета, – северные окраины Китая и восточные части южной Монголии, как местности почти еще неизведанные европейцами, но представляющие громадный интерес для географии и естествознания».
БЕЛОЕ ПЯТНО НА КАРТЕ
Почему обширная внутренняя часть азиатского материка, по величине превосходящая всю Восточную Европу, вплоть до семидесятых годов девятнадцатого века оставалась «белым пятном» на карте земли?
Это объясняется и географическими особенностями и обстоятельствами политической истории центральноазиатских и соседних с ними стран.
Громадная площадь – «от гор сибирских на севере до Гималайских на юге и от Памира до собственно Китая», «поднятая так высоко над уровнем моря, как ни одна из других стран земного шара», «то прорезанная громадными хребтами гор, то раскинувшаяся необозримой гладью пустыни, со всеми ужасами своих ураганов, безводия, жаров, морозов…» В таких словах Пржевальский кратко определил географические границы, охарактеризовал строение земной поверхности, природу и климат «Внутренней нагорной Азии», а вместе с тем и указал на основные физические препятствия для проникновения в ее пределы.
Гигантской оградой отделяют с трех сторон от остального мира эту часть азиатского материка величайшие горные системы. На западе вздымаются «Небесные горы» – Тянь-шань (до 7440 м высоты) и «Крыша мира» – Памир (до 7495 м), на севере – Алтай (до 4620 м), Саяны (до 3490 м) и горные хребты Забайкалья. На юге встают высочайшие горы на земле – «Обитель снегов», Гималаи (до 8840 м – высшая точка земной поверхности).
Значительную часть Центральной Азии – ее северную, срединную и восточную области – образует Монгольское нагорье. Обширная площадь (свыше 3300 тыс. кв. км), почти равная Европейской части РСФСР, поднята в среднем на высоту Машука (1000 м). На всем необъятном пространстве Монгольского нагорья живет меньше жителей, чем в Московской области, которая по размерам своей территории меньше его в сто с лишним раз. Большую часть страны занимает одна из величайших пустынь земного шара – Гоби.
Южную часть «Внутренней нагорной Азии», отделенную со всех сторон рядом высочайших горных хребтов, образует другое нагорье – Тибетское. Площадь свыше миллиона квадратных километров (две Украины!) поднята в среднем на высоту Ала-гёза (4100 м), а во многих местах – на высоту Казбека и Арарата (5000–5200 м). До наиболее низко расположенных районов речных долин Тибета едва дотянулись бы снежные вершины Пиренеев (3000–3500 м), а плато в юго-западном углу страны, где берет начало река Инд, расположено выше самой высокой вершины Кавказа – Эльбруса (5630 м). Население всей этой обширной территории, на которой уместились бы две Украины или две Франции, не больше населения Ленинграда.
Западную часть Центральной Азии образуют пустыни Восточного Туркестана с разбросанными среди них населенными оазисами, окаймленные на крайнем западе, у границ СССР, более густо населенной полосой с несколькими многолюдными городами. В Восточном Туркестане на площади в 1640 тыс. кв. км живет всего лишь 2500 тыс. человек.
В Центральной Азии расположены следующие государства и их отдельные административные районы:
нынешняя Монгольская Народная Республика, входившая в состав бывшей Китайской империи под названием «Монголии Внешней(то есть лежащей вне пределов «собственно Китая»);
часть нынешней Китайской Народной Республики, носившая прежде название «Монголии Внутренней» (то есть лежащей в пределах «собственно Китая»); теперь на этой территории расположены китайские провинции Жехэ, Чахар, Суйюань, Нинся;
прилегающие к Тибету административные районы Китайской Народной Республики – провинция Цинхай, или Куку-нор, и часть провинции Ганьсу;
Тибет (по-китайски – Сицзан, по-тибетски – Бод, по-монгольски – Тубот) – автономная область Китайской Народной Республики;
нынешняя китайская провинция Синьцзян (Восточный Туркестан).

Китайская империя во второй половине XIX века – ко времени путешествий Пржевальского.
Первым известным истории европейцем, проникшим в Центральную Азию в средние века, был русский – брат Александра Невского Константин Ярославич. Посланный своим отцом – великим князем владимирским Ярославом Всеволодовичем – к монгольскому великому хану, Константин Ярославич в 1243 году прибыл в ханскую столицу – Каракорум, расположенную на берегах Онона, в глубине монгольских степей. Лишь через два-три года мы видим в Каракоруме первого западноевропейского путешественника, проникшего в Центральную Азию, – папского посла Плано Карпини.
Распад Монгольской империи, простиравшейся от Тихого океана до Дуная, прервал ту слабую связь, которую поддерживала между Восточной Азией и Европой монгольская конная почта. В результате опустошительных войн Тимура и Тимуридов пришли в упадок караванные пути, которыми связывала Восток и Запад среднеазиатская торговля. Проторение новых, более широких и постоянно действующих путей с Запада на Восток явилось исторической заслугой русских. Среди всех европейских народов русским принадлежит приоритет проникновения в страны Центральной и Восточной Азии, приоритет установления сношений с ними и их научного исследования.
С XIV века русские неуклонно продвигаются на восток – вглубь азиатского материка. В 1364 году новгородцы дошли до низовьев Оби. В 1581–1582 годах Ермак совершил свой знаменитый поход, окончившийся присоединением Сибири к Московскому государству. В 1567 году посланные Иваном Грозным атаманы Иван Петров и Бурнаш Ялычев с казаками прошли через Монголию в Китай. В 1620 году мы видим первого русского посла в Хиве и Бухаре – Ивана Хохлова. В 1639 году Иван Москвитин с казаками достиг берегов Тихого океана. В 1643–1646 годах якутский письменный голова Василий Поярков, первым из европейцев, совершил плавание по Амуру и по Охотскому морю. В 1648 году якутский казак Семен Дежнев, впервые в истории мореплавания, прошел пролив между Азией и Америкой. В 1697 году казачий пятидесятник из устюжских крестьян Владимир Атласов открыл Камчатку. В XVIII веке Россия начала присоединение Средней Азии (Малой и Средней Казахских орд).
Сближение границ русского и китайского государств неоднократно побуждало русское правительство предпринимать попытки завязать дипломатические и торговые сношения с Китаем. В 1689 году в Нерчинске был заключен договор, устанавливавший границу между двумя государствами и условия торговли между ними. Это – первый в истории договор Китая с европейской державой.
С конца XVII – начала XVIII века начинается встречное продвижение китайцев на запад – вглубь Центральной Азии.
Еще в восьмидесятых годах XIV века богдохан Хун У присоединил к Китаю Внутреннюю Монголию. В 1691 году богдохан Кан Си овладел Внешней Монголией, в 1722 году – Тибетом. В 1757 году войска богдохана Цянь Луна заняли Джунгарию (северную часть Восточного Туркестана), в 1758 – Казахскую Большую орду, в 1759 – Кашгарию (южную часть Восточного Туркестана).
С конца XVIII века экспансия феодального Китая прекратилась: Китай был ослаблен внутренним кризисом и старался избежать конфликта с усилившимся западным соседом.
Власть богдохана, центрального бюрократического аппарата империи и местных чиновников – «мандаринов» поддерживалась военной силой и подкупом владетельной верхушки вассальных стран. Расшатывая эту власть, с конца XVIII века, одно за другим следовали восстания китайского крестьянства и национальных меньшинств, боровшихся против феодальной эксплоатации, национального угнетения и чиновничьего произвола.
Китайскую империю ослабляла разобщенность провинций, мало связанных с центром, почти неограниченная власть местных мандаринов, продажность государственного аппарата.
Слабостью Китая стремились воспользоваться для экономического закабаления китайского народа английские капиталисты. Ввозимый англичанами в Китай во все возрастающих количествах опиум разорял финансы страны и истощал силы его населения. Китайское правительство неоднократно принимало меры к ограничению ввоза опиума. Англия вооруженной силой добивалась «права» отравлять китайский народ. В результате военного поражения Китаю был навязан ряд грабительских договоров с Англией, Францией, Соединенными Штатами Америки.
Чтобы судить о кровожадности, цинизме и алчности «цивилизованных» британских грабителей, достаточно прочесть хотя бы следующие строки из статьи, опубликованной в 1859 году в одной из лондонских газет:
«Великобритания должна напасть на все морское побережье Китая, занять его столицу, выгнать императора из его дворца», – читаем мы в этой статье. – «Мы должны высечь плетью каждого чиновника с орденом Дракона [14]14
Дракон– государственная эмблема Китайской империи.
[Закрыть], который вздумает подвергнуть оскорблению наши национальные символы… Каждого китайского генерала необходимо повесить, как пирата и убийцу, на реях британского военного корабля. Зрелище этих обшитых пуговицами негодяев с физиономиями людоедов и в костюмах шутов, висящих на виду у всего населения, произведет оздоровляющее влияние. Так или иначе нужно действовать террором, довольно поблажек!.. Китайцев надо научить ценить англичан, которые выше их и которые должны стать их господами… Мы должны попытаться по меньшей мере захватить Пекин, а если держаться более смелой политики, то за этим должен последовать захват навсегда Кантона. Мы могли бы удержать его за собой, так же как мы владеем Калькуттой, превратить его в центр нашей дальневосточной торговли».
Вместе с тем буржуазная европейская печать «объясняла» войну между Китаем и европейскими державами «враждой желтой расы к белой расе», «ненавистью китайцев к европейской культуре и цивилизации».
По этому поводу Ленин писал: «Да, китайцы, действительно, ненавидят европейцев, но только каких европейцев они ненавидят, и за что? Не европейские народы ненавидят китайцы, – с ними у них не было столкновений, – а европейских капиталистов и покорные капиталистам европейские правительства. Могли ли китайцы не возненавидеть людей, которые приезжали в Китай только ради наживы, которые пользовались своей хваленой цивилизацией только для обмана, грабежа и насилия, которые вели с Китаем войны для того, чтобы получить право торговать одурманивающим народ опиумом (война Англии и Франции с Китаем в 1856 г.), которые лицемерно прикрывали политику грабежа распространением христианства?» [15]15
В. И. Ленин.Соч., 4-е изд., т. 4, стр. 348.
[Закрыть]
Грабительская политика европейских капиталистов естественно порождала в китайском народе ненависть к пришельцам из Европы. Вполне понятно, почему в семидесятых годах XIX века одно из основных препятствий для осуществления научных экспедиций в Восточную и Центральную Азию – вглубь Китайской империи – Пржевальский видел в том, что ее «население обыкновенно недоверчиво или враждебно встречает европейца».
«Китай никогда не имел и ныне вовсе не имеет искреннего желания вступить в близкие сношения с иностранцами», – писал Пржевальский (в 1888 году). «Отчасти это и резонно, если вспомнить, каким несправедливостям и нападкам подвергается Китай со стороны европейцев, начиная от привилегированного здесь положения всех иностранцев вообще и затем миссионеров, которые, уклоняясь от истинных принципов своей пропаганды, создают государство в государстве, до торговой эксплоатации и насильственного ввоза опиума (на 12 миллионов фунтов стерлингов [16]16
75660 тыс. руб. зол. по курсу того времени.
[Закрыть]ежегодно), отравляющего цвет китайского населения».
В заключение этой совершенно правильной характеристики взаимоотношений европейских стран с Китаем Пржевальский не менее справедливо указывал, что роль, которую современная ему Россия играла в Азии, имела существенно иной характер. «На нас, собственно говоря, ни в чем подобном Китай не может жаловаться», – писал он в 1888 году.
Наряду с этим Пржевальский отмечал большое доверие, которое питали к русским и к России народы Центральной Азии: «При всех четырех здесь путешествиях мне постоянно приходилось быть свидетелем большой симпатии и уважения, какими пользуется имя русское среди туземцев».
В 1851 году Энгельс указывал, что «Россия действительно играет «прогрессивную роль по отношению к Востоку», что «господство России играет цивилизующую роль для Черного и Каспийского морей и Центральной Азии». [17]17
К. Маркс и Ф. Энгельс.Соч., т. XXI, стр. 211.
[Закрыть]
В это время Россия овладевала новыми обширными территориями на азиатском материке. В 1848–1850 годах адмирал Невельской, открыв, что устье Амура судоходно, и оценив то значение, которое должен был иметь для России обильный природными богатствами край, связанный обширной речной системой с Тихим океаном, поднял над Приамурьем русский флаг. В 1858 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский заключил в городе Айгуне с местными китайскими властями договор, по которому Приамурский и Уссурийский края были признаны русскими владениями. Пекинский русско-китайский договор 1860 года подтвердил условия Айгунского договора.
К началу семидесятых годов XIX века русские владения в Средней Азии распространились до границ китайского Восточного Туркестана. Все более оживленными становились экономические связи России с ее новыми территориями в Средней Азии, с полузависимыми и независимыми среднеазиатскими ханствами (Бухарой, Хивой, Кокандом), с Китаем, в частности – с его центральноазиатскими областями.