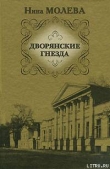Текст книги "Дворянские поросята"
Автор книги: Сергей Хитун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Лица юношей, их нахмуренные брови, морщины на лбу, покусывание карандаша поджатыми губами, глаза напряженно уставившиеся в карты, книги, чертежи и рукописи – все указывало на молчаливые, сосредоточенные усилия мысли работающей в приобретении знаний. Василий переступил с ноги на ногу, перенес вес корзины с одной руки на другую. Ни одна голова не поднялась. Дядька на цыпочках вернулся в зал:
– Они усе у книгах. Учатся, – прошептал он Ширинскому. – Я приду потом за их ботинками, – он снова уставился на картину с запорожцами. – Самому Султану, – он покачал головой и, хихикая в ладонь, вышел из комнаты.
Ширинский, отведя глаза от своей законченной картины, стал обдумывать о том, как ему истратить 50 рублей обещанных ему Дон Пэдром ( Директора Пансиона, Петра Яковлевича Дорошенко, пансионеры звали, Дон Пэдро, за его внушительный вид.), за эту копию картины "Запорожцы". Сначала он скромно пожелал пару шевровых ботинок на шнурках и с вставными носками. Пансионские на резинках – прочные и удобны, но не достаточно "выходные" для танцев в доме Витаревских. Почти все воспитанники Старшего отделения носят выходную обувь, сделанную на заказ у пансионского же сапожника.
Сыновья доктора купили себе модную одежду и ботинки в Лондоне, куда они ездили летом с своей англичанкой-матерью.
"Я должен во что бы то ни стало ! – Ширинский сжал губы и нахмурил лоб. Я должен отбить Марусю Витаревскую от Лондонского дэнди, Димы Лозенель... Гимназистки любят франтов, – напомнил он себе... – Или беговые коньки, норвежские, прямо из Христианин, – продолжал мечтать Ширинский. – Такие как у Ткаченко... Или черное вязаное трико для конькобежцев, тесно облегающее его худощавое, но мускулистое тело. Тогда, точно демон скорости, он может выиграть первенство на льду. Девицы любят победителей!?.
К его сожалению, он не может равняться с другими пансионерами по их карманным расходам. Они – сыновья все еще крупных замлевладельцев-помещиков, а его отец с трудом перебивается на его мизерную пенсию.
Лицо Ширинского стало грустным. Он ясно представил себе отца с корзинкой на руке, на базаре. Он останавливается у стола на котором лежат для продажи сыры, творог, сметана, масло. Ковырнув указательным пальцем какой-нибудь продукт, он пробует его, шлепая языком и губами, сосредоточенно думая, уставившись в одну точку, якобы проверяя их качества.
Он повторяет то же самое у следующего стола – до тех пор, пока глаза торговки не загораются гневом и только его дворянская фуражка с красным околышем и кокардой на ее тулье спасает его от презрительных замечаний и даже ругательств. Сделав обход столов, он возвращается домой, неся корзину с капустой, гречневой крупой и буханкой хлеба, но без молочных продуктов, которым он произвел такую солидную пробу.
Ширинский решил, что он оставит себе только пять рублей, а остальные пошлет отцу. Он ему напишет об этом, сегодня же.
Мысленно, вместе с благодарностью директору Пансиона, давшему ему возможность заработать 50 рублей, Ширинский был полон признательности Черниговскому Дворянству, на стипендию которых он был принят в Пансион. И все это было результатом заслуги его предка – татарина, который отличился во время Крымской Кампании; он вырвал горящий фитиль из шипящей английской бомбы, упавшей к ногам Великого Князя. За это он получил дворянство и чин майора.
"Мое воспитание и образование нам ничего не стоит, – подумал Ширинский. Упрямый отец не хочет продать свои 100 десятин заливных лугов на Днепре. Тогда я затемнил бы блистательного Диму в глазах Маруси и доказал бы, что я... я был первым, кто принес свою любовь к ее ногам. Надо учить молодых женщин справедливости!".
Из классной комнаты донесся звук захлопнутой книги и громкий зевок.
– Господа, имейте в виду, что осталось только две недели до нашего концерт-бала. – Ширинский узнал звонкий голос Тарновского. – Экономьте ваши деньги. Предстоят расходы: цветы, белые перчатки, распорядительские розетки, извозчики и прочее. Закажите свои визитные карточки. Они должны быть посланы вместе с пригласительными билетами. Корона над именем должна быть пятиконечной – дворянской. В прошлом году Долибко стал самозванным князем с семиконечной короной на его именной карточке. Мы должны выяснить – кто приглашает кого? Чтобы какая-нибудь красавица не получила бы сразу несколько пригласительных билетов на свое имя.
Раздалось несколько шлепков брошенных закрываемых книг, шелест бумаги, звуки сдвигаемых стульев, захлопывание крышек конторок.
– Кто приглашает Лину Галимскую, Марусю Витаревскую, Наташу Кашменко? перечислял баритон Тарновского.
Стремясь быть первым и единственным претендентом на приглашение Маруси, Ширинский даже не кончил выводить свое имя в углу картины, а с палитрой на большом пальце левой руки и с кистью в правой поспешил в классную комнату.
Предчувствуя развлечение, воспитанники обступили конторку Тарновского.
– Я уже пригласил Лину, – заявил Бароненко, вызывающе обводя глазами присутствовавших.
– Галимская – Бароненко, – медленно повторял фамилии, записывая их на листе, Тарновский. – Провожай ее домой на извозчике... она живет в том районе, где наше дворянское племя ненавидят. Но, ради присутствия этого экзотического цветка на нашем балу, стоит рискнуть получить из-за угла гулю на затылок. Храбрец Брановитский носил ее целый месяц, после прошлогоднего бала. Поскупился на извозчика.
– Ей хорошо было бы пополнеть. Легко это сделать при помощи кондитерской ее матери, – сказал Вишневский.
– Н-нет, нет, тогда она потеряет свою элегантность навсегда.
– Ты любишь их больших и толстых, как у вас в Полтаве, выросших на сале?
– Чем плохо сало? Оно является одним из главных продуктов питания Украины, – защищал достоинство сала Вишневский. – Я сам его очень люблю!
– Ты мне напоминаешь хохла, которого спросили, что он бы делал ставши королем? – И тут же, скривив свой рот на одну сторону, Бароненко горловым ничким голосом, представил ответ хохла: – я бы сало иивв, да салом заиидав-ба, да ще сало растопыв-ба и напыв-в-уся. ( Я бы сало ел, да салом заедал бы, да еще сало растопил бы и напился.)
Все весело смеялись.
– Довольно насчет сала. Мы о женской красоте толкуем. Тут нужна поэзия, приподнял руку с выставленным вверх указательным пальцем Чудновский.
– Маруся Витаревская, – объявил дальше Тарновский.
"Ммммм", "Аааа", и "Ооооо", – прозвучали так дружно и громко, что все захохотали, глядя друг на друга.
– Оо! Ее походка, – он закатил глаза.
– К-как она идет! Как в трансе следуешь за ней...
– Это же-ж искусство. Плавное качание бедер. Как они этого достигают врожденные способности или путем известных упражнений? – допытывался, сверкая толстыми стеклами своих очков, Пинчук.
– Я приглашу Марусю, – поспешил Ширинский.
– Как ты ее сюда доставишь? – Тарновский поднял свои брови. – Она привыкла ездить с Димой в автомобиле.
– Я, я, устрою... Репутацию пансионеров не испорчу, – уверил Ширинский с удовлетворенным лицом, глядя на свое имя рядом с именем Маруси на листе.
– Господа, не забудьте вывернуть электрические лампочки из потолка в нашей спальне, – вставил, с лицом зачинщика, Миклашевский.
– На прошлогоднем балу я с трудом уговорил епархиалочку посмотреть наш дормиторий. К посещению спальни девушки относятся с опаской, а дормиторий звучит научно и мало известно. А когда она стала совсем ручной...
– Н-ну? – раздалось хоровое, нетерпеливое, напруженное. – И... как?
– Рыжак, паршивец, с хихиканьем включил огни. Она насилу успела запахнуться. Он и его шайка младших удрали. Я, дымящийся... погнался за ними с снятым ремнем и только у коридора спохватился... Я тоже не совсем запахнулся...
Среди общего хохота сыпались разные суждения, советы и вопросы о местах, которые не были запахнуты. И больше всех смеялся сам Миклашевский. Послышались шаги. Из рекреационного зала вошел Павленко. Его мускулистое, голое до пояса, тело напоминало скульптуру Аполлона.
– Что за шум, а драки нет? – Он обвел смеющимися глазами лица юношей, затем, увидев лист с именами гимназисток, вытянул губы дудочкой вперед и сказал: – павианы сладострастные, лучше было бы, если вы поработали бы со мной гирями. Это вас бы охладило и успокоило бы.
– Что-о? Нажить бычье сердце?
– Стать Геркулесами импотентами? – Павленко не мешай, Тарни, вали дальше насчет красавиц.
Павленко, забавляясь бурей протестов, широко улыбался и, похлопывая свои, как бильярдные шары, бицепсы, остался вместе с другими.
Все стояли с улыбками на пылающих лицах и с глазами полными веселья, задора и насмешки.
– Наташа Кашменская! Кто выбрал ее? – спросил Тарновский и тут же добавил: "Я, я пригласил ее. Ее дразнящее "н-е-у-ж-е-л-и" не дает мне покоя".
– Ага! Ты у нее на поводке. Я дам тебе совет в стихах. – Указательный палец Вишневского дирижировал его словами:
"Заключи ее в златое облако мечты,
Напой ей о красе земных раздольев,
Шепчи ей о любовных чарах опьянения,
И как только запылает огонь в ее крови,
Хватай Его Величество сей Случай и
Воровски столкни ее с трезвой прозой жизни.
Она, очнувшись, тебя будет ненавидеть,
Но будет следовать, с овечьими глазами, за тобою вечно...".
– Браво, Пашка Вишневский, браво!
– Почему ты не использовал этот верный рецепт когда Псиол отнял у тебя Ирину?
– Она очнулась прежде, чем запылал огонь в ее крови и Случай достиг фельдфебельского чина только. Кроме этого она сама сказалась ведьмой, хохотал Пашка громче всех.
– Валя Губарева – следующая... Следующая, слушайте вы, жеребцы! – кричал Тарновский, махая листом.
Постепенно смех уступил место вниманию.
– Она своим профилем Камеи напоминает маленькую, Сервского фарфора, статуэтку-маркизу. И я не прочь стать ее маркизом на балу, – снова начал Пашка стихоплет.
– Коротконогая статуэтка!
– Это потому, что в ней течет татарская кровь после того, как татары взяли верх в битвах с русскими и наводнили Русь. Они оставались в ней в течение 2-х столетий.
– Чепуха! Я прямой потомок Рюрика. Его позвали княжить за триста лет до нашествия татар.
– Татары разбавили кровь твоих предков своей густой, степной, азиатской кровью.
– Чем плохи татары? Они честны и чистоплотны. Они моются часто, много раз в течение дня, – затем, с искрой юмора в глазах, добавил: – они едят, отдыхают, моются – все это сидя на корточках, следствием этого у них широкие зады. Это то, что ты унаследовал Ширинский. Демонстрируй!
– Не я! – улыбнулся Ширинский. – Он послушно нагнулся и так быстро прикрыл свой зад палитрой, что две-три руки, собиравшиеся дать ему горячего шлепка, ткнулись в масляную краску...
Сквозь громкий хохот были слышны выкрики Ширинского:
– Татары... взяли верх... опять!
Он бегал вокруг конторок, преследуемый хлопцами с выпачканными руками. Точно дух юмора, разгульного веселья, шумных вскриков и хохота вольницы – их предков запорожцев, влетел в открытое окно...
"СИМУЛЯНТЫ"
В конце пансионского двора, вдали от других зданий, находилась одноэтажная, белого цвета, больница.
Пройдя прихожую, Скурский вошел в длинный коридор; он был пуст. Пахло лекарствами. Где-то справа, из-за закрытой двери доносилось пение. Сильно качающийся, высокий мужской голос нетвердо выводил плаксивую мелодию под аккомпанемент гитары. Скурский остановился и слушал:
"Мы расстались молча и навсегда, Без слез и без упре-е-к-о-ов...".
По всей вероятности певец сильно переживал потерю; хотя его нота в "упреках" дрожала, но все же была доведена стойко до конца. В комнату, с открытой дверью, откуда доносился смех, вошел Скурский.
Два пансионера, Старшего отделения, в серых больничных халатах, сидели на кровати и играли в карты.
Третий сидел на другой кровати; его левая рука в гипсе лежала на столе и помогала правой набивать гильзы табаком.
– Здорово, Скурский, – Быков поправил очки на своем крупном носу, – ты немощен и бледен, – в его словах сквозила деланная забота, глаза были серьезны, но отображали притворное сочувствие. – Какая болезнь тебя одолевает?
– Ты знаешь, – он продолжал, что триппер дает тебе чин только полковника, но, если вы ребята будете по-прежнему флиртовать с прислугами воспитателей, то может и добьетесь чина генерала... От одной из них несет йодоформом... это опасно... шансы на знакомство с мистическим "606". – Он начал тасовать карты, его глаза глядели строго и предупреждающе на Скурского.
– У меня несварение желудка. – Слабая улыбка образовала ямочки на круглых, розовых щеках Скурского.
– Скажи, что это у тебя появилось после рыбы... в прошлую пятницу – это то, на что я пожаловался доктору, – подсказал партнер Быкова, Жуков, – может они перестанут давать ее нам здесь... знай, что всем с животами – больничная диэта, хабэр суп с одной каплей жира на поверхности и рыба, – его лицо передернулось, – и желе, я с трудом дожидаюсь вторника. У нас письменная работа в понедельник. – Он подобрал и глядел в свои карты и вдруг: -когда твоя..? – опешил он Скурского.
– С-сегодня, – вышло от неподготовленного к внезапному вопросу, Скурского и, как бы облегченный своим признанием, он уселся на кровать и следил за движениями рук набивающего папиросы.
Тот, утрамбовав штырем табак в металлическую, на завесках раскрывающуюся, трубочку, закрыл ее и, вставив конец ее в гильзу, втолкнул в нее табак. Уже несколько дюжин, набитых табаком папирос лежало рядом с открытой коробкой.
– Письменная работа... отвечать надо всем... не отвертишься... на устном... может тебя и не вызовут-а?
– Вы, хлопцы с животами, – говорил он, продолжая свою работу, – не надейтесь одурачить доктора. У него большой опыт с его сумасшедшими, а они и слабоумные превращаются в хитроумных, когда им надо обмануть кого-нибудь.
– Как же это так получилось, что наш доктор-психиатр? – спросил Скурский.
Он, отложив в сторону свои инструменты для набивки папирос, сделал паузу, посмотрел в пространство и, как бы вспоминая что-то, заявил:
– Он делец! Наш доктор, Альфред Германович Лозенель, – сказал он, аккуратно произнося иностранно звучащие имена доктора. – Он был против, установившейся столетием, постыдной манеры вознаграждать бессребренников докторов украдкой, суя им в руку мятые рублевки, где-нибудь при прощании в передней. Он открыл несколько источников дохода для вознаграждения своей энергии, своего труда... – Подложив подушку повыше, под голову, Дейнеко, полулежа на кровати, и, уложив руку в гипсе на живот, заметно приготовился к повествованию о деятельности доктора:
– Богатая, старая дева, его бывшая пациентка, завещала все свои деньги на постройку больницы при условии, что она будет называться Богоугодное Заведение и главным врачом будет доктор Лозенель... Будучи доктором психиатром, он немедленно прибавил палату для своих сумасшедших пациентов, а родственника немца назначил главным хирургом больницы; в главном крыле ее, он открыл школу для фельдшеров. Певец, – он кивнул в сторону коридора, – которого ты слышал один из преуспевающих из этой школы. Он наш пансионский фельдшер... Прокопыч. Кроме многочисленных пациентов в городе, доктор лечит семью Предводителя Черниговского Дворянства, по протекции которого он был назначен, главным и единственным, доктором нашего Дворянского Пансиона. Говорят, что он к тому же возглавляет какое-то акционерское Товарищество.
Здесь он помолчал и обвел глазами лица слушателей, забывших про карты и внимательно прослушавших об источниках доходов доктора-дельца.
– Откуда ты это все знаешь, Дейнеко? – спросил Жуков, с размахом шлепая своей картой, побивая другую.
– В гимназии я сижу на одной парте с его сыном Котькой и к тому же, хожу в отпуск к нему домой... я хорошо знаю всю его семью. Мы все вместе катаемся на велосипедах, играем в теннис, а иногда и на бильярде... так как посещение городских бильярдных запрещено гимназистам, то мы играем в бильярдной комнате в здании для душевнобольных.
– Встречаетесь ли вы там с сумасшедшими? Как они себя ведут? Если ли среди них опасные? – Играющие снова прекратили шлепанье картами.
Дейнеко спустил ноги с кровати на пол, придвинулся к столу и возобновил набивку папирос:
– Мы видим только "тихих", – они безопасны... Иногда мы, за недостатком партнеров, зовем их играть партию с нами... Один из них, бывший семинарист, часто играл с нами; он хороший игрок, вежливый, держит счет выигранным очкам, раскладывает шары по полкам, как заправский маркер... только никогда не доводит игру до конца.
– Почему? – Все трое слушателей уставились на Дейнеко.
– Ну, – рассказчик закрыл коробку, стряхнув остатки табака с ее крышки, на которой были изображены три турчанки в шароварах, курящие длинные, изогнутые трубки.
– Этот парень, – он продолжал, – страдал манией о спасении человечества. Он не хотел мочиться. Он терпел до тех пор, пока не падал на пол в конвульсиях от боли... – "что-то страшное постигнет человечество, если я не выдержу", стонал он... Нам сказали, что его в детстве строго наказывали за то, что он мочился в постель.
– Н-ну и... что? – хором поторапливали Дейнеко его слушатели.
– Мы спокойно продолжали игру, пробуя подкатить его шар к борту бильярда, ближайшему к умывальнику на стене. Оглядывая нас подозрительно, он не позволял никому быть за его спиной около умывальника, пока он готовился сделать его удар.
После нескольких, таких же, наших дьявольских маневров, он терял свою настороженность, и тогда, один из нас, прошмыгнув за его спиной к умывальнику, открывал кран на полную струю... В ответ на журчащий звук выпущенной воды, он вдруг не выдерживал... и со страдальчески искаженным лицом, беспомощно стоял в луже вокруг его ног.
Вое захохотали, но оборвали смех, слушая продолжение.
– Он никогда не упрекнул нас... молча, с поднятым подбородком, он уходил от нас, оставляя мокрые следы на полу.
– Бедняга, – сказал Скурский, ему было тяжело перенести подорванное к вам доверие.
– Они, фельдшера и сиделки просили нас проделывать это над ним, – пояснил Дейнеко, – иначе его пришлось бы им ловить, вязать и выкачивать.
Эти слова смягчили жестокость обмана над душевнобольным. Они сидели некоторое время молча, рисуя самим себе картину с обиженным семинаристом.
Скурский, точно вспомнив что-то, поднялся
– Мне надо явиться к фельдшеру и попросить его внести мое имя в Книгу для больных, прежде чем придет доктор. Стараясь выглядеть больным, он вышел.
Фельдшер сидел за столом в приемной комнате-аптеке и наполнял капсули белым порошком; его круглое, мясистое лицо расплылось в улыбку, увидев входящего Скурского:
– Здравствуйте, здравствуйте, – он откинулся на спинку стула и обмерил своими лукавыми глазами Скурского, – н-ус, а на какую же хворобу Вы жалуетесь?
– Живот! – Скурский положил ладонь поперек живота.
– О, живот, – повторил фельдшер. Он стал серьезным, опустил глаза на стол, отодвинул банку с капсулями и открыл Книгу для больных. – У меня есть другой больной – Жуков, тоже с жалобой на боли в желудке... Вы едите за тем же столом?
– Нет, Жуков – Старшего отделения, я – 3-го.
– Я подумал о том, что может быть экономный буфетчик скормил вам полузаплесневелые булочки или подкисшее молоко.
– Я думаю, что это была... рыба, – вспомнил Скурский совет Жукова.
– О, рыба?! – Он слегка поскреб себя за ухом, помигал глазами и, послюнив карандаш, вписал имя Скурского рядом с именем Жукова. – Первое, мы смеряем температуру, – он выдал термометр больному и сказал: – сидите здесь, а я обойду остальных. Взяв стеклянную банку, наполненную термометрами, он поднялся, большой, неуклюжий в своем перекрахмаленном белом халате. – Имейте в виду, как бы серьезно Вы ни были бы больны, мы Вас вылечим ко дню Вашей свадьбы, – он засмеялся, – как же дела по женской части? – Он подмигнул, услада нашей жизни – а? Города в обмен давали бы – не взял бы.
Правильно?! – Его широкие плечи тряслись от сдерживаемого смеха, когда он выходил из комнаты.
Скурский с термометром под мышкой, сидел на стуле около выходной двери. На другой стороне коридора, над двойной стеклянной дверью, он прочел надпись, красными буквами: "Заразное Отделение". Он поднялся, подошел и заглянул через стекло внутрь.
Две небольшие комнаты были соединены аркой; в ближайшей – стояли две, покрытые коричневого цвета одеялами, кровати; на ночных столиках одиноко блестели графины с водой и стаканы... В дальней комнате, поперек и, немного по диагонали, постели, десяти-одиннадцатилетний пансионер, в сером халате, лежал на животе; его коротко остриженная голова висела вниз настолько, чтобы он мог видеть подол одеяла, почти касающегося пола. Его левая рука была поджата по его грудью, а в правой он держал, тонко заостренную, круглую, деревянную палочку.
Для сохранения баланса, его левая ступня в белом носке, была просунута между прутьев металлической решетки кровати; ночная туфля, с стоптанным на одну сторону задником лежала тут же на полу...
Заинтересованный Скурский продолжал наблюдать за лежавшим неподвижно мальцем, который вдруг зашевелился, протянул руку к ночному столику, на котором, кроме книг, стеклянных бутылочек с висевшими на них рецептами и баночек, было что-то, что он, перетерев между пальцами, посолил на пол, после чего он снова замер...
– Что он там делает и почему в карантине, – спросил Скурский, снова входя, одновременно с фельдшером в приемную-аптеку.
– О, Федоренко, – углы мясистого рта фельдшера приподнялись в лукавой улыбке, – кормит и пытается, как острогой глушить мышей... у него, возможно, коклюш... пока чувствует себя хорошо, ест с аппетитом, украдкой читает Пинкертона, дразнит и тревожит ночными звонками больничного дядьку, Гаврилу.., скучает в одиночестве... без компаньона. Ему осталась еще неделя карантина. Доктор потерял старшего сына от коклюша, поэтому-то он более чем осторожен с кашляющими детьми.
Они сели у стола. Прокопыч возобновил свою работу с порошками, напевая в полголоса какую-то мелодию. Скурский смотрел, как росла кучка наполненных порошком капсулей в банке и слушал снова:
"Мы расстались молча и навсегда,
Без слез и без упре-е-коов"...
Круглолицый, веснущатый пансионер, возраста Федоренко, вошел в коридор через главную дверь; в его левой руке, прижатой к бедру, было несколько книжек в цветных обложках, а его правая – бережно несла клетку с двумя щеглами. Он прошел прямо к застекленной двери, ведущей в заразное отделение.
Там он остановился перед Федоренко; не имея возможности слышать друг друга через двойную дверь они жестикулируя обменивались кивками, шевелением губ, движениями пальцев, указывающих, то на книги, на щеглов или складывающихся, на только им понятные цифры.
После некоторого времени этого немого разговора, пришелец оставил свои книги и клетку с птицами на полу у двери и, пока глаза Федоренко уставились на щеглов, его приятель направился в приемную больницы, заглянув по дороге в окно пансионского двора.
Среднего роста, седой мужчина, в коричневом костюме, привязал свою вороную, с коротко подстриженной гривой, лошадь к перилам лестницы, ведущей к задней двери воспитательского корпуса. Взяв небольшой, черной кожи, саквояж из кабриолета, он, довольно бодро, на немного кривых ногах, направился к главной двери больницы.
– Доктор идет! – крикнул, вновь прибывший, малец у окна.
Все больные с термометрами явились в приемную.
– Нормальная... нормальная... у Вас... тоже, – повторял Прокопыч, стряхивая термометры опуская их в банку со спиртом, и вдруг спохватился:
– А комнату... комнату проветрили? – Он с беспокойством глядел на Дейнеко и Быкова. – Не дай Бог, доктор узнает, что кто-то курил в больнице.
– Да, да, проветрили, – уверил фельдшера Быков, потом шлепнув ладонью по своей щеке, – портсигар... портсигар.., забыл на столе, – он ринулся из комнаты, но... натолкнулся в коридоре на входящего доктора.
– Как Вы, Быков? Все еще рези беспокоят?
– Нет, Альфред Германович, резей больше нет.
– На Ваше счастье, лабораторное исследование дало отрицательный ответ, тут доктор понизил голос, но все же его лаконические: – Гонококков не найдено... Впредь будьте осторожны... угроза исключения из Гимназии.., – были слышны в приемной.
– Здравствуйте, – произнес, безлично, доктор, входя в аптеку... Прокопыч, выпишите Быкова, – сказал он, не дожидаясь ответа на его приветствие.
Его карие глаза быстро обежали лица больных пансионеров. Положив свой саквояж на стул, он одел очки на свой, немного загнутый книзу, острый нос и открыл больничную книгу.
Была довольно долгая пауза в затихшей комнате.
– Жуков и Скурский, – покажите мне ваши языли.
Оба повиновались. Доктор глядел поверх своих очков:
– Была рвота..?
– Н-ет! – ответил Скурский.
– Прокопыч, дайте ему слабительного и выпишите его.
– Меня тошнило, – вставил Жуков. Доктор молча поднял глаза на Жукова.
– Ваша температура нормальна, – он медленно протянул слова, глядя в больничную книгу опять. Пока он думал, его палец легонько царапал его белую, коротко подстриженную бороду.
– Напишите записку буфетчику – держать Жукова на больничной диете в течение недели... и выпишите его тоже.
– Слушаюсь, Альфред Германович, – Прокопыч продвинулся немного вперед с лицом серьезным, деловым и потным.
Глаза озадаченных Жукова и Скурского выразили удивление и досаду, когда они обменялись взглядами...
– Как Ваше предплечье, Дейнеко? – Доктор тыкал свой палец в сизую опухоль ниже локтя, юноши. – На следующей неделе снимем гипс. Сможете играть на Вашей гитаре... Хорошо для упражнения... для усиления кровообращения в пальцах... Но без французской борьбы... пока.
Вновь прибывший, маленький владелец щеглов, был всецело погружен в созерцании предметов, наполняющих два ряда, с остекленными дверцами, шкафчиков вдоль стен аптеки:
Семья стеклянных банок, уменьшающихся в размерах, сверкала всеми сторонами своего хрусталя; круглые, выпуклые, конусообразные, четырехугольные, простого стекла, с блестящими пробками, которые заманчиво просили их коснуться; и все они были наполненные жидкостью бесцветной и подкрашенной, кристаллами, порошками, бинтами и ватой.
Он смотрел, не отрываясь, на полки, где за стеклом лежали аккуратно разложенные, хирургические инструменты, похожие, по форме своей, на каких-то увеличенных, металлических насекомых, отражавших блеск их никеля между собой и стеклом дверец.
– Кто тебя послал сюда? – прервав наблюдения мальчика доктор, положив свою руку на его плечо.
– Воспитатель! Я Нарбут. Я кашляю! – Он поднял плечи со стоном, задержал дыхание, потом выпустил его с лающим кашлем, держась одной рукой за край стола.
– Сними рубашку, – сказал доктор и, усевшись на стул, внимательно смотрел в покрасневшее лицо больного.
Нарбут снял верхнюю парусинку и затем и нижнюю рубаху. Его голое тело слегка вздрогнуло, когда докторское ухо и его колючая борода прижались к его груди.
– Кашляй! – последовал приказ доктора. Нарбут послушно прокашлял сухими, прерывающимися звуками.
Доктор поднял голову: – Безусловно. – Он пошевелил губами, – Безусловно коклюш! Вдохни! – Он переложил свое ухо к спине выслушиваемого и замер... абсолютно – коклюш, – заключил он, откидываясь на спинку стула. – Изолируйте его. Тот же медицинский уход, как и за другим...
– Слушаюсь, слушаюсь, Альфред Германович, вместе с Федоренко... сразу же.., – послушно кивал головой Прокопыч, с каплями пота на лбу от его, напряженного, молчаливого ассистирования доктору.
Доктор снял очки, поднялся со стула и, взяв саквояж, направился к двери, закончив свой краткий, но строгий визит.
Фельдшер поманил одевшегося Нарбута к двери заразного отделения.
– Без птиц: Они поднимают пыль... Будете кашлять еще сильнее.
Это остановило Нарбута, уже взявшего клетку с щеглами в руку; его, до того, беспечное лицо омрачилось...
– Прокопыч! – взмолился он. – Никто, кроме меня, не знает, как за ними ухаживать.
Прокопыч, в отсутствии доктора, снова стал самим собой. Возвышаясь, точно над карликом – над маленьким пансионером, с руками в карманах халата, с немного расставленными ногами и слегка покачиваясь на них, он не улыбался, но его глаза попрежнему заискрились юмором:
– Ну, ладно. – Он что-то обдумывал. – Я разрешу поместить птиц, в соседнюю с вашей, комнату Гаврилы.., если вы оба пообещаете мне... не беспокоить нас вашим кашлем...
– Обещаем! – почти взвизгнул Нарбут и, с самоуверенно заблестевшими глазами, поднял клетку, книги и закрыл за собой двери заразного отделения.
В аптеке, Прокопыч уселся за стол, придвинул банку с пустыми капсулями и фарфоровую миску с растертым порошком, готовый заняться своим делом прерванным приходом Скурскюго.
Шурша своими, большого размера, шлепанцами, в больничном халате по колено, в приемную явился Дейнеко.
– Прокопыч, дорогой, выдайте мне из кладовой мои штаны. Сбегать за табаком – весь вышел. Гильзы есть, а набивать нечем.
– Вот это... уж никак... не могу, – сказал подразделениям, ставшим, серьезным фельдшер. – Строгий приказ... верхняя одежда больных воспитанников, сразу же, сменяется больничной... Не могу, что уж не могу... то и не могу.
Он замигал глазами, разведя ладони в стороны.
– Но почему? Скажите почему? Это идиотский приказ? – прицепился Дейнеко.
– Почему? Я вам скажу почему. Из-за одного неприятного случая. Присядьте. – Он указал Дейнеко на стул. – Надо рассказать все по порядку:
– Года два тому назад, три воспитанника из Второго Отделения, чтобы избежать неприятные для них дни в Гимназии, "заделались" больными и явились в больницу, захватив с собой пистолет-монтекристо, привезенный одним из них с Рождественских каникул. Еще до их осмотра доктором, они успели втроем запереться в ватерклозете и, открыв окно, поочередно, выстрелили несколько раз, по сидящим на дровах, галкам. Галки улетели. Охотники решили подождать прилета других...
Владелец пистолета, неосторожно перекладывая его из одной руки в другую, выпалил, почти в упор, в колено, рядом стоящего, компаньона по охоте.., тот, завизжав на всю больницу, прискакал на одной ноге в аптеку... Я, думая, что пуля монтекристо не ушла дальше кожного покрова, пытался выдавить ее наружу, но кроме, вогнанного ею, кусочка штанов и крови, ничего не вышло... Известили доктора и начальство...
Явился доктор и, запуская зонд в темную, кровавую дыру, в поисках пули, еще, час другой, промучил ревущего юнца... Альфред Германович отправил его в свое Богоугодное Заведение, в хирургическое отделение для операции.
По рассказу раненого, потом – ему было больнее всего переносить тряску пролетки извозчика по булыжной мостовой, хотя лошадь шла только шагом.
Операция под хлороформом в течение часа, была безуспешна. Пули не нашли... Директор Пансиона был в панике. Решили пока, отца, судью, где-то в далекой, северной Сибири, о несчастном случае с его сыном, не извещать, в надежде, что поиски пули все-таки закончатся успехом до тех пор, когда трехнедельная, почтовая доставка письма, с подробностями о ранении мальчика, известит его родителей.