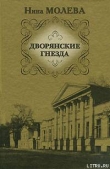Текст книги "Дворянские поросята"
Автор книги: Сергей Хитун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Это чем-то скверно пахнет, – объявил он. – Эта рубаха пахнет чесноком. Его озорные глаза блестели, – чья она? – И, прочтя билетик, "Гамалеи", он продолжал давясь от смеха. – На балу танцуя с своей симпатией, будешь обдавать ее запахом чеснока!
– Он зажал свой нос двумя пальцами и хихикал. Гамалея сделал гримасу и покраснел.
– Пожалуйста, гаспадин Прецелько, пожалуйста... Эта примерка для 2-го Отделения. Ваша будет на следующей неделе, – намекнул на Проценкино излишнее присутствие Лейба.
– Одежда, чтобы носить, а не нюхать, – задиристо заметил Давид.
– Новая материя всегда пахнет. Она выветрится... Не беспокойтесь гаспадин Гамалей, – уверял Лейба.
– Это ничем не пахнет. – Он понюхал раз и другой раз темно-серую, цвета маренго, шерстяную косоворотку. – Новая шерсть всегда пахнет чем-то, трудно сказать чем... Вы хотите попросить гаспадин барон понюхать это тоже? преподнес он возможность, совсем нежелательной для Проценко встречи с бароном, басистый голос которого раздавался уже на верхней площадке лестницы.
Проценко нахмурил лоб, как бы обдумывая степень опасности от встречи с фон дер Дриггеном. Потом вытянул свои губы в дудочку и, чуть посвистывая, отправился в прилежащую спальню. Там он увидел веснушчатого реалиста Константинова.
– Конька, поди сюда. – Повернув его за плечи, он повел Коньку в умывальню. – Полезем на крышу, птенцы уже вывелись... я знаю.
– А где баран? – спросил осторожно Константинов.
– Он собирает младших на прогулку.
– Мне надо идти с ними!
– Ты-ы хочешь идти через город парами, как приготовишки – гимназистки? верхняя губа Проценки вздернулась к носу.
– Нет! Но я могу купить халвы в бакалейке по дороге...
– А где деньги?
– Займу опять у буфетчика Алексея. Только если он даст... Я ему еще не отдал старый долг, 30 копеек.
– Ну, – сказал Проценко, – угостишь халвой потом, а теперь я возьму тебя с собой на охоту за птенцами. Доставай ключ, – приказал он с дружеским шлепком по спине Константинова. Тот пошел за перегородку красной фанеры, присел на корточки и достал притянутый проволокой к трубе водяного бака ключ.
– А чем вытаскивать птиц?
–Есть... на чердаке... пойдем.-Оба пошли в дальний угол спальни. Там они легко оттолкнули секцию деревянных шкафчиков от стены и отомкнули дверь ведущую на заднюю лестницу.
– Фененко, запихни шкафы на место. Мы лезем на крышу! – крикнул Конька.
Фененко перестал читать и уставился на ребят, продолжая лежать на животе перед книгой упертой в подушку.
– Шевелись ты, знаменитый сыщик, скорее пока баран не увидел нас, подстегнул его Проценко. – Спроси у твоего Ната Пинкертона, как побороть твой страх темной комнаты?
Фененко спустил ноги на пол.
– Там на чердаке наверно есть летучие мыши, – сказал он с опаской...
На "черной" лестнице было тихо. Этажом ниже, у задней двери директорской квартиры, горничная в черном платье и белом переднике с рюшками подметала ступени лестницы.
– Заметает следы, – шептал Проценко, – вчера вечером два четвертоотделенца были здесь на свидании с ней и с другой... Наверно они оставили много окурков и апельсинных корок.
Оба поднялись по лестнице и вошли на чердак. Чердак был хорошо освещен несколькими полукруглыми застекленными съемными рамами. Пол был густо посыпан белым песком. Толстые балки соединяющие стены здания были параллельны друг другу на размеренном расстоянии. В углах, где они соединялись с рейками поддерживающими крышу было темно, там прятались от прислуги, которая появлялась на чердаке, чтобы повесить белье для сушки. Пансионерам было запрещено строго-настрого быть на чердаке, а тем более на крыше здания. Из одного из этих углов Проценко вытащил две длинных, тонких палки накрест сбитые гвоздем у их короткого конца.
– Где ты это сделал? – Константинов удивленно смотрел на деревянные щипцы.
– У Франца в его подвальной столярной. Он даже помог мне заменить гвоздь болтиком. Стало двигаться глаже. Я ему сказал, что это... снимать груши с верхних веток... Сними веревку, она нам будет нужна.
Проценко снял ботинки, встал на балку, вынул раму, просунул на крышу свои самодельные щипцы и вылез за ними сам. Константинов отвязал бельевую веревку, скрутил ее в большой ком и, сняв ботинки, последовал за Проценко.
Конька, завяжи конец веревки за трубу... Она – по ту сторону гребня крыши. А другой конец давай мне, – командовал Проценко. Подхватив брошенный ему конец, он обвязал им свою талию. – Все равно, как альпинист на ледниках. Эта оцинкованной жести крыша скользкая.
Конька полез кверху и скрылся за гребнем крыши. Проценко, сощурившись против солнца, ждал.
Внизу на футбольном поле сражались две команды.
– Без подножек, Максимка! – слышался предупреждающий возглас капитана.
Не-ет! – кричал назад Максимович, – он споткнулся са-ам... выдохнулся.
Вдали, за деревянным забором и кустами, виднелось белое двухэтажное столетнее здание Гимназии с ее пустым после дневных занятий, похожим на парк задним двором.
Проценко сидя съехал к ближайшей кирпичной трубе.
– Держись за веревку и вали на своем заду сюда... Помоги взлесть на трубу, – приказал он Коньке, появившемуся из-за гребня крыши.
Конька исполнил приказ, послушно подставил свою спину и Проценко взлез на трубу. Стайка галок стала крутиться над ними.
– Что ты там видишь? – донеслось от нетерпеливого Коньки. Проценко на коленях, с лицом наполовину в отверстии трубы, замер.
– Птенцы! – Проценко повернул свое слегка попудренное сажей лицо к партнеру по охоте. – Внизу, на выступе трубы, – он опять смотрел в трубу, защищая лицо с боков ладонями от солнца. – Все оперились... давай мне палки, он протянул руку. – Мы их вытащим, обучим, они будут ходить за нами, как домашние цыплята. – Он опустил деревянные щипцы в трубу.
Заблестевшие от азарта глаза Константинова следили за движениями Проценко и за нервными взлетами галок над их головами. Он оглядывался назад, вытягивал шею – не наблюдал ли кто за ними со двора или с футбольного поля.
– Вот... один... держи его ! – Зажатый в щипцы птенец висел спокойно. Он только открыл свой большой с желтыми заедами рот, когда Конька взял его в руки и быстро сунул за пазуху своей парусиновой рубахи.
– Доставай других, – подбивал Конька, – мы будем их держать на чердаке бани, туда никто не лазит.
Проценко ловко выудил еще двух птенцов, которые так же ловко были опущены Конькой за рубашку.
– Последний... просто чертенок... уползает, прижимается к кирпичам... Проценкино лицо еще более потемневшее от сажи, повернулось к Константинову. Тебе надо будет переменить рубаху, – он показал на талию последнего. Под парусиновой косовороткой, над лакированным поясом, шевелились три комочка. Серо-зеленые пятна, сделанные испуганными птенцами, расплылись узорами на материи рубахи.
– Наплевать, вытаскивай чертенка, скоро обед. Я вижу буфетчик уже нарезает хлеб, – торопил Константинов.
– Поймал! – Не спеша, Проценко вынес щипцы с самым большим птенцом, который внезапно затрепыхался, вырвался, упал на крышу и, царапая жесть, скатился в желоб.
– Я думал ты его схватил. А ты... дырявые руки, – ворчал надувшийся Проценко, слезая с трубы.
– Ты его выпустил раньше... Я не мог, – защищался Конька.
Птенец, втянув свою полуголую шею, замер. Откуда-то спустились две галки и сели на край желоба, недалеко от птенца. Сидя Проценко тихонько скользил по крыше до желоба, откуда начал красться к птенцу. Галки взлетели, затем спустились и сели на ветки дуба во дворе. Птенец заковылял вдоль желоба и остановился. Ловец на четвереньках продолжал двигаться за птицей. Его колени наступали на конец веревки свешивавшейся с его пояса. Он остановился, от вязал веревку и отбросил ее в сторону. Веревка скользнула по жести крыши вниз, собралась в ком, который перевесился через край желоба и полетел вниз. Проценко продолжал двигаться на животе к неподвижному птенцу. Но когда он был готов схватить его, птенец поднялся трепыхая крыльями и, потеряв высоту, сел на нижних ветках того же дуба, где сидели галки. Оба охотника молча следили за полетом птенца и местом его посадки. Послышался звонок к обеду. Футболисты оставили игру и помчались к зданию.
– Мы его поймаем вечером на этом же дереве. Подбери веревку, – командовал Проценко взбираясь к чердачному окну.
– Не могу. Кто-то уцепился за конец ее там внизу, – доложил Конька, дергая за веревку.
– Я знаю... это... это длинноухий осел, Рыжак висит на ней, – лицо Проценки побагровело от гнева. – Я видел его... он стоял внизу, глаза на меня пялил. Дерни изо всей силы!
– Держит... крепко, – сдался Конька после безуспешных попыток вырвать веревку.
– Подожди, – кипятился Проценко, нервно суя ноги в свои ботинки на резинках. – Подожди... я... я ему покажу, этому дураку и ослу. Веревка висит перед окнами директорской квартиры... они увидят... я оборву ему уши... только подожди! Он метнулся через чердак и вниз по пустынной лестнице громыхающей под его каблуками. Он выбежал во двор и остановился. Конец веревки был в руках дядьки Лариона.
– Так, так! Значит это Вы были на крыше и спустили это. – Он выпустил веревку из рук. – И еще кто-то, добавил Ларион закинув голову назад, глядя на болтающуюся веревку, быстро поднимающуюся к крыше. – Сохрани Бог если бы Вы подскользнулись и свалились бы вниз, – он указал на выложенный кирпичом тротуар. – Здесь был бы мешок с кровавыми костями. Да. – Он пожевал губами и скорбно, покачал головой. – Да, кровавый мешок.
Некоторое время, они молча смотрели друг на друга.
– Директор, Пиотр Яковлевич, – продолжал Ларион с извинительной ноткой в голосе, – просит Вас, господин Проценко, немедленно явиться к Вашему воспитателю.
Лаголин онемел когда Проценко, с выпачканным сажей лицом, снова вошел в его кабинет.
В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
Гул большого колокола с колокольни Кафедрального Собора, вдруг слился с радостным, звонким хором заговоривших на все лады маленьких колоколов, извещая о прибытии Его Преосвященства Епископа Антония Черниговского.. Карета запряженная парой вороных лошадей, была на резиновых шинах (Викарный архиерей приезжал тоже в карете, но ее колеса были обтянуты железными обручами, но не резиновыми.), она свернула с главной улицы и двигалась вдоль площади к Собору.
На паперти два дьякона в расшитых золотом ризах, кучка богомольцев и нищих стояли с головами, повернутыми в сторону приближающейся кареты.
Бородатый кучер остановил лошадей. Молодой человек в длинном черном кафтане, сидевший без шапки рядом с кучером на козлах, спрыгнул на землю, торопливо обежал карету сзади и открыл дверь, услужливо помогая архиерею ступить на тротуар.
Высокий, сутулый, в длинной черной мантии и клобуке, епископ вел группу людей к широко открытым двойным дверям этого воздвигнутого в одиннадцатом веке Собора. Его руки непрестанно крестили воздух то направо, то налево, в зависимости от того, с какой стороны подбегали к нему восторженные богомольцы.
В церкви его встретили еще два дьякона. Легко поддерживая его под локти, они подвели его к платформе. Началась церемония облачения в расшитые золотом архиерейские одежды. Оба дьякона, 6ольшого роста и дюжие, рокотали низким басом обрядные слова: "Облеча бо тя в ризу спасения... яко жениха украшу тя... Ико невесту облачу тя красотою...". А хор с клироса где-то вверху вторил им мелодичными аккордами. Серебристо-звонкие дисканты раздавались где-то под куполом. Лучи солнца проникали через верхние окна Собора, пронизывая легкие голубоватые облака кадильного дыма и сияли на потолке, где виднелся образ Бога Саваофа окруженного крылатыми архангелами. Потрескивали горящие у икон свечи. Народ вздыхал, шептал молитвы, крестился и кланялся.
Мезенцев и Тарновский протиснулись через тесные ряды молящихся ближе к архиерею. Он стоял прямо, с немного вздетой головой в сверкающей драгоценными камнями митре, одетый в блестящие золотой парчи, облачения, крестясь своей холеной белой, пухлой рукой, возводя свои глаза поверх толпы в сторону царских врат и алтаря. Его губы шевелились...
Низкий бас дьякона начал ектенью. Звуковые волны его голоса резонировали где-то между колоннами, стенами и куполом храма. Хор, с высокого клироса, только подчеркивал своим далеким откликом, могучий голос этого обособленного человека возвышающегося над всеми другими, внушающего благодаря своей величине и могучему басу благоговейный страх у молящихся.
Знаменит на всю Украину, – прошептал Тарновский. – Дьякон Швидченко. Вот это голос! Мощь и сила! Он может взять контр-ля, а после водки даже контр-соль. – Глаза Тарновского, не мигая, глядели на дьякона рыжеватые волосы которого, как львиная грива обрамляли его тяжелое лицо и спускались до плеч.
Его открытый рот с слегка вытянутыми вперед губами, как зовущий рог, двигался вместе с закрывающей грудь бородой.
– Он хочет побить рекорд Телегина – контр-фа. Никто со времен Екатерины Второй не побил его пока, – продолжал шептать Тарновский на ухо Мезенцева. Жаль, Швидченко, говорят, принужден уйти в другую епархию.
– Почему? – удивился Мезенцев.
– Говорят, архиерей находит, что Швидченко великан и его лицо не выглядит достаточно благочестивым. Попробуй сохранить благочестивое лицо в потуге взять басовое контр-соль. – Они оба крестились быстро и мелко, с заметно деланным усердием выглядеть набожными.
– Сынок, чеж ты, чистишь свои пуговички? – Удивленный Мезенцев повернулся. Старуха с укоряющими глазами, глубоко сидящими среди морщин лица, уставилась в его лицо.
– Крестись широко, набожно... вот так. – Ее коричневые пальцы, похожие на кусочки высохших сучков дерева, приложились к ее лбу, груди, правому и левому плечу. Она пожевала губами и отвернулась. Оба пансионера стояли молча, косясь изредка на старуху. Они больше не крестились.
Три мальчика, в длинных парчовых одеждах, вышли с нижнего клироса, встали перед царскими вратами и, в ответ на непонятные слова дьякона, запели: "Испола-эти деспота".
Молящиеся замерли. Мягко позванивали цепочки раскачиваемых кадил...
– Ангельские, ангельские голоса, – говорила строгая старуха дрожащим голосом. Она вытерла слезы, стала на колени и замерла в глубоком поклоне.
Мальчики-исполатчики пропели трижды, вызвав могучий отклик хора с верхнего клироса.
Священнослужители, в два ряда, образовали коридор по которому архиерей пошел, по ковровой дорожке, к алтарю, поддерживаемый с обеих сторон дьяконами. Их пение, низкими голосами в унисон, было нестройно, но носило в себе горячность молитвенного песнопения. Молящиеся закрестились чаще. Старуха поднялась с колен и осмотрелась влажными блестящими глазами.
Мезенцев и Тарновский направились к выходу. В толпе они встретили Суворова продвигающегося из правого крыла Собора.
– Я молился у гробницы с мощами святителя Феодосия, – сказал он. Его голубые глаза были серьезны и спокойны. – Монах продал мне освященное на мощах кольцо. Оно мне принесет счастье, когда я буду тянуть билет на экзамене.
На паперти нищие окружили пансионеров. Один из них, с уверенностью человека получающего свое жалованье, протянул свою ладонь перед Суворовым, распевая:
– Копеечку, Христа ради!..
– Молись за меня.
Суворов дал нищему две копейки, затем со вздохом облегчения поспешил за Мезенцевым и Тарновским.
НА ДЕСНЕ
– Эй, Кнопка! – крикнул Савинский крепышу из младшего отделения с круглым веснушчатым лицом на котором, круто вздернутый маленький нос с широкими ноздрями, господствовал над всеми другими чертами его лица. – Хочешь кататься на лодке?
– Да, да, конечно! – звонко откликнулся Кнопка.– Что я должен... что мне надо делать за это? – его карие глаза сияли радостью и вместе с этим выражали вопрос и готовность к услуге. Он знал, что такие внезапные приятные предложения от воспитанников старших отделений всегда подразумевали какую-то обязанность.
– Будешь стеречь нашу одежду пока мы будем купаться. За это порулишь лодкой. Только через реку.
– Да, да, хорошо. Поеду, буду караулить. В прошлое воскресенье городскойники (Презираемые пансионерами ученики 4-х классного Городского Училища, постоянные недруги и участники нескончаемых драк с "дворянскими поросятами".) вымочили, связали в узлы и посолили песком все белье третьеотделенцев. Я буду стеречь. Я не дам... буду вам кричать. – Кнопка двинулся вперед.
– Ладно, беги и доложи Дежурному воспитателю, что ты отправляешься с нами. А потом догоняй нас на валу или в поле. – Серьезный в своих очках, Савинский отдал приказ и зашагал к воротам у которых, с полотенцами на шеях, ждали его восемь гребцов – воспитанников 3-го отделения, Черниговского Дворянского Пансиона. Кнопка помчался в здание Пансиона.
Савинский и "восьмерка", прошли фасад двухэтажного желтого кирпича здания Пансиона и вошли в тенистую аллею ведущую на вершину вала. У летнего ресторана с резными наличниками вокруг больших видовых на реку окон, они остановились.
– Подождем здесь и посмотрим где же теперь причалена наша шлюпка, – сказал Савинский. – Михеич часто передвигает пристань из-за обмеления реки.
– Он сказал, что ему приходится держать лодки в заливе, – добавил Малахов. – Сейчас сезон сплава плотов, а эти дикари-плотовщики прут куда попало и очень часто являются угрозой для речного судоходства.
Они стояли с прищуренными от яркого августовского солнца глазами, напряженно вглядываясь вдаль.
Быстрая волнистая Десна описав крутую дугу перед городом, перешла в спокойный плес и, как бы готовясь соединиться с своим старшим братом Днепром, заметно стала шире, глубже, полноводнее. На высоком правом берегу, над зеленой крышей плавучей пристани-баржи, была видна черная труба причаленного парохода.
Линия разномастных лошадей и пролеток с извозчиками на козлах, ожидающих возможных седоков, протянулась в сторону подъема к городу.
Цепочка согбенных спин грузчиков от баржи к телегам, подняла пыль, которая висела серым облаком а летнем воздухе. Противоположный пологий песчаный берег, обрамленный ивовыми кустами, переходил в заливные поля и луга простирающиеся до самого горизонта.
– Вижу!... Вижу белый флаг с двумя якорями накрест. Вон там, рядом с купальнями, – воскликнул дальнозоркий Максимович. Для сокращения пути, нетерпеливые пансионеры, переступив невысокую ограду, спустились с крутого холма-вала без всяких тропинок. Они сбегали зигзагами, прыгали, скользили, задерживали скорость спуска бороздя песок каблуками и остановились внизу у подошвы вала, переводя дыхание.
– Поработали наши предки... насыпая этот вал, – сказал Суворов, указывая на гребень вала, где между деревьев глядели массивные дула старинных пушек.
– Пытались остановить нашествие татар, – пояснил Савинский, вытирая пыль с своих очков.
– Ну и что же, остановили? – спросил Кнопка уже догнавший группу.
– Нет, город был взят. В наказание за упорное кровавое сопротивление, князь-воевода и его военачальники были связаны и брошены на землю. На их телах был возведен помост на котором победители пировали, празднуя свою победу... Пир длился три дня, до тех пор пока живые подмостки не умерли... Татары впервые наказали таким образом стойких защитников Козельска, а затем повторили это же с Черниговцами.
Юноши шагали молча через поле к реке, думая о татарском пиршестве и о раздавленных воинах города Чернигова. Но эти мрачные воспоминания скоро исчезли из их молодых голов: эти скорбные события случились около тысячи лет тому назад, для них всех, слово "смерть" постепенно перешло в пустой звук. Слишком ярка была молодость, сильно тело и весел день, а сейчас они будут кататься на лодке и плавать. А вечером увидятся со своими симпатиями-гимназистками на том же валу, около павильона с эстрадой для музыки.
С загорелым лицом и с лупившейся кожей на носу, содержатель лодочной пристани, Михеич, красил маленькую долбленку – душегубку – лодку с именем "Малютка".
– Здорово ребята! – приветствовал он. – Ваши весла в каюте. Попутного ветра!
– Мы на ту сторону, купаться, – сказал один из ребят.
– Купаться? – Михеич переместил окурок своей сигары из одного угла рта в другой и отложил кисть в сторону. – Почему вы больше не посещаете мои купальни, а? – Он указал на ряд плавучих купален, откуда доносились громкие голоса, вскрики, смех и всплески воды.
– Кому же из нас они интересны с тех пор, как Вы заделали все дырки из мужских в женские отделения? – преподнес ему, с хохотом, Лашкевич.
– Я должен был. – Он взял свою кисть ,и начал красить.
– Некоторые из ребят оставались там часами... Ни шума, ни голоса, ни всплеска. Я должен был приходить, чтобы узнать живы ли они или утонули.
Все весело смеялись, отталкивая шлюпку от мостков. Новейшая просторная восьмивесельная лодка, державшая первенство по скорости среди спортсменов Черниговского яхт-клуба, быстро пересекала реку. Гребцы строго вместе закидывали весла как можно дальше назад, чтобы напружив мышцы рук и спины, с нажимом откидываться назад и, проводя лопатки весел чуть ниже поверхности воды, броском гнать зарывающуюся носом в волну лодку. Сияющий Кнопка сидел за рулем рядом с Савинским. На другой стороне реки они вытащили шлюпку на песчаный берег и начали раздеваться.
Плот из больших бревен соединенных лыковым вязом плыл вниз по течению реки. По средине плота стояла деревянная будка без окон, с красным флажком на крыше, служившая укрытием для плотовщиков. Спереди будки, на маленькой площадке засыпанной землей, горел костер. Пахло жареной рыбой. Из избушки неслись веселые звуки гармошки.
Когда сильное течение начало сносить плот к средине реки, два бородатых босых мужика в расстегнутых рубахах, с подвернутыми до колен штанами, выскочили и будки. Быстро столкнув маленькую плоскодонку с плота в воду, они, схватив каждый по веслу, торопливо гребли к отлогому берегу. Тяжелый канат, один конец которого был прикреплен к плоту, быстро разматывался из своего круга на лодке. Достигнув берега, они быстро вытянули лодку на песок. Один из них схватил кол, а другой канат, и оба побежали к небольшому возвышению. Первый вонзил заостренный кол в песок под углом, а другой набросил на код петлю каната и оба грузно налегли на него животами.
Канат показался из воды, туго натянулся, связав плот с колом... Кол стал бороздить землю... Плотовщики уменьшили угол и почти лежали поперек кола. Он вошел глубже в песок... Канат задрожал, отбрасывая от себя водяную пыль и брызги. Плот стал медленно приближаться от середины реки к берегу.
– Зачем они это делают? – спросил Кнопка, следя за плотовщиками возвращающимися на свой плот.
– Это – единственный способ, благодаря которому они могут плыть вниз, держа средину реки открытой для судоходства, – ответил Савинский, похлопывая свои туго обтянутые загорелой кожей бицепсы. – Эта дикая спешка гребли предстоит им у каждого поворота реки когда течение выносит плот на средину.
– Откуда они плывут?– не отставал любознательный Кнопка, глядя на следующий приближающийся плот с заливчато лающей мохнатой собакой около будки.
– Из под Брянских лесов, – ответил Савинский, – тех самых лесов, где по сказанию Соловей Разбойник сидел в своем гнезде на семи дубах.
–Знаю, знаю, – перебил Кнопка, – он сшибал на землю своим могучим свистом лошадь и всадника, чтобы ограбить и убить их, – Затем добавил с победоносным видом: – Пока доблестный витязь, богатырь Илья Муромец, не покорил его, живые, яркие глаза мальчика внимательно и с некоторой опаской следили за проплывающими плотами и их обитателями.
Пока старшие пансионеры поплыли к плотам, Кнопка остался на берегу стеречь их одежду оставленную в шлюпке. Он видел, как Максимович бежал по плоту, чтобы с разгона нырнуть в воду подальше. И как бревна плота колыхались, погружались и снова всплывали на поверхность под его бегом. И как два босых бородача внезапно выскочили наружу из будки и как один из них крикнул хрипло:
– Убегайте! Не то вымажу дегтем задницы! В ответ двое дразняще выставили свои зады в сторону плотовщика; но быстро нырнули в воду, как только лохматый мужик и его лающий пес угрожающе двинулись вперед. В воде пловцы подтянулись к плоту, покрикивая, смеясь, показывая часть тела, которая была под угрозой смазки дегтем.
– Пароход! – закричал Кнопка с берега. Все купальщики повернули к берегу и поплыли так быстро, точно это было состязание на приз. Запыхавшись, большинство прыгнуло в шлюпку.
– Сталкивай ее! – крикнул Гриневич, натягивая штаны. – Максимка, на руль!
Трое спихнули лодку с песка и прыгнули в нее в то время, как остальные, наполовину одетые, схватились за весла.
Из-за поворота реки, против течения, показался белый однотрубный пароход.
– Максимка, правь... на его нос, – пыхтел Гриневич.
– Из Киева... большой... смотри на его лопасти... На волне из-под кормы... поднимет до неба... дер-ржись.
– Не опоздали ли?
– Нет! Грреби!.. Грр-реби!
Шлюпка мчалась через реку, прямо на нос подходящего парохода. На черном фоне трубы выбросилось два белых клубка пара. Два резких предупреждающих гудка разнеслись вдоль реки.
– Ррр-аз! Ррр-аз! Ррр-аз! – кричал Максимович в такт с ударами весел.
– Э-эй! Руль-е-евой, куда прешь? Берегись, штаны замочишь... Прро-очь, черти, прро-очь! – орал в рупор кто-то в накрахмаленной белой форме с капитанского мостика. Несколько коротких сигналов снова прозвучали резко и грозно. А шлюпка, не уменьшая скорости сносилась течением и шла прямо на большое лопастное колесо парохода.
– Ннна-вались! Ннна-вались! Ннна-вались! – рычал рулевой. Пароходные сигналы, предупредительные гудки с капитанского мостика потонули в реве и рокоте воды взбиваемой громадными лопастями быстроходного парохода.
Чуть не перевернувшись, лодка круто повернула и, с поднятыми веслами, быстро скользила вдоль парохода; в его нижних круглых окнах мелькали испуганные бледные лица. У самой кормы парохода, большая волна высоко подхватила шлюпку с смеющимися ликующими пансионерами, обдав их дождем брызг. А с кормовой палубы их обдал дождь вонючей жидкости из ведра в руках хохочущего кривоногого матроса.
ПИСЬМО СУЛТАНУ
В рекреационном зале Старшего отделения Черниговского Дворянского Пансиона сидел восемнадцатилетний юноша перед хорошо освещенным мольбертом.
Увеличенная в несколько раз копия открытки, прикрепленной кнопкой к краю мольберта, блестела свежей масляной краской. На ней была изображена группа вооруженных, похожих на морских пиратов людей, скучившихся вокруг стола за которым сидел стриженный "под горшок" хлопец с лисьей улыбкой. Он писал гусиным пером под диктовку его окружающих, лица которых отображали такое неудержное веселье, смех и задор, точно животы их владельцев вот-вот лопнут от напора их раскатистого, громового, вызывающего хохота...
После непрерывной работы кистью, художник откинулся на спинку стула, протянул ноги, отвел глаза от работы и скользил ими бесцельно от географической карты России, висевшей около большой, классной, черной доски, до скетча Наполеона с печальным лицом, на фоне горящей Москвы и другого, изображающего двух полузамерзших французских гренадеров в лесу.
Он сидел некоторое время неподвижно. Потом, как бы вспомнив что-то, поглядел на часы. Они показывали десять. Художник выпрямился, нехотя взял кисть и продолжал рисовать.
Дежурный дядька, пансионский служитель, в пиджаке с "чужого плеча" и мешковатых заправленных в сапоги штанах, вошел в зал неся открытую корзину почти полную ботинок разных размеров.
– Позвольте мне взять Ваши ботинки господин Ширинский, – сказал он мягко, – чтобы вычистить их к утру.
– Мммм, – отозвался Ширинский, – продолжая водить кистью.
– Да, Василий. – Не отводя глаз от картины, он снял ботинки и выпихнул их в сторону дядьки. Василий подобрал ботинки и, глядя на картину, продвинулся за спину художника.
– А-а, кто эти люди? – спросил он робко.
– Запорожцы, – прозвучал лаконический ответ.
– А-а-а, – это было произнесено с некоторым уважением. Его рот оставался полуоткрытым. Круглые глаза вопросительно мигали.
– Наши предки, – добавил Ширинский. Его кисть уверенными, легкими мазками прошлась вокруг бритой головы полуголого запорожца на переднем плане картины, затем быстрым движением изобразила хохол-оселедец от темени к уху. – Наши предки, – повторил он. – И Ваши. Вы украинец, Василий?.
– Да, да, я... Мы из-под Херсона, – подбодрился Василий и, как бы получив разрешение, подвинулся ближе.
– Ну,.. значит.., они и Ваши... предки, – мягко тянул слова, занятый своей работой, Ширинский. – Тех кто отличился при защите русских границ Екатерина Вторая наградила дворянством, а других, – он улыбнулся, – те остались хохлами благодаря этому. – Он ткнул кистью в хохол и, немного подтемнив и удлинив, завернул его за ухо запорожца.
– А-а, – опять произнес Василий с прищуренными глазами, точно заразившимися изображенным на картине весельем, он добавил, мотнув головой на картину: – веселятся?
– Пишут письмо Султану.
– Пись-моо? – почти прошептал Василий. – Ширинский отложил кисть в сторону и повернулся к Василию.
– Около трех сот лет тому назад, на нижних порогах Днепра образовалось поселение. Население его состояло из групп авантюристов, дезертиров, беглых крепостных и беглецов от правосудия. Они назвали себя Запорожцами. Их воинственные набеги на кочевников Черноморского побережья рассердили Султана, который в его послании пригрозил им суровым наказанием... Так вот они, – он повернулся к картине, – отвечают ему в письме. Это как изобразил их художник Репин.
– Отвечают ему, а-а, – Василий кивнул пару раз головой. Его глаза перебегали с картины на лицо Ширинского и затем назад на картину. – А що ж воны пышуть? – Василий перешел частью на малороссийскую речь.
Ширинский улыбнулся. Он взял кисть в руку и возобновил работу, с трудом сдерживая смех на широко расплывшихся губах. Круглое лицо Василия тоже заулыбалось. С вытянутой вперед шеей, он застыл в ожидании ответа.
– Я не помню всех вызывающих оскорбительных слов и площадных ругательств, которые были написаны в письме к турецкому Султану, но я знаю рифмованное четверостишие, которым заканчивалось это письмо. – И, давясь от смеха, он продекламировал:
"Мы чысла нэ знаем,
Бо калэндара нэ маем.
Год таки як у вас,
Поцалуйте в ж...у нас".
Василий прыснул от сдерживаемого смеха. Лысый, с носом цвета зреющей сливы, с длинными усами над беззубым ртом, он сам походил на одного из запорожцев на картине. Внезапно он оборвал свой смех:
– Ой! Что-й то я так громко! Младшие уже давно спят наверху. – Он подобрал корзину с ботинками и прошел несколько шагов к классной комнате. На пороге ее он остановился. В средине комнаты десять воспитанников 17-19-летнего возраста, сидели на высоких, без спинки, круглых табуретах у высоких конторок, сдвинутых задними стенками друг к другу.