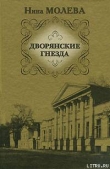Текст книги "Дворянские поросята"
Автор книги: Сергей Хитун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Некоторая напряженность гостей от присутствия комиссара постепенно исчезла с количеством выпитого. Говорили громко, много, перебивая друг друга, смеялись. На конце длинного стола нестройно пели революционные песни.
Пришла Эсфирь с Наташей – молодой, румяной, черноглазой племянницей ее квартирной хозяйки. За столом уже все говорили сразу и каждый наслаждался звуком своего голоса и собственной речью. Молчали только самые молодые Наташа и я. Вчера я был с ней в кинематографе, где в течение 2-х сеансов в темном зале, выяснились наши "взаимные интересы".
Улучшив удобный момент, мы ускользнули от общего стола в соседний с столовой будуар. Там мы продолжали молчать... Среди объятий и горячих поцелуев, в моих стараниях сделать эту вишеньку, казачку-барышню, "совсем ручной, я слышал голос Эсфири, теперь уж с хрипотцой, провозглашавшей тост за Каледина !
Январь 1918 года принес неутешительные и тревожные новости всем несогласным с действиями большевиков.
Учредительное Собрание было разогнано и члены его арестованы. Бывшие министры Временного Правления, Кокошкин и Шингарев, находившиеся в заключении в Петропавловской крепости, серьезно заболели. Доктор убеждал их оставаться в своих казематах ради их личной безопасности. Но они попросились в госпиталь, где оба были зверски застрелены на другой день в их же кроватях.
В том же январе, дом Ш-ых постигло неожиданное несчастье: в полночь явились два большевистских комиссара с четырьмя вооруженными солдатами. Объявив всех присутствовавших под арестом, они приступили к обыску.
Бумаги Петра из всех ящиков его письменного стола были вывалены на пол. Что они искали в них, я не знал. По-моему мнению, он был беспартийным преследующим только свои коммерческие дела, они может быть, не соответствовали декретам новой власти.
У моей тети Сони, матери Нины и вдовы генерала, за всю ее долгую жизнь арест, обыск и ссылка были связаны с понятием о политических преступниках, боровшихся с ее правительством. В твердой уверенности, что никто из ее близких не мог принадлежать к этой группе неблагонадежных, она следовала по пятам комиссаров с трагично-нелепыми словами:
– Что вы!.. что вы!.. Господь с вами... Какие же мы революционеры?!
– Мама! – остановила ее, чуть не плача, Нина. Даже комиссары заулыбались.
Вместе с моим удостоверением личности были найдены два незаполненных бланка с штампом моего Военно-дорожного Отряда. Очевидно, это оказалось большим козырем в руках обыскивающих. Один из них, горбоносый, ушастый, с злыми мигающими глазами, заикаясь от возбуждения, сразу же стал угрожать мне всеми высшими мерами наказания вплоть до "гниения заживо в Бутырках" если я не признаюсь, что эти два бланка предполагалось заполнить фиктивными именами и вручить бывшим офицерам, которые пробирались на юг в анти-большевистскую армию Каледина.
В свое оправдание я сказал, что это правда: я уговорил писаря Отряда выдать мне пару не заполненных бланков. В это смутное время было опасно передвигаться с офицерскими документами по стране среди толпы враждебно настроенных солдат. Закончив свою защиту словами о моей непринадлежности к никаким организациям направленным против существующей власти я добавил, что по счастью мне не пришлось скрываться под вымышленным именем.
Молодой комиссар продолжал свои угрозы, обвиняя меня во лжи как "бандита прижатого к стенке". Обыск продолжался. За шкафом в коридоре, где Франк прятал свое имущество, солдаты нашли четыре тысячи Романовских рублей. Больше всех был изумлен Петр, приютивший Франка как бедняка в своем доме при кухне.
Хотя мы были уверены, что ничего антиправительственного не могло быть найдено этим обыском, все же Петр, Франк и я были выведены солдатами на площадку лестницы, где в слегка открытой двери соседней квартиры мелькнуло заплаканное лицо Наташи. Уже когда мы спускались по лестнице до нас донесся строгий голос тети Сони:
– Завтра... сама буду хлопотать... о вашем самоуправстве... перед начальством... И еще что-то, заглушенное расстоянием и топотом ног.
Факт незначительный, но и необычный для того смутного времени в России был тот, что за рулем автомобиля, в который нас всех втолкнули, сидела женщина.
Но действительно характерным для тех хаотических большевистских действий было то, что у меня в кармане моих галифе оставался заряженный 45-го калибра Кольт. Меня они не обыскали...
На шестом этаже бывшего отеля, на Лубянке в комнате, куда меня одного ввели, я, к своему большому удивлению, увидел Кускова и Володю. Они засыпали меня вопросами: кто был арестован в доме Шек-ых и при каких обстоятельствах? Я доложил обо всем подробно.
Они проявили какое-то удовлетворение, узнав, что Петр был заключен от них отдельно. Выведав от меня все что их интересовало, они стали меня игнорировать, как бы отделяясь от меня их прежним престижем выборных от полкового и ротного комитетов и тем самым определяя свое заключение как просто временное недоразумение. О причинах их собственного ареста они умолчали. В течение девяти дней мы трое сидели в этой пустой комнате, без вызова на допрос. Спали на паркете пола с шинелью под себя и на себя. Кормили нас раз в день водянистой рыбьей похлебкой с куском черного хлеба.
Однажды, проснувшись по-видимому в хорошем настроении, Кусков и Володя со смехом затеяли борьбу. Молодой комиссар легко подмял под себя пожилого. Тот вскрикнул от боли: крючок Володиной шинели довольно глубоко разорвал ноздрю Кускова. Вызвали часового. Раненного перевязали там же в отделе скорой помощи, но на допрос все-таки не вызвали. Оба сидели молча, Кусков с видом пострадавшего, Володя с виноватым видом.
Посещая уборную, я думал каждый раз каким способом сбыть мой Кольт, чтобы не усилить подозрение и гнев комиссаров, когда он будет, рано или поздно, обнаружен в кармане моих брюк. Но сопровождавший меня часовой не спускал с меня глаз и запретил закрывать дверь. Итак я по-прежнему сидел под строгим арестом, вооруженный 45-м Кольтом с обоймой восьми боевых патронов. У меня не было и мысли использовать его, чтобы вырваться на свободу – настолько я был уверен в непричастности к предъявленным мне обвинениям и в том, что мой арест просто суматошная ошибка, которая вот-вот исправится моим освобождением.
На десятый день нас троих вывели на улицу, где мы встретились с Петром и Франком. Оттуда вся наша пятерка, под усиленным конвоем, зашагала по средине улицы в Таганскую тюрьму, как нам было сказано старшим конвоиром.
На Тверской-Ямской улице, Петр взмолился к старшому с просьбой нанять за его счет такси, чтобы скрыть свое позорное шествие от глаз прохожих, многие из которых знали его как владельца автомобильной школы.
Конвоир учел длинный путь до тюрьмы и дал согласие на наем лимузина – при условии, что арестованные будут ехать в абсолютном молчании.
В тюрьме, опытные руки тюремщиков-профессионалов немедленно прощупали мой Кольт. Но привыкшие ко всяким "сюрпризам" в это сумбурное время, они эту находку ничем не отметили, кроме удивленных глаз. Арестовавшие нас комиссары очевидно причислили нашу пятерку к разряду крайне опасных врагов народа, так как каждый из нас был помещен в камеру одиночного заключения.
Стены моей камеры были испещрены выцарапанными именами ее прежних обитателей. Выделялось имя старого революционера Плеханова; пониже, с более свежими царапинами, имена польских легионеров. Немного выше человеческого роста, каким-то острым резцом мелко, но четко было выведено:
Man is the only animal that robs his helpless fellow of his country, takes possession of it and drives him out it or destroys him... There is not an acre of ground on the globe that is in possession of its righful owner or that has not been taken away from owner, cycle after cycle, by force and bloodshed.
Mark Twain ( "Человек является единственным животным который лишает своего беспомощного собрата его страны; он захватывает ее в свое владение, а его или выгоняет или уничтожает. На всем свете нет ни одного акра земли, который принадлежал бы его законному владельцу и, который не был бы отнят от одного владельца – другим силой и кровопролитием, при смене Циклов Истории.
Марк Твэйн)
Это краткое и меткое изложение Истории, оставалось нестертым по всей вероятности, только из-за неведения тюремщиками английского языка.
Мечты о скором освобождении, которые не покидали нас в течение девяти дней нашего заключения на Лубянке, погасли с переводом в Таганскую тюрьму.
Понадобилось несколько дней, чтобы вывести меня из состояния острого отчаяния, затем безразличия и апатии. После этого я стал "жить" снова.
Утром я получал кружку чая и четверть фунта хлеба. На обед – суп с каплями жира на поверхности и еще кусок черного хлеба. Эта мизерная порция была все же больше того, что обитатели Москвы получали по продовольственной карточке в 1918 году. Ежедневно мне разрешалась 20-ти минутная прогулка в маленьком тюремном дворе.
Чтобы сравнить мои переживания арестанта, я взял из тюремной библиотеки записки Шлиссельбургского узника. Его безнадежность и духовная депрессия еще больше угнетали меня и я не мог окончить чтение. Так же как и он, я нашел, что звук запираемого замка двери камеры усиливал сознание моей беспомощности переходящей в отчаяние. Периодические наблюдения тюремщика в "глазок" – были как бы издевательством.
Ночью сны были исключительно о свободе или о картинах объедения. Казавшаяся раньше нереальной, поговорка: "От тюрьмы и от сумы не отказывайся", подтверждалась фактом.
Ночью сосед за стеной отстукивал какую-то систему ударов с перерывами. Хотя я и учил Телеграфное Дело в Военно-Инженерной Школе, но азбука Морзе в голове не удержалась. Не поняв ничего из выстукивания соседа, я стукнул три раза только для того, чтобы передать ему, что моя камера обитаема живым человеком. Убедившись в моем незнании тюремного "Телеграфного Дела", он больше не стучал.
Иногда я чувствовал себя затерявшимся в мире, забытым всеми, подобно "ликвидированному" в небытие. Тогда я писал письма Нине с просьбой не забывать обо мне; а Начальнику тюрьмы о моем незаслуженном наказании, прилагая все доказательства об абсолютной моей невиновности перед страной и ее настоящей властью. Но ответа на мои письма не получал.
Через три месяца, с начала моего заключения я получил первое письмо от Нины, в котором она сообщала, что генерал Каледин застрелился, белое восстание на юге России подавлено большевиками и, в связи с объявленной Правительством амнистией, меня вскоре освободят из тюрьмы. В тот день я громко разговаривал сам с собой, уверяя себя, что теперь все мои несчастья пришли к концу и что моя камера вовсе не такая уж удручающая, как казалось раньше. Вскоре меня выпустили на волю...
Радость освобожденного узника неописуема! Это ласка улыбающейся судьбы. Она сильнее даже материнской ласки, уже по своей жгучей неожиданности, в то время как ласка матери принимается, как что-то должное, постоянное, будничное.
Наконец... вон из тюрьмы... на слабых ногах... сквозь калитку высоких железных ворот, прямо на улицу. Никто меня не встретил. По дороге к трамвайной остановке, с легким головокружением и жмурясь от солнечного света, иду и удивляюсь тому, что никто на меня не обращает внимания, хотя я уверен что выгляжу, как тяжело больной, почувствовавший внезапное облегчение.
Чтобы получить назад свое удостоверение личности, мне пришлось явиться в Московский Городской Совет. В большой пустой комнате, за единственным столом, сидел черноусый бледнолицый мужчина средних лет. Возвращая мне мои документы он, как бы между прочим, сказал:
– В Советской армии нехватка офицеров Инженерных войск. Если Вы хотите, то двери открыты.
"Дай ему в морду так, чтобы он сплюнул с кровью половину его зубов. Потом начинай допрос", – промелькнуло у меня в уме ходячее наставление для блюстителей Государственной безопасности. Черноусый также поспешно и, даже с тенью некоторого смущения, "сыграл отбой" своему предложению, очевидно угадывая мой ответ. Я промямлил о необходимости лечения моего недомогания, вызванного длительным заключением.
– Да, да, конечно, поправляйтесь! – были его последние слова.
Вернувшись в Госпиталь я увидел, что постель с моей именной карточкой у изголовья была никем не занята. Никто, абсолютно никто, не спросил меня о причинах моего трехмесячного отсутствия. Только одна молодая сестра милосердия, любимица всей палаты, выслушала с испуганным лицом мой шепот о заключении в тюрьме. Она же вызвалась немедленно отправиться на кухню госпиталя и определить меня на регулярное пищевое довольство, как выздоравливавшего на дому и вернувшегося для дополнительного лечения при Госпитале. От нее я узнал, что формируется санитарный поезд, который эвакуирует в Сибирь многих раненных и больных из перегруженного госпиталя. Я немедленно заявил о своем желании уехать с этим поездом, дав свой домашний адрес в городе Иркутск, где я знал, находился мой отец, его жена и мои братья.
Отправление этого поезда Красного Креста. ожидалось через месяц. Боясь вторичного ареста, я проводил дни в Москве, а ночевал, в снятой комнате, в Пушкино.
В это действительно "время мерзкое", вся Россия была "uprooted". Люди уходили с нажитых мест в поисках хлеба, хлеба, хлеба... Многие странствовали по пробитому опасному этапу мешочников; другие в одиночку, с не меньшим риском быть ограбленным, замерзшим, убитым и "пропавшим без вести"; третьи, беспомощные прокормить свои семьи, проклинали Новую власть обещавшую рай, пробирались к югу, где все еще держались островки сопротивления и сытости.
Молодые пары расставались горько, но откровенно, потеряв надежду на возврат "красоты жизни": Она не могла жить без душистого мыла и шелковых чулок, а он – без смены белья и сытного обеда с водкой. Старики молча умирали, не в состоянии быть даже нахлебниками, ибо хлеба не было.
Этот период моей жизни был жалким существованием невиновного ни в чем беглеца прячущегося от преследующих его обвинителей. Повторный арест все еще был возможен, если бы возникло новое восстание "белых".
Однажды утром, чтобы утолить мой голод до того пока я "подхарчую" в Госпитале днем, я захватил старую нижнюю рубаху и отправился из Пушкино пешком через снежное поле к виднеющейся деревне. У меня были деньги, выпущенные Правительством Керенского. но крестьяне охотнее обменивали съестные продукты на одежду, чем на быстро терявшие ценность, деньги уже несуществующего Правительства.
Старая обитательница избы дала мне за рубаху увесистую свежую ржаную лепешку. Обе стороны остались довольными обменом. Выходя из избы через сенцы, с насеста из-под соломенной крыши, с громким кудахтанием слетела большая курица. Хлеща крыльями мою щеку и грудь, она вырвала (это был резкий рывок) кусок моей лепешки. Я пытался схватить ее и отнять отхваченный хлеб бывший на вес золота. Но курица, которую голод очевидно превратил из домашней птицы в орла-стервятника, ловко шныряла по земляному полу под насестью. На ее резкий крик выбежала хозяйка избы. Я устыдился ее очевидного подозрения в попытке украсть курицу и ушел прижимая лепешку к груди.
Перед поездкой в Сибирь, я взял из Госпитальной кладовой для хранения личных вещей мою офицерскую форму: коричневый френч, синие бриджи, сшитые на заказ выходные сапоги с колодками, которые обошлись мне в сто рублей. Оставшись во всем походном, я отправился на "Сухаревку" и обменял все это на две большие буханки ржаного хлеба. Такая сделка была блестящей для того времени в Москве.
Самое трудное было пронести этот хлеб через толкучку и не быть задержанным патрулем. Частная продажа и обмен продуктов воспрещались.
В начале апреля 1918 года, выздоравливающие раненые и больные Купеческого госпиталя были отправлены группами на вокзал для посадки в Санитарный поезд Красного Креста.
Под предлогом потери моих документов на улице Москвы, я обратился к вечно сонному писарю в приемной комнате с просьбой написать мне другое удостоверение моей личности. Под мою диктовку он вывел:
"Демобилизованный шофер 17-го Военно-дорожного Отряда, мое имя, история болезни – нефрит, эвакуируется в Санитарном поезде в г. Иркутск.
Перед отъездом из Москвы я позвонил по телефону тете Соне. Она и Нина очень мне обрадовались, но были сдержаны в ответах: очевидно дом был все еще под надзором. Все же я узнал, что я был единственным освобожденным из всей нашей пятерки. Узнал, что Наташа ждет от меня вестей и выедет ко мне, как только я сообщу куда. Разжаловав себя, по новому удостоверению, из офицерского чина в солдата, я ехал в купэ Госпитального поезда в числе пяти других солдат. Появилась проблема: как мне подладиться к солдатской простонародной речи?
Офицеры были объявлены врагами народа. Под клич Троцкого "Ату их!" за офицерами охотились, их арестовывали, убивали. Члены солдатских и рабочих комитетов проверяли документы пассажиров на поездах, обыскивали, допрашивали, прослушивали их "говорок", осматривали их руки: чистые и гладкие малых размеров – интеллигентов; с линиями въевшегося чернозема – руки пахаря; или большие мозолистые ладони – рабочего.
Чтобы избежать плаху террора, офицеры прибегали к самым необыкновенным приемам, трюкам, маскарадам, чтобы не быть узнанными, пойманными и "ликвидированными".
В продолжение первых дней на поезде, я молча лежал на верхней полке, или лаконично отвечал на вопросы болезненно-ворчливым голосом больного человека. Наше купэ 1-го класса носило следы бывшей роскоши и комфорта: стены были отделаны панелями из красного дерева; на окне занавеска голубого шелка; мягкие складывающиеся полки и сидения.
Теперь же панели были грязные, исцарапанные, тусклые; занавеска висела драной и полинялой; матрацы запятнаны; кожа мягких сидений местами вырезана; из дыр торчала "начинка".
Нас кормили дважды в день супом, кашей и хлебом. Эта пища была абсолютно недоступна для рядового обывателя Москвы в те времена.
За Уралом, сибирские крестьяне выносили на станцию к остановке поезда яйца, масло, молоко, белый хлеб и даже жареных кур. Это было просто непостижимо уму проезжавшего, только что голодавшего в Москве.
Большинство солдат в вагонах Санитарного поезда, были так же здоровы как и я. Те, кому была необходима медицинская помощь получали ее в специальном вагоне в средине поезда, где находился весь медицинский персонал.
Чтобы подготовиться к возможному внезапному медицинскому осмотру каким-нибудь рьяным комиссаром, насчет серьезности моей болезни и права быть эвакуированным, я стал хромать на левую ногу, колено которой носило большой шрам от двух хирургических операций. (Меня подстрелил, в свое время, 12-летний, неосторожный охотник за галками, мой однокашник. Мы оба стреляли по птицам из окон больницы нашего Пансиона, куда мы попали по мнимой болезни, желая избежать трудного дня в гимназии.).
Шрам мог сойти как недавнее ранение и определить меня в разряд ветеранов войны. Нам пришлось ждать два дня в Челябинске, чтобы пересесть на только что сформированный поезд, который доставил нас в г. Томск.
В приемной комнате Томского Городского Госпиталя, фельдшер сказал мне, что единственная оставшаяся не занятой, была койка в палате Венерических болезней; и что если я не имею ничего против, то он меня туда поместит.
Зная, что эта обособленная секция Госпиталя звалась "Срамной Палатой" и ее боялись, обходили и презирали, я решил, что она будет наилучшим временным убежищем. Я согласился, взял свой вещевой мешок и, прошагав длинный коридор, вошел в довольно большую комнату с восьмью кроватями. Из них шесть были заняты жертвами "неосторожной любви", о которых солдаты отзывались без определенных медицинских терминов их болезней, а просто "те с х–и".
Первый, кто привлек мое внимание был краснощекий, скуластый, крепкого сложения больной, лет 25-27-ми. Несмотря на его старание исковеркать его правильную русскую речь на деревенский говор, я сразу догадался, что он принадлежал к моему "классу" – бывший офицер. Очевидно он был в палате дольше других больных: он говорил с авторитетом о госпитальных расписаниях и правилах, отсутствовал из комнаты большую часть дня, но являлся точно ко времени кормежки. Я заметил на рукаве его шинели следы споротых офицерских нашивок за ранение на фронте. Его фамилия была Жуков.
Согласно какой-то этике Госпиталя, на именных карточках у изголовья кроватей не были указаны диагнозы болезней. Вначале никто не знал, кто чем болен. Постепенно "правда выплывала наружу" и мы все в палате обсуждали симптомы, фазы и диагноз болезней и лучшие способы их лечения.
Следующий за Жуковым был больной лет 35-ти с красивым профилем и смуглой кожей лица аравийского бедуина. Он родился на Кавказе и говорил по-русски с акцентом; был содержателем винного погребка в городе, а после Революции был выбран членом Комитета по распределению съестных продуктов в лагерях для военнопленных немцев, которыми все еще была полна Сибирь. Он изредка тщательно изучал свое горло, стоя перед зеркалом с открытым ртом, затем полоскал его. Он твердо верил в силу "Сальварсана".
Моя кровать была между кроватями двух молодых солдат застрявших в Томске, по дороге домой в их прилежащие деревни. Оба они слушали с широко открытыми глазами и ртом нелепо-фантастические небылицы которые выбрякивал им третий солдат постарше. Он клялся и божился, что сам видел деревенскую ведьму превратившуюся в свинью и бегающую вокруг пруда с криком: "Помогите! Спасите!".
Я видел их всех троих в перевязочной комнате Госпитале. Каждый из них сидел под подвешенной стеклянной банкой наполненной темно-красной жидкостью, держал ведущую из нее резиновую трубку с наконечником и производил спринцевание своей гонореи сам. А фантазер-рассказчик неустанно продолжал очередную серию выдумок и небылиц.
Кровать у окна была занята рослым, прыщавым парнем блондином. Он неплохо пел народные песни, подыгрывая себе на балалайке. Большинство их было заунывными, печальными и пел их он с скорбным выражением. Однако лицо певца превращалось в ехидно-злое, с прищуренными серыми глазами, узкими синеватыми губами, которые кривились цедя злорадство когда он рассказывал, как они матросы Балтики "потчевали офицерей": "В Севастополе морячки их горяченьким в топку котлов. А мы, балтийцы, холодненьким – в прорубь да под лед".
Жуков зеленел, желваки на скулах ходили, но он молчал. К этому балтийцу приходила посетительница, единственная женщина которая осмеливалась входить в "Срамную палату". Они сидели, тихо разговаривая. Изредка он воровски поднимал край одеяла и они оба долго рассматривали какую-то часть его тела, очевидно проверяя степень ее заживления.
Уходя, она награждала нас всех улыбкой, показывая больше десен, чем зубов. Ее узкие карие глаза, на скуластом бурятском лице, казались насмешливыми.
Я так и не узнал, была ли она его жена или любовница. Вскоре к нашему "клубу" присоединился новый член. Однажды ночью мы были разбужены какой-то суматохой в коридоре: слышны были тяжелые вздохи, стоны и всхлипы подавленного плача. Выглянув, вы увидели парня с лицом цвета сырой известки посредине слабо освещенного коридора. Он вытирал дрожащими руками окровавленные места между своих ног. Несмотря на то, что тряпка была уже вся пропитана кровью, он продолжал тыкать этим кровавым комком здесь и там, вымазав кровью задранную рубаху и нижнюю часть своего голого живота.
– Лопнуло... прорвало... язви его... прорвало, – повторял он полуплачущим голосом, глядя на нас испуганными и умоляющими карими глазами. – Не мог сдержать до утра... покликайте хвершала. – Он сел на пол, зажав между ног набухшую кровью тряпку которая была, как мы увидели, его подштанниками.
Я бросился в комнату соседнюю с аптекой и затряс храпевшего фельдшера: "Скорее! Парень истекает кровью!".
Он заторопился, все еще ошарашенный встряской и внезапным пробуждением.
Стонущего парня перенесли в операционную комнату и кто-то дал знать дежурному врачу.
Мы вернулись в свои постели, но спать уже не могли. Все мы семеро обсуждали это ночное событие и согласились, что это была очень запущенная болезнь. Деревенский парень, вкусив "сладости" городской жизни, ничего не знал о способах предостороженности, ни о зловещих признаках развивавшейся болезни.
Свет все еще был в операционной, но мы, наконец, заснули и не слышали когда оперированного внесли к нам и он стал восьмым в палате.
Мы увидели его утром. Его запавшие глаза были печальными и лихорадочно блестели. Он лежал на спине; между ног, у нижней части живота, сверкал белизной ком марли в центре которого виднелась гуттаперчевая трубка.
– Ничего, – утешал его солдат-рассказчик, – у нас на Лене, целая деревня скепцов (Скопцов.).
Они живут лучше других... трудящие... огородники... безбородые, голоса бабские, но хорошие... хорошие, – утверждал он не сознавая своего ошибочного заключения об операции.
– Эх ты, паря, потерял свою мужскую красоту, – бросил уходящий Жуков.
Вновь прибывший пошевелил сухими губами, закрыл глаза и промолчал.
В МОНГОЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ
В сентябре 1919 года Южная армия адмирала Колчака, чтобы избежать окружения красными, была принуждена оставить длинную и неудавшуюся осаду Оренбурга и спешно отступить в Киргизские и Тургайские пустыни; ее попытки соединиться с главными силами Сибирской армии путем "скорого" марша на Атбасар и Кокчетав, к Сибирской железнодорожной магистрали, не удались.
В Кокчетаве атаман Дутов сменил бывшего командира генерала Белова, подбодрил на смотру подтянувшиеся, потрепанные и усталые части, переименовал их в Оренбургскую армию и, так как Омск уже был взят большевиками, дал направление на Акмолинск, Каркаралинск и Сергиополь.
Каркаралинская голодная степь была невероятно тяжелым испытанием для Оренбургской армии.
Три четверти состава были или больны тифом или выздоравливали от него.
Весь путь был усеян трупами лошадей, верблюдов и кучами из камней, под которыми покоились казаки. Все киргизы со своими стадами ушли подальше от отступающей армии – провианта достать было негде. Стали резать лошадей и верблюдов.
Менее всех пострадали, или вернее сказать, – совсем не пострадали – чины штаба армии, которые передвигались впереди всех на автомобилях Авточасти, начальником которой был я.
У нас, автомобилистов, было много проблем. Недостаток горючего заставил употреблять спирт вместо бензина.
Спирт мы реквизировали во всех винокуренных заводах, какие только были в городах на нашем пути. Шофера напивались пьяными. Пришел приказ – примешивать к спирту толуол. Начались отравления. Второй приказ по штабу армии гласил убрать толуол, и заменить его керосином. Эта смесь была слаба по воспламеняемости и моторной силе, но пить стали больше.
Автомобильная команда пользовалась большой популярностью у обитателей станиц, сел и деревень. Как только наша команда решала остановиться на ночь в каком-нибудь пункте, являлись владельцы лучших домов и изб с предложениями приютить нас в горницах, а также предоставить их обширные дворы для автомобилей.
Мы уже знали, в чем была суть этого предупредительного гостеприимства.
Мужчины подсылали жен просить "вот этой самой пустяковины, что в машину заливаете – помажешь больное место и сразу полегчает"...
Чтобы завести мотор по утрам в начавшиеся морозы, нужно было проделать довольно сложную процедуру: налить бензину (из специально для этого случая ограниченного запаса) в контрольные краники и в карбюратор, снять провода, облить спиртом мотор, зажечь его спичкой и караулить, пока голубое пламя лижет холодные стенки цилиндров, в то же время, ваш помощник несет кипяток из избы, чтобы залить его в радиатор, после чего он же убирает жаровню с горячими углями из-под картэра, иначе было бы невозможно, из-за загустевшего масла, даже повернуть мотор за заводную ручку (у нас не было самопусков).
Тыл отступавшей армии прикрывался бригадой полковников Степанова и Захарова, но иногда красные партизаны налетали с боков и угоняли мало защищенные обозы и отдельных станичников.
При внезапном налете на деревню, в нескольких верстах от главной дороги, где ночевало 8 наших автомобилей, красные не смогли завести холодные моторы. Они прострелили чугунные блоки моторов и перерезали все шины у 7 машин. Восьмая спаслась только потому, что, привезя тифозных штабных рано утром, легко завелась, благодаря все еще теплому мотору. Этот французский дорогой семиместный лимузин мы называли "гостиница Пэжо", потому что состав его пассажиров постоянно менялся.
Прикомандированный к моей команде начальник корпусной службы связи вдруг "исчез" и с ним укатили на сторону красных двенадцать его мотоциклетчиков.
Узнав о такой двойной потере, один умник из Оперативного отделения штаба, как бы вскользь, заметил, что за эти "оплошности" начальника автокоманды (т. е. меня) нужно отдать под военно-полевой суд. Не получив поддержки от других и, усевшись на складной скамеечке в "гостинице Пежо", умник больше вопроса о моем наказании не поднимал.
Штаб армии передвигался на двух трехтонных грузовиках со скамейками вдоль бортов их платформы. На одном ехал начальник штаба армии генерал-майор Зайцев с женой и адъютантом и несколько офицеров, ускоренного выпуска Академии генерального штаба г. Томска.
Генерала Зайцева адмирал Колчак назначил главой миссии с подарками хивинскому хану, которого надо было привлечь на сторону Сибирского правительства. Эти подарки – особой ценности, кавказскую шашку и мешки с серебром везли под охраной бородатых урядников на другом грузовике.
Стояли осенние холода с утренними заморозками, кругом была унылая степь, но дорога была твердая, хорошо утрамбованная, грузовики без пневматических шин, катили бодро, без нудных остановок для смены шин, делая в среднем 200-250 верст в день.
Недалеко от Сергиополя навстречу нам подкатил двухместный открытый автомобиль. За рулем сидел сам атаман Анненков, в своей чистой, своеобразной, колоритной (немного бутафорской) форме. На папахе его спутника мы прочли: "С нами Бог и Атаман".
Генерал Зайцев подошел к атаману, который даже не вылез из-за руля.
Разговор между ними был чрезвычайно короток.
Очевидно, атаман был уже хорошо осведомлен о той массе измученных, больных и выздоравливающих воинов, из которых состояла теперь Оренбургская армия.
Он быстро увел свои части в Копал. Дутов со своим отрядом особого назначения (личный конвой) отправился поспешно в Лепсинг, а мы влились в корпус генерала Бакича, который уже вел переговоры с китайцами об интернировании девяти тысяч своих солдат в Чугучак...
Хотя кругом свирепствовал тиф, я им пока не заболел. Как острили штабные было два чемпиона, устоявших против тифа: генерал Бакич, потому что русская вошь не кусала иностранцев, (Бакич был серб) и начальник автомобильной команды, который "заспиртовался", благодаря постоянной близости с бочками со спиртом.