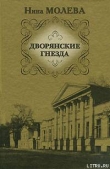Текст книги "Дворянские поросята"
Автор книги: Сергей Хитун
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
– Пусти! – Один пытался вырваться от другого, уцепившегося за хвост его косоворотки, чтобы бежать "на буксире"...
– Кто хочет мою сдобную булочку за кубик масла?
– Я дам тебе мою кашу.
– Ноги мерзнут!
– Ничего, согреешь их около спальни Пэдро. Младшие сменяли свой бег: то прямо, то боком, подпрыгивая над сугробом около тротуара, с визгом и смехом взбивая ногами снежную пыль. Старшие бежали ровно, с прижатыми к телу локтями, обмениваясь краткими словами между собой или строгими, "берегись, мелюзга, а то раздавим", к веселящимся младшим,
У высокой, железной решетки, за которой был виден замерзший бассейн с фонтаном и покрытые снегом цветочные клумбы, один из старших, оглянувшись назад на далеко отставшего пыхтящего воспитателя, скомандовал:
– Дай ногу!
Кирпичи тротуара загремели под пятидесятые топающими в ритм ногами.
– Проснись... толстый Пэдро... может быть он отменит этот глупый пробег?
– Он рассердится и отменит наш субботний отпуск !
– Нет, мы это делаем давно... упрямый, потомок гетмана... притворяется, что он не слышит.
Чтобы дать отдохнуть своим теперь уже согревшимся ступням, молодые "бунтовщики" дворяне бегут спокойно до следующего двухэтажного корпуса.
– Салют воспитателям! – И опять трескучий топот подошв о тротуар откликнулся эхом из музыкального павильона в парке и вспугнул галок впереди. Миновав квартиры для воспитателей, воспитанники вбежали в свой двор.
– Попросим дядьку нас впустить... иногда булочки меньше, чем у других... можно... если прибежишь раньше в столовую, переменить, – толстячок соблазнял другого. Они остановились у наполовину застекленной задней двери Пансиона.
– Игнат, впустите нас! – За стеклом высокий широкоплечий мужчина с закрученными кверху рыжими усами затряс отрицательно головой:
– Приказ – есть приказ! Дирехтур казав – бежать два раза.
– Но мы голодны и замерзли, – просились ребята.
– Холодно, это правда, холодно, – в карих глазах Игната было поддельное сочувствие. – Но если вы побежите... побежите швитко, то будэ тепло, бегите за другими, – он указал на поток бегущих второй круг. – А если вы опознеете, то хлопцы за вашим столом скажуть, що вы в отпуску да съедять вашу порцию.
Ребята-просители оторвались от двери и ринулись, сверкая пятками, за другими. Столовая, с большими, почти во всю стену окнами, была открыта. Без всякого следа недавнего сна на их лицах, с оживленными глазами, бодро и весело перекликающиеся пансионеры заняли свои места за четырьмя столами. Служители-дядьки начали подавать пищу на столы.
Было что-то в этих коротко остриженных, круглых головах, склонившихся рядами над горячей овсянкой, что-то в их упитанных подвижных фигурах в белом, что-то в доминирующем розовом цвете их лиц и ушей, что побудило горожан города Чернигова назвать (и не без зависти) пансионеров – "Дворянские поросята".
ЗАПЯТАЯ
"889-й год – Призвание Варягов, 980-й, Крещение Руси; 1242-й – битва с татарами на реке Калке. Восемьсот восемьдесят девять... девятьсот восемьдесят... тысяча двести сорок два". Богомолец перестал шептать; он отвел глаза от учебника и глядя на ближайшую стену, шевелил губами, пытаясь запомнить исторические даты.
Он был одним из 12-ти воспитанников в классной комнате, Первого Отделения Черниговского Дворянского Пансиона. Разговоров не было. Слышен был только, как журчание родника, заглушенный хор молодых голосов, приготовлявших заданные на завтра уроки. Коротко остриженные головы, склоненные над черными отдельными столиками, были ярко освещены электрическими лампочками за зелеными абажурами.
"В 889-м году... варяги пришли править Россией, начал снова Богомолец. Помолчав, он перевел глаза на соседний столик, на котором Дерюгин сортировал свою коллекцию пишущих перьев. Легким ударом пера-битка он пытался перевернуть на спинку другое перо. Перо подпрыгивало, но упрямо ложилось, на ребро.
– Почему ты не ударишь его... так? – Богомолец сделал скользящий горизонтальный жест. – Это же Наполеон, его очень трудно опрокинуть. У меня было оно, но я выменял его у Зубка на яйцо снегиря.., У тебя есть другое?
– А. что ты мне дашь за него? – спросил Дерюгин не отнимая глаз от пера.
– Яйцо грача, – сказал, подумав, Богомолец. – У меня есть их два.
– А оно с трещиной?
– Нет, я проколол большую дырку, выдувая, но оно не треснуло. – Была некоторая пауза.
– Наполеон – перо редкое, – Дерюгин пытался удорожить ценность своего товара.
– А мне было тоже не легко взлезать на сосны в Святошине. Ветки ломались, грачи нападали... клевали. Спускаясь, я напоролся на сук головой в фуражке... А в ней раздавил половину выдранных из гнезд яиц.
– Даю Наполеона за твое обеденное сладкое.
– Не мороженное! Отдам тебе мой мясной пирог.. – Послышались чьи-то шаги. Дерюгин смахнул перья в ящик своего столика и открыл задачник. "В 889-м году три брата – Рюрик, Синеус и Трувер – пришли княжить", – начал Богомолец.
Служитель, дядька Игнат прошел в спальню с корзиной чистого белья. Шепча свои условия, Дерюгин и Богомолец возобновили предполагавшийся обмен. Их шопот влился в широкую волну смешанных звуков:
приглушенное бормотание запоминаемых цифр и фактов, шелест переворачиваемых страниц, звон стекла чернильниц, вздохи и зевки – все что создает звуковую атмосферу прилежной классной комнаты десяти-двенадцатилетних учеников.
Игнат вышел из спальни, выпугнув оттуда что-то жующих двух братьев Зоравко-Гокорских. Они не успели насладиться вдоволь вареньем, начатую банку которого, как и всякую пищу из дому, Игнат нес для обязательной сдачи эконому Пансиона. Оба брата – один гимназист, другой реалист, были сыновья бывшего морского атташе в Токио, поселившегося после Японской войны в своем имении в Черниговской губернии. Братья жили в Японии до 10 лет. От них мы научились некоторым японским словам и обычаям. Мы крепко запомнили вежливую манеру японцев приседать и низко кланяться приветствуя друг друга потому, что мы часто применяли этот обычай к братьям Зоравко для их "розыгрыша".
Взяв братьев в круг хоровода, "разыгрывающие" приседали, низко кланялись перед ними и с склоненной на бок головой, скошенными кверху глазами самыми нежными, заботливыми, сочувственными голосами гнусавили:
– Гокорчики-сан, Гокорячеки-сан, Гокорсики-сан, животики болят (хватаясь за животы), касторочки хотят. Одуматься пора вам и отдать все ваши коржики нам.
Близнецы-сластоежки Гокорские – были регулярными посетителями Пансионской больницы из-за частого расстройства желудков. Добродушные, дружественные, братья без всякой обиды на надоедливую шутку улыбались, доверчиво обсуждали свои недомогания и всегда приглашали всех на следующий дележ свежеприсланных из дому коржиков, сала, фруктов и варенья.
– Эй, Рыжак! Проверь мои ответы, – Стеценко положил географическую карту на столик рыжеволосого соседа.
– Что проверять? – спросил широкоплечий Рыжак, сонно глядя на карту.
– Спроси меня указать на этой немой карте губернские города и главные реки России, а сам проверяй мои ответы на этой другой карте с именами.
Рыжак, мигая белесыми ресницами, обдумывал задание.
– Хорошо, но за каждую ошибку получишь запятую.
– Ладно, – согласился Стеценко. – А за каждый мой правильный ответ я ковырну тебя дважды. – Он уселся так, чтобы видеть обе карты.
– Город Тула, – начал Рыжак, плотно покрывая ладонью местоположение города на именной карте.
– Тула... Тула, – повторил Стеценко. – Это н-е-т-руд-н-о... В Т-уу-ле делают самова-ары... да-а. – Его указательный палец с грязным ногтем медленно двигался в центре карты. – Вот он ! – Он указал на маленький кружочек и тотчас же ойкнул. Большой палец Рыжака жестко и больно крутнул знак запятой на короткоострыженном темени Стеценко.
– Стецка, ты показал Орел вместо Тулы, – объявил Рыжак с заблестевшими глазами.
– О, да, да. Это Орел, конечно – город с конными заводами чистокровных рысаков... Они оба эти города так близко один от другого... легко спутать. Стеценко легонько чесал место наказанное за промах.
Глаза Рыжака бегали по всей карте. Сначала они прочесывали южную часть России. Он нашел там что-то привлекшее его внимание. Наклонив лицо совсем близко к карте, он шевелил губами.
– Ну, какой следующий город? – подгонял нетерпеливый Стецка. Его глаза внимательно следили за движениями глаз экзаменатора. Рыжак ответил не сразу. Теперь его глаза уставились в какую-то точку в северной части страны.
– Город Перекоп, – задал он, отвалившись на спинку стула с какой-то торжествующей искрой в своих глазах.
– О, Перекоп. Это в Крыму, я знаю... один момент... од-нуу секунду... и я покаж-жу тебе П-е-р-е-коп. – растянул Стеценко, водя пальцем по карте.
Контур северной части Крымского полуострова выглядит как мелкие зубья острой пилы, так что маленький кружочек обозначающий город Перекоп, в нем почти невидим.
– Это Феодосия... это Севастополь... немного севернее должен быть Пе-ре-коп, – трудился Стеценко, часто мигая карими глазами, не то от напряжения от близости их к карте, не то от беспомощности в своих поисках.
– Сдае-сси? – хихикал Рыжак и выставил вперед свой большой палец с обгрызанным ногтем.
– Нет, нет, погоди, – протестовал Стеценко. Он закрыл темя пятерней левой руки в то время, как его глаза не отрывались от карты.
– Ты ищи, а я пока сбегаю посмотреть сколько минут осталось до звонка к вечернему чаю. Рыжак прошмыгнул мимо кабинета воспитателя Божко (он же Царь Берендей, он же, с придыханием, П-п-е-рендей).
На верхней площадке лестницы у часов два смельчака из Второго Отделения, спрятавшись за выступом стены уперлись глазами в часы, чтобы не пропустить и секунды после звонка и ринуться в столовую, где первый прибывший имел право заменить свои малоподжаренные сдобные булочки на более румяные у соседа или сменить свой кубик сливочного масла на кажущийся больше, у него же. Они стояли там без риска быть наказанными за несвоевременную отлучку из классной комнаты потому, что их воспитатель барон фон дер Дригген был всецело занят репетированием неуспевавшего Стегайло по арифметике.
– Если один поезд идет навстречу другому... то когда они встретятся? доносился зычный бас барона. Не было слышно, что ответил угрюмый реалист.
– Ну, ну, – понукал барон. – Как же так? А другой поезд ведь тоже в движении... думайте прежде, чем ответить.
...Пауза в течение которой Стегайло думал и отвечал. Затем снова возглас почти равный по раскатистости голосу полковника принимавшего парад на площади:
ф-фу-ты! Да откуда Вы взяли этот ответ? Разве что разделили номер страницы на номер задачи?
Раздался звонок к вечернему чаю. Рыжак не вернулся в классную комнату. Вместе с съехавшими вниз верхом на перилах, грохоча подошвами и каблуками по ступеням лестницы, он помчался в столовую.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Парадная дверь гулко хлопнула закрывшись за вбежавшим в Пансионский вестибюль Суковым.
– Губернатора убили!.. Я только что видел, как его... – Он тяжело дышал и вытирал пот с лица. – Только что... на Широкой бросили бомбу в карету... Все разлетелось в куски... – Он глотнул воздуха. – Куски его тела, кареты, кучера. – Его носовой платок трясся в руке вытиравшей пот с лица. Опешенный, швейцар Марко только хлопал глазами.
– Кто, к-кто бросил бомбу? П-поймали ли его? – Заикался от волнения выбежавший из своей комнаты эконом.
– Я не знаю... Охрана Губернатора стреляла в кого-то. Я убежал. – Он вздохнул глубоко, – и бежал без остановки досюда. – Он сделал пару шагов в сторону, потом повернулся и теми же шагами, вернулся на старое место. Его расширенные глаза, уставившиеся на эконома и швейцара, по-видимому, все еще видели куски тела Губернатора, кареты и кучера.
– Доложить!.. Немедленно доложить Директору Пансиона ! Марко, доложите Петру Яковлевичу... я хочу его известить о кровавом событии... доложите! летели под напором слова эконома.
– Мигом, не сумлевайтесь, – мигом отозвался шустрый Марко, помчавшись на полусогнутых, скользящих по паркету, ногах к директорской квартире в то время, как дрожащий голос Сукова уже оповещал свое старшее 4-е Отделение:
– Господа, экспроприаторы только что убили Хвостова... Да, да... Губернатора... сам видел.
На следующий день гимназия была закрыта. Младшие пансионеры играли во дворе. Ворота на улицу были на замке. Ряд деревянных ларьков через площадь, в которых продавались носильные кресты, иконки, изображения святых угодников и просфор были закрыты. Улица была пустой. Не было видно даже ежедневных богомольцев на тротуаре у Собора.
– Казаки! – кто-то крикнул из окна. Воспитанники бросили игру и помчались к забору.
Казачья сотня пересекала пустынную площадь. Всадники в папахах и черных черкесках с желтыми погонами, побрякивая шашками и стременами, с кинжалами у пояса и винтовками за плечами, по три в ряд, ехали молча. Рыжебородый, с суровым скуластым лицом офицер с серебряными погонами есаула на плечах его малиновой черкески, вел сотню на вороном подтанцевывавшем на тонких ногах скакуне. Повисшие на заборе ребята заговорили сразу:
– Кого они ищут?
– Убийц, бунтовщиков, разбойников, разве ты не знаешь? Вожак шайки, Савитский, все еще не пойман.
– Смотри, все лошади вороные!
– А их шашки и кинжалы – острые?
– Глупый, конечно. Казак может разрубить плечо врага до самого седла.
– Смотри на того позади офицера, с трубой. У него усы до ушей.
– Ты видел, у офицера шашка и кинжал в серебре. Это что, за храбрость?
– Нет, у всех казачьих офицеров они посеребренные, – сказал бледнолицый с узким подбородком гимназист. – Я знаю. У нас в имении стояли казаки две недели после того, как разбойники убили моего папу.
Сразу же казаки были забыты. Все окружили худенького пансионера потерявшего отца.
– Как они его убили? Кто убивал?
– Да, да, расскажи Лублянский.
– Почему они его убили?
– Они убили его выстрелом из ружья, а потом сожгли его. – Лублянский закусил губу и замигал глазами, но они были сухи.
– Расскажи сначала... Ну!
– Однажды вечером в передней раздался звонок, – начал Лублянский. – Я открыл дверь. Какой-то мужчина в башлыке сунул мне в руку письмо и убежал. Папа прочел его и ничего не сказал. С тех пор наш кучер стал закрывать все ставни нашего дома на болты снаружи. – Маленький рассказчик перевел дыхание, это походило на вздох. – Но они явились неожиданно днем... четверо... на лошадях. Они выстрелили в папу через окно, но промахнулись...
– А он... он стрелял в них?
– О да!.. Он их не испугался.
– А ты, ты ему помогал? Ты стрелять умеешь? Я умею.
– Я хотел, но папа заставил маму, прислугу и меня лечь на пол у кафельной печки... и не двигаться. – Он заглотнул воздуха и помолчал.
– Ну, что потом?..
– Говори дальше. Убил ли он хоть одного из них?
– Четверо... на одного... трусливые шакалы!
– – Папа разбил топориком стекло окна и в отверстие стрелял в разбойников. Он перебегал из одной комнаты в другую, не переставая стрелять и ранил одного из них.
– И они убежали?
– Нет, только перестали стрелять. Папа смог перезарядить ружье. Я подполз к окну. Раненый с кровавыми пятнами сквозь повязку на лбу сидел спиной к стенке амбара и продолжал стрелять по нашим окнам. Папа мог бы легко его убить, но начался пожар. Один из нападавших поливал чем-то из банки углы нашего дома, а другой горящим мешком зажигал политое. Я побежал сказать папе, но он лежал поперек кровати – мертвый. Мама, наша прислуга и я выбежали во двор.
– А разбойники стреляли в вас?
– Нет, они уже удрали. Потом прибежали крестьяне из деревни, но дом уже сгорел. В пожарище нашли только столько папиного тела. – Руки Лублянского были на расстоянии фута одна от другой, когда он показал сколько осталось от сожженного тела его отца.
Пансионеры обступили рассказчика теснее. Каждый хотел видеть размер останков владельца сгоревшего дома.
– А,.. это... стало черным? – Один из слушателей пытался точнее представить себе то, что было найдено в пожарище.
– Да, черным, – охотно согласился Лублянский.
– Почему они?.. Мстили... или что?
– Я не знаю. Может быть кто-то из них ненавидел судью-папу пославшего его на каторгу.
– Они революционеры, против всех чиновников, – сказал голубоглазый, больше других ростом, Пригара.
Некоторое время они все стояли молча, глядя на Лублянского, друг на друга, вокруг двора, на футбольное поле, переступая с ноги на йогу, устав от разговоров про таинственных людей, которые преследуют их отцов. Они сразу ожили когда большеротый Тарновский внезапно крикнул:
– Тот, кто последним к шестам – колдун! Ребята ринулись через футбольное поле к гимнастическим столбам. Бег был напряженный, быстрый и шумный. Рты у всех были широко открыты, точно это состязание включало в себе и соревнование в крике. Коротконогий толстяк Коломиец все еще бежал в конце поля в то время как другие, взобравшись по шестам, лестницам, мачтам, кольцам, уже сидели верхом на верхнем, поперечном бревне-брусе гимнастической стройки. Сидя там немного боком, с одной ногой чуть продвинутой вперед, они дразнили хором блеющими голосами:
– Колдун Коломи-е-е-ец, запятнай нас Коломи-е-е-ец!
Краснолицый пыхтящий Колдун поднялся кверху по вертикальной лестнице и тоже оседлал верхний брус. Упираясь в него руками, он продвигался скользящими движениями за дразнящими его более юркими сверстниками.
После того, как Коломиец перенес свое туловище через торчащие болты с подвешенными гимнастическими кольцами, он стал продвигаться быстрее, но молодые акробаты быстро спустились на землю по трем шестам. Коломиец сразу же последовал за ними.
Пока он стоял обдувая свои опаленные от быстрого спуска по шесту ладони, дразнящие его мальчики были снова на верхнем брусе. Подстегнутый раздражением, Коломиец вдруг проявил быстроту, догнал и запятнал Зоравко, штаны которого зацепились за торчащий болт вверху.
– Зоравко – Колдун! Колду-у-ун! – победоносно кричал, торопясь вниз по мачте, Коломиец.
От корпусных зданий полубегом торопился к играющим низкорослый дядька Ларион. Задрав голову кверху, он объявил:
– Директурша, госпожа Дорошенко, просит вас всех сейчас же слезть с верхушки. Сохрани Бог ежели который из вас оборвется... Это же-ж, – он слегка развел руки в стороны, – почитай две сажени... – В одном из окон квартиры Директора, между занавесок, была видна крупная женская фигура в сером.
– Мы всегда здесь играем.
– Вчера Петр Яковлевич видел нас здесь наверху, и сказал: "только осторожно".
– Мы не упадем! Проснись Зоравко, ты же Колдун! – Сразу, все вместе, зашумели ребята. Ларион пожевал губами.
– Вправду, Пиотр Яковлич видел вас там наверху?
– Да-а-а-а! – Раздался разноголосый хор, не останавливавших своей игры пансионеров. Некоторое время Ларион стоял с полуоткрытым ртом, наблюдая ход и молодых участников увлекательной игры, их смелые, уверенные полу-полеты с легкими, без натуги, но цепкими захватами рук.
– Бесхвостые облизьяны, – с улыбкой проговорил Ларион, качая лысой головой, отправляясь назад к окну директорши. Она выслушала его доклад и довольно громко захлопнула окно. Занавески сошлись ближе, но щель для наблюдения осталась.
– Что она сует свой нос в наши игры?
– Мы слушаемся только мужчин!
– Зачем она смотрит, если это ее беспокоит? – Перебрасывались отзывами о директорше гимназисты. Игра приобрела больше азарта и смелости.
– А вот я отобью у нее охоту наблюдать за нами. Покажу такое, отчего она от беспокойства просто заболеет, – объявил Шрамченко. Он обхватил крепко верхний брус ногами и повис вниз головой с синеющим лицом и болтающимися руками.
Ребята визжали от восторга, наблюдая трюк Шрамченко и дождь мелких вещей сыпавшихся из его карманов. Серый силуэт директорши все еще был за колеблющимися занавесками.
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ
– И не надейтесь избежать наказания, как в прошлый раз ! – С зажженной папиросой во рту, Лаголин быстро шагал взад и вперед по комнате.
Проценко медленными и ленивыми движениями оправлял свою белую парусиновую косоворотку. Расправив материю, он стянул все складки спереди назад, а образовавшийся хвост прижал лакированным кушаком, пряжку которого вывел на средину живота. Потом опустил руки и стоял молча. Его серые с светлыми ресницами глаза не выражали ничего.
– Зачем Вы это сделали? – воспитатель внезапно повернулся к воспитаннику. Табачный дым, вытесненный напором слов, обвеял его скудную черную бороду. Постыдный и злой поступок... осрамить девушку, которой пришлось идти мимо здания Пансиона, – Лаголин шагал курил и тряс головой.
– Почему Вы сделали это? – он спросил снова, остановившись посреди комнаты.
– Мне надо было вытрясти и выветрить мои штаны, – промямлил Проценко.
– Так зачем же Вам было необходимо трясти Ваши штаны из каждого окна 3-го Отделения, а потом, перебежав в Главный зал, сигнализировать ими там из каждого окна... – расширенные глаза воспитателя уставились в лицо воспитанника, – и мало того, Вы продолжали Ваше мерзкое дело из всех окон младшего отделения. И это вдоль всего корпусного здания Пансиона и на протяжение пути проходившей бедной, сконфуженной гимназистки. Стыдно, Проценко, стыдно ! – добавил Лаголин, немного смягченным тоном голоса. – В особенности это непростительно дворянину. – Он покачал головой и сузил свои темные, немного на выкате, отображавшие горечь, глаза.
Проценко перевел свои глаза от окна на угол комнаты, потом на жилетку воспитателя на которой вибрировала золотая часовая цепочка, точно отбивавшая пульс ее владельца.
– Я Вас спрашиваю в последний раз: что надоумило Вас на... – Лаголин не кончил...
– Она задается! – внезапно буркнул упрямый юнец.
– Что-о? Откуда Вы это взяли? – опешенный неожиданным признанием, воспитатель даже немного вздрогнул.
– Старшие ученики говорят...
Лаголин поднял плечи. Лицо его перекосилось, точно от какой-то внутренней боли – такова была агония недоумения. Он вздохнул, круто повернулся к окну, глубоко затянулся папиросным дымом и стоял постукивая подошвой ботинка о паркет пола. Оба молчали глядя в окно. С другой стороны площади,, по узкой тропинке приближался какой-то круглый предмет. По мере его приближения, Проценко заметил пару тонких ног несущих охапку темной одежды, а затем стала видна маленькая голова несущего. Проценко знал, что это сын портного Юдашкина, несет костюмы пансионерам на примерку.
На дороге пересекающей тропинку, извозчик остановил лошадь и скручивал свое курево.
"На что наткнется сын портного – на бричку или на лошадь?" – гадал Проценко, пристально следя за немного качающимся от объемистого груза молодым Юдашкиным.
Извозчик закурил, поднял вожжи и тронул лошадь. Юдашкин благополучно перешел дорогу и теперь ясно были видны его глаза – изюмины среди кучи перепутавшихся рукавов рубашек и штанин.
Проценко, потеряв интерес к тому, что делается за окном, смотрел на Лаголина. А тот, почувствовал его глаз на себе, повернулся к ученику с улыбкой на успокоившемся лице.
– Не думаете ли Вы о том, что гораздо лучше доставить удовольствие и даже радость другим своим хорошим поведением, нежели доставлять им неприятности злыми, непристойными выходками? – его голос звучал ровно, мягко и убедительно. Он сел на диван, закрутил свои длинные тощие ноги одну за другую так круто, что Проценко с трудом определил, которая нога где. – Вам 14 лет, скоро Вы вступите в самостоятельную и ответственную перед другими жизнь, – продолжал воспитатель. – Учитесь контролировать себя в стремлении быть справедливым, правдивым в словах и честным, продуктивным в поступках. Тогда Вы почувствуете самоудовлетворенность, свое счастье и красоту жизни, – темные глаза Лаголина засияли, дымящаяся, докуренная до ее почерневшего картонного мундштука, папироса в его правой руке, описывала небольшие круги по воздуху, в то время, как его левая нервно перебирала часовую цепочку на жилете. Он встал и зашагал по комнате. – Готовьте Ваши мысли к будущим великим делам и достижениям. Дворяне возлагают все свои надежды на их собственное возрождение и омоложение в вашем поколении, – его синеватые губы сложились в трубочку, втягивая дым папиросы. Костистое лицо с втянутыми щеками и круглыми блестящими черным глазами походило на лицо голодающего индуса.
"Что за обормот! – подумал Проценко, – по чему он не позаботится о своих "великих делах". Его волосы просят гребня, плечи засеяны перхотью, штаны мешковатые разбухли на коленях, от него несет водкой... жена мало бьет его ночной туфлей, метлой", – поправил себя Проценко и улыбнулся. Его улыбка еще более вдохновила воспитателя рисовать будущую дорогу славы и радости жизни своему воспитаннику.
– Вы можете идти теперь. Но помните, что Вы все-таки будете наказаны. Я еще подумаю о степени наказания, – окончил Лаголин, слегка смягченный после высказанных нравоучений.
– Кто Вас видел... когда... Вы делали... это, – воспитательские пальцы как бы солили воздух пока он подбирал подходящие для случая слова, – этот грязный салют?
– Щегол.
– Кто это щегол? – поднял брови Лаголин.
– Николай Евфимович, – пояснил Проценко.
– Почему Вы зовете Надзирателя птичьим именем? – спросил сухо воспитатель.
– Вся гимназия зовет его так.
– Идите! Лаголин махнул рукой на выход, с поджатыми губами и помрачневшим лицом.
Проценко твердо знал, что ему не будет наказания. Добродушный, сентиментальный, восторженный воспитатель 3-го Отделения, Виктор Петрович Лаголин – Кандидат Юридических Наук, был слишком дружественным в отношениях к своим воспитанникам, чтобы их наказывать. Настолько дружественным, что воспитанники делились с ним всеми своими любовными проблемами. Это делалось с такими подробностями и откровенностью, что эмоциональный Лаголин влюблялся по очереди во всех гимназисток, победы над которыми горделиво обсуждались вместе со стратегией для будущих успехов. За его скорее женственные черты характера и лирические теноровые разговорные нотки, воспитанники звали его заглазно "Машкой".
Выйдя из кабинета воспитателя, Проценко очутился в Главном рекреационном зале, где воспитанники 1-го и 2-го отделения играли в пятнашки; они со смехом и вскриками гонялись, шлепали, тащили друг друга за хвосты парусиновых рубах, в азарте пренебрегая какими бы то ни было правилами игры. Многие падали от полученных подножек, но быстро, без жалоб поднимались и пытались сшибить на паркет того, кто сшиб их. Другие, не участвовали в играх или схватках, разогнавшись скользили на подошвах ботинок по глянцевитому паркету во всех направлениях зала.
Отшлепанные и усталые спасались в "доме", касаясь рукой одной из двух кафельных печей в двух концах зала. Малец толстяк с оттопыренными ушами пытался подбить сухощавого черноглазого сверстника, одна рука которого держалась за край подоконника, а другая вцепилась в рукав нападавшего. Закрутив оба кулака в парусинку противника, толстяк тряс его до тех пор, пока тот начал терять равновесие. Тогда быстрым скользящим движением ноги по паркету подсек его ноги и тот повалился на пол. Не отпуская своих кулаков, зажатых в материю косоворотки, толстяк помог подняться упавшему только для того, чтобы, тем же приемом сшибить его вторично. Проценко подошел и наблюдал за борющимися. Когда более слабый шлепнулся в третий раз, толстяк ойкнул... Проценко больно крутанул своим большим пальцем об его гладко остриженную голову. Борцы разошлись.
– За что ты дал мне запятую? – толстяк чесал свое темя, – мы просто играем.
– Ты бычок, Шаповал. играй да не переигрывай! Смотри, Лашкевич уже побледнел, – предостерег Проценко.
– Нет, я не бледный, – протестовал запыхавшийся Лашкевич, – собирая с полу оторванные никелевые пуговицы, – я его... тоже... подшиб... раз.
– Не смей спорить с дядькой (старшим, авторитетом – по самими установленном лексиконе пансионеров), буркнул Проценко. – Шаповал, отвези меня в клозет.
Шаповаленко послушно подставил свою спину.
– А ты, Лашкевич, – продолжал диктовать Проценко, – принеси мне твоих коржиков. Я ведь спас тебя, – и не дожидаясь ответа, отправился на спине Шаповаленко через весь зал в коридор. Уборная была занята, поэтому всадник приказал своей "лошадке", отвезти его в уборную 2-го Отделения, но внезапно слез на пол...
Ниже среднего роста, худой, с военной выправкой, орлиными глазами и таким же носом над его коротко подстриженными усами и бородой, воспитатель 2-го Отделения, барон фон дер Дригген, быстро поднимался по лестнице. Не дойдя до верха, на площадке под часами, он встретился с французом, пансионским инструктором фехтования. Они обменивались оживленными французскими словами о чем-то очевидно курьезном, потому что барон, отбросив от своего "аршин-прогло-тившего" туловища руки назад, вдруг захохотал. Его верхнее "гы" прокатилось гаммой до нижнего "гы" и гулко отдавалось в высоких потолках Пансиона.
– Если баран видел меня на твоем горбу, скажи... ты сам попросил меня... шоб испробовать свою силу, – прошептал Проценко в ухо Шаповаленко, а сам смешался с группой пансионеров, скучившихся в малом рекреационном зале 2-го Отделения, для примерки их зимних брюк и косовороток.
С сантиметром на шее, с булавками зажатыми толстыми губами и с серым мелком в руке, сизоносый, рыжебородый портной Юдашкин вел примерку.
– Юдашкин, пожалуйста сделайте пошире. Мне тесно в плечах, – просил Карпенко. – И воротник жмет. – Он выпятил грудь и, закинув голову назад, раздул шею. Он был весь поглощен французской борьбой. Бычьи шеи, могучие плечи, громадные бицепсы гиревиков и борцов местного цирка, были идеалами мужского телосложения для Карпенко. Несмотря на некоторую физическую недоразвитость своего 13-ти летнего тела, он ходил медленно, немного вразвалку, ("все борцы так ходят"), держал чуть отведенные в стороны руки так, как бы страдая от чирей под мышками ("большие бицепсы") и всегда носил косоворотку с двумя пуговицами на вороте расстегнутыми ("шея велика").
– Да, да, сделаю, – бормотал портной углом рта, несмотря на то, что его два пальца свободно проходили между "тесным" воротом и "могучей" шеей просящего.
– Юдашкин, пожалуйста сделайте так, чтобы рукава моей суконной рубахи не были похожи на рукава женской кофты, – беспокоился франтоватый Гамалея, носитель собственной купленной в Киеве формы.
– Да, да, сделаем, – покорно вторил Юдашкин, меряя, закалывая, отмечая мелом, по-еврейски диктуя своему сыну Лейбе цифры размеров...
Бледный Лейба с глазами как черные оливки, наблюдал за работой своих младших братьев Исаака и Давида, которые прикалывали к одежде булавками бумажки с именами их будущих носителей.
– Гаспадин Прецелько, по-жа-алуйста не перепутайте билетики, – просил Исаак Проценко.
Проценко помигал глазами и, оставив кучу штанин, засунул руки в карманы. Он шмыгнул носом, пожевал губами, точно хотел сказать что-то, но стоял тут же молча. Вдруг, как будто какая-то новая мысль взбудоражила его. Он снова шагнул к новой одежде, поднял косоворотку и поднес ее к своему носу.