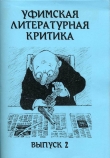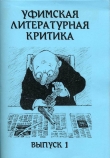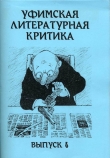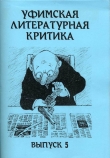Текст книги "Сборник критических статей Сергея Белякова"
Автор книги: Сергей Беляков
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
Узнал ли себя Катаев в герое “Двенадцати стульев”? Не возьму на себя смелость утверждать что-либо определенное. В истории литературы всякое случалось. Ильф и Петров не писали портрет или биографию Катаева. Они увидели в нем подходящий для сюжета психологический тип и поместили его в предложенные мэтром Катаевым обстоятельства. Я должен сделать еще одну оговорку. Я не знаю, каким был Валентин Петрович Катаев в частной жизни – наедине с собой, в семье. Катаев никогда не был отшельником. Он был, как теперь принято говорить, публичным человеком. Все мои фантазии – вокруг того образа Валентина Катаева, который он сам создал в своих книгах, а еще раньше – в глазах окружающих, и потом поддерживал.
Свою склонность к авантюрам Катаев никогда не отрицал, скорее подчеркивал, очевидно, она казалась ему привлекательной. Напомню известную по “Алмазному венцу” и мемуарной литературе историю похищения возлюбленной Юрия Олеши, в которой Катаев сыграл роль покровителя влюбленных. “Так как ключик по своей природе был человек воспитанный, не склонный к авантюрам, то похищение дружочка я взял на себя как наиболее отчаянный из всей нашей компании”. Заметьте! Это не я придумал, это сам Катаев назвал себя “склонным к авантюрам” и “самым отчаянным”. Для меня важно, что авантюрную роль Катаева в этой истории не подвергает сомнению Э. Герштейн (Герштейн Э. Мемуары. М., “Захаров”, 2002), мемуаристка строгая, добросовестная, к фантазиям не склонная. Катаев, несомненно, любил ситуации авантюрного характера. Напомню еще одну, не вдаваясь в детали истории, хорошо известной по “Алмазному венцу”. “Терять мне в ту незабвенную пору было нечего <…> я не стеснялся в выражениях, иногда пускал в ход матросский черноморский фольклор, хотя в глубине души, как все нахалы, ужасно трусил, ожидая, что сейчас разразится нечто ужасное и меня с позором вышвырнут из кабинета”. Вот он, авантюрный тип поведения: неизбежность разоблачения не лишает героя наступательной энергии, а усиливает ее. Этот тип поведения для Остапа Бендера станет определяющим. “Остап скользнул взглядом по шеренгам „черных”, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу”. “Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно”.
И напоследок я оставил самый сильный аргумент, самый важный литературный факт, сохранившийся в моей памяти. Мой самый веский аргумент – это автобиографический рассказ Катаева “Зимой”, написанный в 1923 году. Он любопытен во многих отношениях. Но сейчас я хочу напомнить только один эпизод.
“– Слышите, как звучит оркестр? Вы не находите, что медь плачет о погибшей молодости и счастье? (Это говорю я.)
– Вы так думаете? – важно и строго отвечает он (издатель. – С. Б.). – Молодой человек, заметьте себе, что медь никогда не плачет. Медь торжествует <…>
– Торжествует? Возможно. – И в упор: – Дайте двадцать, я не обедал. <…>
Он ласково:
– Десять.
Я твердо:
– Двадцать <…>
У него последняя надежда:
– Десять, у меня крупные.
– Разменяйте. Двадцать.
Он разводит пухлыми ручками:
– Негде.
Я оживаю:
– Глупости. Мальчик! Коробку лучших папирос. Сдачу с пятидесяти. Тридцать – господину, остальные мне <…> И коробку спичек. Мерси. (Это издателю.) <…> Так вы уверяете, что медь торжествует? Правильно. Она торжествует. Я с вами согласен.
Он грустно:
– Пожалуй, вы правы: она плачет.
– Как угодно <…> До свидания…”
Это написано почти за пять лет до того, как Остап Бендер скажет Воробьянинову: “Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза!”
Рассказ “Зимой” возвращает меня в легендарный Мыльников переулок. “Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший Мыльников переулок, дом четыре. Мою комнату легко заметить с улицы, на ее окнах имеется веерообразная железная решетка, напоминающая лучи восходящего из-за угла солнца”. Мне долго не давало покоя это приглашение Катаева. Я приехал в Москву поздней осенью 2004 года. Я плохо знаю этот город, но, выйдя на станции метро “Чистые пруды”, решил, что не буду спрашивать дорогу. Удивительно, но я очень быстро нашел и Мыльников переулок, и дом четыре, и окно с веерообразной решеткой. Уже второй день в Москве был сильный снегопад, он скрыл приметы сегодняшнего дня, и мне легко было представить Москву двадцатых годов. Мне так хотелось, чтобы в бывшей квартире Катаева устроили клуб молодых писателей. Я бы непременно расставил там двенадцать стульев, я бы развесил там клетки с птицами (в память о птицелове), посадил на подоконник большую куклу, о которой Олеша написал свою знаменитую сказку. Он посвятил ее девочке из Мыльникова переулка, в которую влюбился. А девочка выросла и вышла замуж за Евгения Петрова. И много еще можно было бы придумать для этого клуба, но скорее все будет иначе. И тогда мне уже все равно, откроют ли в этом доме контору по продаже недвижимости или модный магазин африканской косметики. Пока этого, к счастью, не произошло. В Мыльниковом переулке идет снег, редкий гость в осенней Москве.
“Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на минуту не покидала его”
Катаев в Москве с 1922 года. Чуть позднее, но в том же 1922-м к нему приезжает Юрий Олеша. Ильф и Петров разными путями добираются до столицы в 1923-м. И наконец, Катаев привозит из Одессы Багрицкого. Через несколько лет Ильф и Петров напишут: “Московские вокзалы – ворота города <…> Представители Киева и Одессы проникают в Москву через Брянский вокзал”. Я хочу представить, как это все было на самом деле. Они все приезжали на Брянский вокзал и уже с него добирались до Мыльникова переулка, проделывая очень похожий путь с еще голодного юга в уже сытую Москву. И хотя первые впечатления оказались разными, было и одно общее, возможно, самое сильное: Валентин Катаев, каким он стал. Всего год назад он прибыл в Москву “в потертом пальтишке, перешитом из солдатской шинели”, с плетеной корзинкой, “запертой вместо замочка карандашом, а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья”. И вот теперь у него “комната с примусом и домработницей в передней”. У меня не хватает воображения представить быт московской богемы двадцатых годов. Эта домработница в передней поразила меня гораздо больше, чем знакомство молодого Катаева с известными писателями, Горьким или Алексеем Толстым. “Я, – вспоминал Катаев, – повел его (Багрицкого. – С. Б.) на Тверскую и чуть ли не насильно втолкнул в магазин готового платья”. Из этого нетрудно сделать вывод, что сам Катаев давно снял перешитое из солдатской шинели пальто. Фотографии тех лет подтверждают это нехитрое умозаключение. И наконец, главное: прочное положение Катаева в литературной жизни столицы. “Я водил его (Багрицкого. – С. Б.) по редакциям, знакомил с известными поэтами и писателями, щеголяя перед моим еще мало известным в Москве другом своей причастностью к литературной жизни столицы”. Катаев не преувеличивает. В двадцатые годы он сотрудничает чуть ли не со всеми заметными периодическими изданиями Москвы (“Гудок”, “Вечерняя Москва”, “Красная новь”, “Огонек”, “Чудак”, “Смехач”, “Красный перец” и др.). Он пишет сотни фельетонов, в основном для заработка. Это не мешает серьезной творческой работе: пробует себя в разных жанрах, ищет свой стиль, создает достойные большой литературы произведения. Я бы назвал не только “Растратчиков”, но прежде всего рассказ “Отец” (1922–1925), одну из вершин его творчества. Катаев работал очень много, при этом он никогда не был аскетом. Вспомните классификацию женских типов в “Алмазном венце”: “небожительница”, “таракуцка”, “холера”, “первый день творения”. Ведь обобщениям, наверное, предшествовала практика. Неиссякаемая энергия Катаева не может не удивлять. В семидесятые – восьмидесятые годы Катаева часто спрашивали, как ему удалось преуспеть, но не растерять, добиться, но сохранить… Писатель обычно отделывался шутками. А может, был у него какой-то секрет распределения сил? Да и сил было с избытком.
В двадцатые годы мучительную раздвоенность между творчеством и службой для заработка все в том же “Гудке” переживал Михаил Булгаков. Это было еще до вмешательства большой политики в его жизнь. Из дневника М. Булгакова[91]91
Булгаков М. Дневник. Письма. Сост. В. Лосев. М., 1997.
[Закрыть]: “Я каждый день ухожу на службу в этот свой „Гудок” и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день”; “Я по-прежнему мучаюсь в „Гудке””; “…встал поздно и вместо того, чтобы ехать в проклятый „Гудок”, изменил маршрут и, побрившись в парикмахерской на моей любимой Пречистенке, я поехал к моей постоянной зубной врачихе” (1924). Катаев же к службе в “Гудке” относился легко. Казалось, он вообще не знает усталости. “Он [Катаев] быстро написал стихотворный фельетон о козлике, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался „Старик Саббакин” и куда-то убежал” (из записей Петрова). Мне возразят: Булгаков оставил нам великие книги, а Катаев… Ну, во-первых, поздняя проза Катаева дает ему право встать рядом с его великими современниками. А во-вторых, будем смотреть не с позиций конца шестидесятых или сегодняшнего дня, а из тех, двадцатых. А всего убедительнее признания самого Булгакова. По свидетельству Е. С. Булгаковой, он называл Катаева бездарным драматургом. Но к прозаику Валентину Катаеву Булгаков относился очень серьезно. Из дневника М. Булгакова: “27 августа 1923 года. Только что вернулся с лекции сменовеховцев <…> Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева”; “2 сентября 1923 года. Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому <…> Он ищет поддержки во мне и в Катаеве”. Для меня эти сдержанные заметки в дневнике очень убедительны. О Катаеве Булгаков пишет как о равном себе, а себя он оценивал очень высоко.
Когда Ильф и Петров нашли энергичного и веселого героя, “лед тронулся”, действие романа стало успешно развиваться “от стула к стулу”. Удачно найденная пара героев обеспечила ритм сюжетного движения. Ипполит Матвеевич тормозил события, Остап устремлялся вперед, увлекая за собой Воробьянинова. “У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр”. Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине: “Ничего, папаша! Не унывайте!” Источник энергии – в столкновении Бендера и Воробьянинова, которых отличает не столько возраст и социальный опыт, сколько мироощущение. “Мы чужие на этом празднике жизни”. Чужие – это для Остапа временная, досадная неудача. Главное – восприятие жизни как праздника, счастливого дара. Бендер ощущает полноту и радость жизни и в дворницкой Тихона, и в роскошном “мавританском” номере гостиницы “Ориант”.
На рубеже четвертого и третьего веков до нашей эры существовала философская школа с необычным для серьезной науки и красивым названием “Сад Эпикура”. Я не берусь излагать ее учение, дошедшее до нас во фрагментах, а имею в виду знакомое всем понятие “эпикуреец”. Бендер был эпикурейцем, как и Катаев. Вряд ли эпикурейцами можно назвать Ильфа и Петрова, а тем более Олешу. Поясню сухие рассуждения образами-иллюстрациями. “Олеша <…> страшно во хмелю мрачнел и сквернословил. Он сидел на верху матраца, поставленного у стены, как демон на скале, и презирал и ругал весь мир” (свидетельство Н. Н. Рогинской, свояченицы И. Ильфа).
В качестве иллюстрации к мироощущению Катаева я мог бы подобрать многие фрагменты его автобиографической прозы: детские воспоминания о “шипучем лимонаде в бутылочках, закупоренных вместо пробок маленькими матово-стеклянными шариками”, соревнование с Буниным в поисках точного образа, приносившее обоим чувственное наслаждение, “глечик жирного молока”, выпитый на харьковском рынке после долгих дней голода, меренги со взбитыми сливками из парижской кондитерской. Но я, пожалуй, выберу другую иллюстрацию. “Нам повезло, Киса, – сказал Остап, – ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте! Вспоминайте кавказские стихи”. Очень легко в этой ситуации представить Катаева на месте Бендера. Итак, “мрачный демон на скале” (Олеша) и неутомимый путник, смело и весело идущий по дороге жизни (Катаев). Олеша и Катаев. Евгений Петров и Катаев. Это сюжеты для романов. Воробьянинов и Бендер – уже написанный роман. “Умеющий вспоминать о приятном проживает жизнь дважды”. Эти слова (не ручаюсь за точность) принадлежат Эпикуру. Я думаю, Катаев был очень счастлив, когда писал “Траву забвения”, “Алмазный венец”, “Разбитую жизнь”. “Пахло светильным газом, горячим кофе, ванилью, и во всем этом было столько староитальянского, сицилианского, что я вспомнил давнее-предавнее время и наше путешествие с папой и маленьким моим братом, братиком на пароходе из Одессы в Неаполь…” Ощущение ценности каждого мгновения жизни передается читателю. Я очень люблю перечитывать эти книги Катаева. Мне кажется, главный секрет обаяния Остапа Бендера тоже в жизнелюбии, в ощущении жизни как счастливого дара.
Жизнелюбие Бендера связано с его энергией и определяется ею, наступательной энергией. Остап ошеломляет и подавляет любого противника и почти всегда оказывается победителем, хозяином положения. “Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился”. “Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах”. “Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку (Бендера. – С. Б.)”. Почти всегда победа. “„И враг бежит, бежит, бежит”, – пропел Остап”. Как и в случае с Катаевым, у Остапа превосходство, данное самой природой. Энергии так много, что порой герою трудно ее сдержать. “Остапа понесло, он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей”. “Удержать его было нельзя. Его несло”. “Его несло в открытое море приключений”. Ощущение природной стихии. Только еще более мощная стихия способна его остановить. “Остап был вне себя: землетрясение встало на его пути”. Вот где надо искать мотивы, побудившие авторов завершить роман смертью Остапа. Скажу сразу, такой финал всегда казался мне неправдоподобным. Как спасали Катаева две макушки, так и Остапа обостренное чутье опасности должно было разбудить, когда Воробьянинов подкрадывался к нему с бритвой. Тогда Ильф и Петров еще не испытывали давления читателей и критики, которое уже чувствовали, сочиняя финал “Золотого теленка”. Да, авторы были еще неопытны и не предполагали, как успешно и долго можно эксплуатировать найденный образ. Была и чисто техническая трудность завершить роман с живым Остапом. Еще не затих бы крик Ипполита Матвеевича, “бешеный, страстный и дикий”, как у Остапа возник бы новый план. Финал “Двенадцати стульев” и оба варианта финала “Золотого теленка” кажутся искусственными, потому что нарушают логику характера, насильственно прерывая мощный поток энергии, который несет в себе Остап Бендер.
“Непосредственный участник концессии и технический руководитель дела”
Пришло время вспомнить о плетеной корзинке, с которой Катаев приехал в Москву зимой 1922 года. Корзинка с рукописями молодого человека из провинции. Какая это романтическая и романическая история. Очень старая. И современная. Меняются внешние детали. Давно уже не пишут гусиными перьями, да и шариковыми ручками – все реже, но неизменны надежды талантливых провинциалов удивить своими творениями столицу. Герои таких историй чаще всего люди бедные, при этом они начитанные и легковерные.
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим.
(А. С. Пушкин, “Разговор книгопродавца с поэтом”)
Не верьте, никто не поспешит обратить. А деловые качества, увы, редко сопутствуют таланту художника. Катаев быстро добился успеха, потому что, кроме писательской одаренности, был еще энергичен, общителен, предприимчив. Сотрудничество молодого Катаева со многими столичными изданиями, причем очень разными, от “Красной нови” до “Мурзилки”, – свидетельство не только творческой активности, но и способности легко устанавливать деловые контакты. Напомню историю публикации первого рассказа Евгения Катаева. Это Валентин Катаев отвез рукопись в редакцию и сказал: “Если это вам даже не понравится, то все равно это надо напечатать. Вы понимаете – надо!” И чуть позднее: “„Заплатите как можно больше”, – сказал я представителю московского отделения „Накануне””. Катаев в Москве сравнительно недавно, но сумел занять такое прочное положение, что диктует условия: “надо напечатать”, “заплатите как можно больше”. А благородный отказ Катаева от соавторства: “Завтра же я еду в издательство и перепишу договор с нас троих на вас двоих”. Заметим: “я перепишу”. Несомненно, главным лицом и при составлении договора был Катаев. Его авторитет позволил заключить договор с малоизвестными авторами еще до того, как рукопись была представлена. Талант организатора, деловая хватка позволяли молодому Катаеву быстро достигать положения, которого иные добиваются годами, а потом без сожаления оставлять завоеванные позиции. “Валентин Петрович Катаев, который одно время фактически вел „Красный перец”, уходя из журнала, оставил за себя брата”, – вспоминал В. Ардов. Катаев обладал редкой способностью увидеть, представить всю жизнь литературного произведения от замысла до печати. Идея написать роман о стульях – не что иное, как, говоря современным языком, проект. Катаев почувствовал интерес читателя, придумал сюжет, нашел исполнителей, затем предсказал успех книги вплоть до мировой славы авторов. Он лишь недооценил своих “литературных негров”, хотя очень быстро исправил ошибку.
Какой надо знать секрет, чтобы соединить служение непредсказуемой музе и неумолимому долгу, а между этими служениями еще прожить свою единственную жизнь? Для Маяковского попытки примирить и подчинить закончились трагически. А вот Мандельштам, кажется, не знал болезненного раздвоения и, “прислушиваясь к голосу своей капризной музы” (определение Катаева), следовал за ней. Попытка Катаева привлечь Мандельштама к сочинению агиток обернулась фарсом. Катаев призывал видеть в агитке только агитку, а не бессмертный шедевр. Но простое ремесло Мандельштаму было неведомо, он тут же начал тревожить тени Ювенала и Буало, Вольтера и Лафонтена. Катаев понял, что “предприятие под угрозой”. “На этом и кончилось покушение щелкунчика включиться в агитпоэзию „Главполитпросвета””. Катаеву же с самого начала творческого пути удалось достичь устойчивого равновесия: стихи и проза для большой литературы, с одной стороны, агитки и фельетоны, с другой, сосуществовали параллельно и мирно, причем последние сразу приносили ощутимый доход. Само по себе выполнение заказа и создание однодневок не смущало Катаева, но всякая работа должна быть сделана профессионально. Быть крепким профессионалом, уметь писать “на тему” быстро и качественно, очень выгодно. “Фельетон должен быть блестящим – за это больше платят <…> сжатость – максимум, компоновка – уверенная. Валюта” (В. Катаев, “Зимой”). В “Алмазном венце” он демонстрирует деловой подход к выполнению литературного заказа. Никаких переживаний по поводу необходимости делить быстротечное время между “чистым искусством” и литературной поденщиной. Катаев всегда остается эпикурейцем. Как и Остап Бендер. “Мы приняли заказ, получили небольшой аванс, купили на него полкило отличной ветчины, батон белого хлеба и бутылку телиани”. Далее следует выбор материала, определяются сроки работы. “Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера бесшабашный четырехстопный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора”. Впоследствии Катаев не раз попытается передать свой опыт организации литературного успеха молодым коллегам. “Послушайте, вы – наивный молодой человек, ничего не понимаете в конъюнктуре…” – поучал Катаев поэта Николая Старшинова. И даже рассердился, встретив непонимание и неприятие: “Я думал, что вы – человек дела, что с вами можно серьезно говорить…” (“Согласие”, 1991, № 4). Заметим, какие слова: “конъюнктура”, “человек дела”. Сразу возникает мысль, как легко вписался бы Катаев в наше рыночное время, но сразу и другая, что и в свое, не рыночное, он вписался прекрасно. Инна Гофф вспоминает выступление Катаева перед студентами Литературного института: “Напишите романы, купите себе машину, пойдите в роскошный ресторан”. Шел 1949 год. Вся жизнь молодых людей, которые слушали тогда Катаева, состояла из предвоенного, военного и послевоенного времени. Их собственный опыт и образ советского человека, в том числе и писателя, естественно сложившийся в эти тяжелейшие годы и отчасти навязанный пропагандой, был настолько иным, что советы Катаева могли вызвать в лучшем случае непонимание, а возможно, и неприязнь. “Слова Катаева нас шокировали” – так определила свои впечатления от встречи Инна Гофф. Впрочем, представление о бескорыстном служении искусству возникло задолго до советского периода. Пушкин оставлял художнику право на частную жизнь: “…пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…” Общество почему-то всегда было эгоистично, деспотично, беспощадно и требовало беззаветного служения, осуждало художника за отступничество. Образ бедного служителя муз очень прочен в нашем сознании, сколько бы ни опровергала его история отечественного искусства. Может быть, поэтому в рассказе “Зимой” возникает американский мотив. “Вот список, я это сделаю. Посмотрим, кто из нас американец”. “Шкала моего права на счастье растет по Фаренгейту”. Здесь мы имеем дело с нашим традиционным представлением об американце как успешном деловом человеке, у которого на все есть денежный эквивалент. В реальности все не так однозначно. Когда я говорю о Катаеве как о деловом человеке, то имею в виду не только умение зарабатывать деньги, но и свойственный ему аналитический подход к любому делу, рациональную организацию работы. “Прежде всего система. Календарь на стену. <…> Папка рукописей за пять лет – на пол. Маленькие рассказы – направо. Большие – налево. Стихи – в сторону. <…> Расписки, издатели, чеки. Прежде всего и после всего – деньги” (В. Катаев, “Зимой”). Оценим с точки зрения рационального подхода к делу эпизод переезда Багрицкого в Москву. Это происходило при самой активной и энергичной поддержке Катаева и вовсе не походило на импульсивное желание помочь старому другу. Это был четкий, хорошо продуманный план действий. “Я хорошо изучил характер птицелова. <…> я приготовил ему ловушку, которая, по моим расчетам, должна была сработать наверняка <…> я выложил свою козырную карту”.
Мне хочется все-таки отвлечься от “Алмазного венца” и посмотреть на характер героя другими глазами. Из дневника Е. С. Булгаковой: “Встретили в Лаврушинском Валентина Катаева. Пили газированную воду. Потом пошли пешком. И немедленно Катаев начал разговор. М. А. должен написать небольшой рассказ, представить. Вообще, вернуться „в писательское лоно” с новой вещью. „Ссора затянулась”. И так далее. Все – уже давно слышанное. Все – известное. Все чрезвычайно понятное. Все скучное” (23 августа 1938 года). Елена Сергеевна не любила Катаева, относилась к нему с неприязнью. Но в данном случае не это важно. Главные для меня слова: “И немедленно Катаев начал разговор”. Значит, это не было случайностью, значит, это было в характере Катаева. Как очень деятельный человек, он не мог переносить бездействия, равно своего и окружающих, он не мог не вмешиваться, и у него всегда оказывался четкий план действий. “Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях <…> вообще имел такой вид, будто вся Москва <…> собралась к нему на раут, он ходил среди гостей <…> для каждого находил теплое словечко”. Вместо “он” легко подставить не только Бендера, но и Катаева. В романе “Двенадцать стульев” образ делового человека поначалу троится: Шахов, Хунтов, Бендер. Связь Катаева с пародийными, фельетонными Хунтовым и Шаховым очевидна. Кажется, Ильф и Петров ничего не упустили из реальных фактов биографии преуспевающего литератора, только чуть сгустили краски. Прежде всего иронически отозвались на обостренное чувство времени, настроений в обществе, знание законов литературного рынка. Хунтов “был человек, созвучный эпохе. Он делал все то, что требовала эпоха. Эпоха требовала стихи, и Хунтов писал их во множестве <…> Эпоха и современники нуждались в героическом романе <…> и Хунтов писал героические романы”. “Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался и погрузился в газеты. В страхе он сел было за роман, трактующий о снижении накладных расходов, и даже написал восемьдесят страниц в три дня”. Не забыли авторы, с какой неутомимостью Катаев перекраивал и переделывал свои сочинения ради возможности напечататься. “Восьмидесяти страниц было жалко, и Шахов быстро перешел на проблему растрат”. Не оставили без внимания организацию коммерческого успеха.
“– …скажи: Агафон Шахов, мол, моральный убийца.
– Да разве ж я посмею, Агафон Васильевич, осрамить автора.
– Срами!
– …ни в жизнь на вас тень не брошу!
– Бросай, милый, большую широколиственную тень брось! <…> Захватывающая, скажи, книжка и описаны, мол, в ней сцены невыразимой половой распущенности”.
А вот подсчет Хунтовым доходов от еще не написанной пьесы для Московского Художественного театра в то самое время, когда их работодатель мэтр Катаев сочиняет водевиль для того же театра, – просто дерзкая шутка молодых авторов.
В дальнейшем Ильф и Петров ушли от фельетона, от подчеркнутого сходства персонажей с реальными людьми. Бендер не столь явно напоминает Катаева, как Хунтов или Шахов. Но общий почерк выдает их сходство: всегда четко продуманный план и последующие энергичные действия. “Остап начал вырабатывать условия”. “Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов”. “В голове Остапа сразу созрел план, единственно возможный в таких тяжелых условиях”. “Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры”. “В стройную систему его умозаключений…”, “…вступил в деловой разговор с беспризорными”. „А мои инструкции?” – спросил Остап грозно”. “Ну что, председатель, эффектно? Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя?”
“Прежде всего система”, – мог бы произнести Остап Бендер. Но гораздо раньше эти слова произнес герой рассказа Катаева “Зимой”. Я даже рискну предположить, что слово “комбинатор” витало вокруг Катаева еще до того, как Ильф и Петров придумали своего “великого комбинатора”.