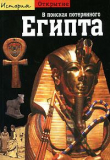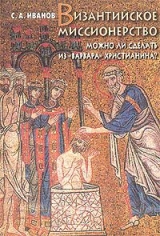
Текст книги "Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?"
Автор книги: Сергей Иванов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
3
Апологеты настаивали на всемирном характере своей религии не только во имя ее легитимизации. Ранние христиане жили в напряженном, каждодневном ожидании конца света, а в Евангелиях говорилось, что он наступит не раньше, чем Слово будет проповедано во всех концах земли. Ориген, оправдывая задержку со Вторым Пришествием, пишет: «Ведь есть пока много не только варварских, но и наших народов, которые доныне не слышали христианского Слова… Передают, что Евангелие не было еще проповедано перед всеми эфиопами, особенно теми, которые живут за рекой [Нилом]. Ни у серов (китайцев. – С. И.),ни у ариацинов еще не слышали христианской проповеди. А что сказать о британах или германцах, живущих возле Океана? Да и варварские даки, и сарматы, и скифы – большинство из них тоже еще не слышали слова Евангелия» [43]43
Origenes, Werke. Matthauserklarung, Bd. XI, 2 / Hrsg. E. Klostermann (Berlin, 1975), S. 76.
[Закрыть]. Макарий Магн считает, что конец света не наступил потому, что Евангелие еще не было проповедано «семи народам из индов» и «эфиопам, именуемым долгоживущими» (Macarii Magnis Apocriticus, II, 13). Итак, распространение христианства приближало Второе Пришествие. Предприятие подобного масштаба не могло быть результатом обычных человеческих усилий. Поэтому обращение чужеземных стран приписывалось в христианском сознании деятельности не обычных людей – но апостолов.
В апокрифических «Хождениях апостолов», которые начали возникать во II‑IIIвв., довольно много говорится о том, как ученики Христа жеребьевкой поделили между собой «весь мир» для будущей миссии. О том, что сюжет миссионерства среди настоящих варваров довольно поздно появился в «хождениях», свидетельствует разнобой источников относительно результатов апостольской жеребьевки. В целом самые дальние страны оказались уделом Варфоломея, Фомы, Матфия, Симона и Андрея, но в вопросе о том, кто из них обращал Парфию, кто Индию, кто Эфиопию, нет согласия практически до конца византийского времени [44]44
Th. Schermann, Prophetenund Apostellegenden[Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Bd. 31,1] (Leipzig, 1907), S. 247—250, 270, 273—274, 284.
[Закрыть]. Интересно, что коррективы сюда вносил еще Никифор Каллист Ксантопул, церковный историк XIII‑XIVвв., который добавил в список стран, обращенных апостолом Фомой, остров Тапробану (Цейлон) и «народ брахманов» [45]45
Nicephori Callisti Xanthopuli «Ecclesiasticae Histonae», PG.Vol. 145 (1865), col. 846.
[Закрыть]. С другой стороны, даже самые культурно чуждые из объектов апостольской проповеди – обитатели «города людоедов», обращенные Андреем и Матфием, в изначальной версии легенды не являются варварами в собственном смысле этого слова: сказочное пространство этих апокрифических «хождений» больше всего напоминает условные декорации эллинистического романа [46]46
Acta Andreae/ Cura J. Prieur (Brepols‑Turnhout, 1989), p. 68—69; D. R. MacDonald, The Acts of Andrew and the Acts of Andrew and Matthiew in the City of the Cannibals(Atlanta, 1990), p. 13; А. Ю. Виноградов, «Андрея и Матфия деяния», Православная Энциклопедия.Т. 2 (Москва, 2001), с. 407—408.
[Закрыть]. Апостолы здесь страдают от козней язычников, от их жестокости – но, как ни странно, не от их нецивилизованное. Культурный барьер между апостолами и «людоедами» будет, как мы увидим, домыслен позднее (см. с. 246).
Хотя ни в одном из апокрифов не утверждается, что апостолы посещали сарматов или, допустим, массагетов, тем не менее ранние христиане были твердо убеждены, что посланцы Христа обратили именно «всю вселенную». В этом смысле можно говорить о миссионерской гордости молодой религии: «Много было и у эллинов, и у варваров законодателей и учителей, проповедовавших догматы, возвещавших истину, – восклицает Ориген, – но… никто не сумел внушить то, что он считал истиной, различным народам (εθνεσι διαφόροις)» [47]47
Origene, ТгаШ des Pnncipes. Ill /Н. Crouzel, Μ. Simonetti [SC, N 268] (Paris, 1980), p.260, cf. Clementi Alexandrini Stromata.Buch I– VI (Leipzig, 1906), p. 518. Впрочем, под «вселенной» чаще всего попрежнему подразумевалась «наша вселенная» (καθ’ ήμάς οικουμένη), то есть Империя, внутри которой находилось место и для варваров, ср.: Origene, Contre Celse, I, 26 / Ed. M. Borret. Vol. I [SC, N 132] (Paris, 1969), p.146.
[Закрыть] .Однако представление о миссии было у апологетов весьма своеобразным. Например, не имело существенного значения количество миссионеров. «Слово сумело быть возвещенным по всей вселенной, – пишет Памфил Мученик (III‑IV вв.), – так что прилепились к Иисусовому благочестию и эллины, и варвары, и мудрые, и глупые – хотя учителей было и немного (καίτοιγε ούδέ των διδασκάλων πλεοναζόντων)» [48]48
Pamphili Martyris «Apologia pro Ongene», PG.Vol. 17 (1857), col. 572.
[Закрыть] .Не существует в этот период и какой бы то ни было идеи подготовки миссионера к его предприятию. Как, к примеру, решалась проблема языка проповеди? Ясно, что дар «говорения на языках» не оставался с апостолами после Пятидесятницы (ср. с. 17), а значит, вроде бы должны были возникать переводческие проблемы. Действительно, в апокрифических сирийских «Деяниях Иуды Фомы» мотив лингвистического непонимания со стороны варваров звучит один–единственный раз, в самом начале произведения; тогда слова апостола понимает лишь одна служанка–еврейка, которая пересказывает его речь остальным [49]49
Мещерская, Деяния,с. 130—131.
[Закрыть]. Однако в дальнейшем, по мере усиления сказочного элемента в повествовании, эта проблема как‑то сама собой исчезает: читатель так и не узнаёт, на каком наречии проповедовал Фома в Индии. Видимо, все эти проблемы должны были решиться сами собой, благодаря божественному вмешательству.
Вообще, обращение апостолами варваров мыслилось чисто символическим предприятием. Варвары должны были прийти к Богу сами, и участие в этом процессе христиан воспринималось как вторичное, вспомогательное. «Таково это истинное Слово о божественном, о мужи эллинские и варварские, халдейские и ассирийские, египетские и ливийские, индийские и эфиопские, кельтские и латинские… чтобы вы, прибегнув [к нам], были нами научены (προσδραμόντες διδαχθήτε παρ’ ήμών) [50]50
Hippolyti Romani Refutatio omnium haeresium(см. прим. 18), p. 415.
[Закрыть]. Это фаталистическое восприятие христианизации не побуждало к установлению реального контакта с варварами.
У ранних христиан не было ответа на простой вопрос, как следует относиться к жестокости варваров, к их опустошительным набегам. Когда враг христианства Келье заявляет, что идея братского соединения всего человечества приведет лишь к одному – «вся земля окажется под властью беззаконных и диких варваров», то Ориген возражает ему так: «Если варвары прибегнут к Слову Божию, то станут законопослушными и кроткими». А если не прибегнут? – недоумевает Келье: «ведь невозможно, чтобы Азия, и Европа, и Ливия, эллины и варвары вплоть до самых пределов вселенной согласились бы на единый закон! Мечтающий об этом ничего не понимает!» Но Ориген невозмутим: «Это и впрямь невозможно по плоти (τάχα αληθώς αδύνατον… έν σώματι). Но совершенно возможно для освободившихся от нее» [51]51
Origene, Contra Celse, VIII, 72—73 / Ed. M. Borret. Vol. IV [SC,N 150] (Paris, 1969), p. 340—344.
[Закрыть]. Спорящие говорят на разных языках: устами Кельса вещает суровый опыт римской государственности, устами Оригена – эсхатологические чаяния раннего христианства.
Итак, в догосударственную эпоху христиане создали свой идеал миссионера – образ «апостола у варваров», но идеал этот был лишен черт какой бы то ни было конкретности. Лишь гораздо позднее данный образ был переосмыслен как миссионерский (см. с. 142).
Глава II. Миссионерство позднеримской эпохи (III‑V вв.)
I
В начальный период своего существования христианство распространялось по Империи подспудно, скорее от человека к человеку, нежели в результате организованной церковью миссионерской деятельности [52]52
К. Holl, Gesamte Aufsatze zur Kirche.Bd. Ill (Tubingen, 1928), S. 121—122; R. MacMullen, Changes in the Roman Empire(Princeton, 1990), p.132—142.
[Закрыть]. Уж заведомо не велось никакой целенаправленной пропаганды за пределами Империи. И однако не позднее второй половины III в. начался процесс христианизации варварских княжеств [53]53
В сферу наших интересов не входит ни крещение Эдессы, ни продвижение новой религии вплоть до Бахрейна (см.: Е. Sachau, «Die Chronik von Arbela», Abhandlungen der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Philologisch‑Histonsche Klasse,Jahrgang 1915, Bd. 6 (Berlin, 1915), S. 22), ни ее появление в Бактрии (ср.: A. Mingana, «The Early Spread of Christianity», The John Ryland Library, vol. 9, N 1 (1925), p. 299—301), поскольку в этот процесс не были задействованы римские подданные.
[Закрыть]. По словам историка Созомена, «почти для всех варваров поводом к принятию христианского учения (πρεσβεύειν τό δόγμα των Χριστιανών) были случавшиеся по временам войны с римлянами и иноплеменниками в правление Галлиена и его преемников… Когда церковь расширилась на всю Римскую вселенную, вера двинулась и через [народы] самих варваров (καί διά αυτών τών βαρβάρων ή θρησκεία έχώρει). Уже христианизировались (έχριστιάνιζον) племена вокруг Рейна, кельты и самые дальние из галатов, те, что живут у Океана, и готы, и те их соседи, которые прежде сидели у берегов реки Истр» (Sozomeni II, 6).
Та же ситуация складывалась и на Востоке. В Персии появление христианства связано с римскими пленными из Антиохии, которых царь Шапур в 256 г. расселил в Хузистане, поставив им епископом грека Димитриана [54]54
W. Schweigert,Das Christentum in Huzistan im Rahmen des friihen Kirchengeschichte Persien bis zur Synode von Seleukeia‑Ktesiphon im Jahre 410. Diss. (Marburg, 1984), S. 19—20.
[Закрыть]. Именно в этом смысле надо понимать слова из сирийской «Хроники Са–ард», что «христиане распространились по всем странам и стали очень многочисленными на Востоке… Римляне распространяли христианство на Востоке» [55]55
Histoire nestoHenne/ Ed. Addai Scher, PO.Vol. 4, (1907), p. 221—223.
[Закрыть]. Сведений об отправке из Империи специальных миссионеров для проповеди варварам у нас нет. Церковные иерархи пускались в далекий путь только для окормления уже имеющихся христианских общин, состоявших главным образом из пленников. Например, таков был Аверкий, епископ Иерапольский, который, согласно его житию, во II в. «посетил церкви по всей Месопотамии и завещал им единый устав». Агиограф вкладывает в уста крещенного перса Вархасана следующие слова относительно Аверкия: «Мы выскажемся за то, чтобы наречь его Равноапостольным (ίσαπόστολον). Ведь мы не знаем никого другого, кто бы обошел столько земли и моря в попечении о братьях, если не считать тех первых учеников Христовых, которым этот муж очевидным образом подражает» [56]56
«Vita s. Abercii», AASS Octobns.Vol. IX (1869), p. 512.
[Закрыть]. Итак, хотя попечение Аверкия главным образом о людях уже крещенных, он приравнен к апостолам: таково парадоксальное переосмысление апостольского наследия.
Если говорить об агентах реальной христианизации варваров, то ими в первую очередь становились «перемещенные лица»: римские пленники, жившие в варварских землях [57]57
Ср.: Σ. Πατούρα,01 αιχμάλωτοι ώς παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4—10 at.) (Αθήναι, 1994), σ. 37—48.
[Закрыть], или, наоборот, варварские заложники и эмигранты, побывавшие в Империи. Эти носители христианства, не являшиеся «профессиональными» миссионерами, в результате каких‑то обстоятельств достигали успеха и лишь потом обраща лиськ Церкви за помощью. Так, Грузию, согласно легенде, обратилаНина, девочкой уведенная туда в плен из Империи. Это событие описано в целом ряде памятников, восходящих к сохранившемуся источнику [58]58
Видимо, устные предания о Нине собрал и записал приехавший в Константинополь ивир Бакур. Всячески подчеркивая связь грузинского христианства с греческим, он преследовал политическую цель – вовлечь Империю в борьбу против Ирана (см.: М. С. Чхартишвили, Источниковедческие проблемы христианизации Восточной Грузии.Автореф. дисс…. канд. ист. наук (Тбилиси, 1982), с. 20—22).
[Закрыть]. Нам сейчас важно не столько реконструировать этот оригинал, сколько посмотреть, на что обращаливнимание имперские авторы. Любопытно, что само Имя Ниныим осталось неизвестно. Руфин, Сократ Схоластик, Созомен,Геласий Кизический и Феодорит Киррский в один голос [59]59
Л Glas, Die Kirchengeshcichte des Gelasios von Kaisareia(Berlin, 1914), S 50—51. Грузинские и армянские источники, не восходящие к имперской традиции, сообщают множество данных о миссионерской деятельности Нины у разных горских народов (А. Хаханов, «Источники по введению христианства в Грузии», Древности восточные, т. I, вып. 3 (1893), с. 312, 329—330, 336—337, 343), но греческим авторам все это остается неизвестным.
[Закрыть]утверждают, что варвары, среди которых жила пленница, удивлялись на ее аскетический образ жизни, однако ни ей не приходило в голову пропагандировать среди них христианство, ни им – расспрашивать о сути ее религии; когда, в объяснение своего аскетизма, женщина «простодушно говорила (άπλούστερον λεγούσης), что так надлежит почитать Христа, сына Божия, им казались странными (ξένον) как имя почитаемого, так и способ почитания» (Sozomeni II,7, 1). Лишь после того как Нина прославилась чудесными исцелениями, а особенно после излечения местной царицы, она стяжала большую славу и только тогда, по настоянию царя, приступила к миссии. Согласно ценному свидетельству, сохраненному одним лишь Сократом, грузинский царь и Нина «вдвоем сделались вестниками Христа: царь для мужчин, а она для женщин» (Socratis I, 20). Стало быть, женщина не могла проповедовать мужчинам! [60]60
Выть может, это разделение полов отражало не столько миссионерскую практику, сколько дохристианский языческий обычай самой Грузии (F. Thelamon, Paiens et скгёйет au IVsiecle(Paris, 1981), p. 93—119).
[Закрыть]
«Апостол готов» Ульфила был ребенком римских пленных, которых готы угнали во время набега на Империю в 257 г. В тот год варвары «захватили… среди других – тех, кто был причислен к клиру… Сонм благочестивых пленников, обретаясь среди варваров (συναναστροφέντες τοΤς βαρβάροις), немалое количество из них склонил к благочестию и привел от языческой веры к христианской. Из этого полона были и родители Уркилы (Ульфилы)» (Philostorgii НЕ, II, 5). Более подробно этот процесс описан у Созомена: «Когда несказанное множество смешанных народов… опустошало Азию… многие священники были уведены в плен и стали жить между ними. Так как пленники исцеляли там больных и очищали бесноватых, призывая имя Христа и называя его Сыном Божиим, а притом вели беспорочную жизнь и своими добродетелями побеждали всякое злоречие (μώμον), то варвары, удивляясь их жизни и необыкновенным делам (παραδόξων έργων), пришли к сознанию того, что разумно будет подражать людям, оказавшимся лучше, чем они сами, и служить Высшему, подобно тем. Избрав [христиан] своими руководителями в том, что следовало делать, они получили наставление, приняли крещение и начали посещать церкви» (Sozomeni И, 6). О судьбах готского христианства мы еще поговорим ниже (см. с. 87, 127 сл.).
II
Наиболее экзотичной является история миссии в Эфиопии. Эта далекая страна была связана с эллинистическим миром многовековыми связями. Сперва их поддерживало государство Мероэ, позднее – пришедшее ему на смену государство Аксум [61]61
Ужев III в. в Абиссинии начинают чеканить монету с греческой легендой (R. Pankhurst, «The Greek Coins of Aksum», Abba Salama,vol. 6 (1975), p. 78) и высекать официальные надписи по–гречески (Y. Desanges, «L’hellenisme dans le Royaume de Мёгоё», Graeco‑Arabica, vol. 2 (1983), p. 275—285), параллельно с местным языком геэз. Культурные контакты привели и к религиозным заимствованиям: в эфиопских грекоязычных надписях упоминаются Арес, Зевс и Посейдон – то есть греческие аналоги каких‑то местных языческих богов. Разумеется, при всем этом не следует забывать, что греческий понимала ничтожная часть правящего класса (S. Munro‑Hay, Aksum. An African Civilization of Late Antiquity(Edinburgh, 1991), p. 149—154, 184—189, 245).
[Закрыть]. Поэтому неудивительно, что и христианство проникло на Абиссинское нагорье очень рано. Предание эфиопской церкви называет крестителем страны некоего Абба Салама, который обратил царей Эзану и Сазану. Византийская же традиция считает апостолом Эфиопии Фрументия и его родственника Эдесия, римских подданных, родом из Тира. Является ли имя Абба Салама другим именем Фрументия —сказать трудно [62]62
Brakmann, Die Einwurzelung,S. 117—119.
[Закрыть]. Здесь, как и в дальнейшем, две картины христианизации Эфиопии, внешняя и внутренняя, имперская и местная, далеко не во всем сходятся. При этом, как нам предстоит убедиться, эфиопская версия куда богаче собственно греческой. Разница между ними в том, что грекоримские источники концентрируют все внимание на первоначальном этапе миссии, тогда как эфиопские – на последующих. Самым ранним, практически современным нашим источником оказываются сочинения Афанасия Александрийского, который рукополагал Фрументия как «апостола Эфиопии»; о нем же повествует целая серия нарративных памятников IV‑VI вв., находящихся между собой в отношениях сложной зависимости. Их рассказ восходит, видимо, к какомуто сочинению самого Эдесия [63]63
В. W. W. Dombrowski, F. A. Dombrowski, «Frumentius / Abba Salania: Zu den Nachrichten liber die Anfange des Christentums in Athiopien», Onens Cforistianus, vol. 68 (1984), S. 145. Такое сочинение, если оно существовало, было составлено по–сирийски: Сократ Схоластик пишет, что «мальчики… были не чужды греческого языка» (Socratis I» 19), откуда можно сделать вывод, что их родным был сирийский. Этому вполне соответствует сирийское происхождение некоторых базовых христианских слов эфиопского священного языка геэз – например, форма слова «церковь», ‘aqles(i)ya, выдающая сирийское посредство (R. М. Voigt, «Greek Loan‑Words in Gieiz (Classical Ethi°pic): The Role of Arabic, I», Graeco‑Arabica, vol. 14 (1991), p. 267).
[Закрыть]. Ближе всего к этому недошедшему источнику стоял латинский рассказ церковного историка Руфина, на него опирались Сократ Схоластик, несколько сокращавший оригинал, и Созомен, восстанавливавший сокращенное [64]64
Schoo,Die Quellen des Kirchenhistoriker Sowmmos (Berlin, 1911), S. 29.
[Закрыть]. Позднее ту же самую традицию несколько приукрашивают Феодорит и Геласий Кизический [65]65
A Glas, Die Kirchengeschichte(см. прим. 8), S. 17, 49—51, 81.
[Закрыть]. Но в целом рассказы этих авторов очень близки друг другу. Проблема же состоит в том, что нельзя быть до конца уверенным, действительно ли греко–римские источники имеют в виду именно Эфиопию: Ф. Альтхайм считает, что в действительности под «Дальней Индией» изначально подразумевался Йемен и лишь позднее Фрументий был переосмыслен как «апостол Эфиопии» [66]66
F. Altheim, Geschichte der Hunnen, Bd. V (Berlin, 1962), S. 158– 161.
[Закрыть]. Мы будем далее придерживаться традиционного взгляда, отдавая, тем не менее, себе отчет в том, до чего зыбки любые гипотезы относительно этого, первоначального периода миссии.
Итак, согласно Руфину и следующей за ним традиции, тирский философ Меропий отправился в путешествие по Красному морю (вовсе не с миссионерскими, а с познавательными целями!), взяв с собой юных учеников, Фрументия и Эдесия. Их корабль во время стоянки был захвачен варварами, которые перебили всех, кроме детей. Мальчиков подарили местному царю, и они выросли во дворце. Когда старый царь умер, а его наследник (царь Эзана эфиопских источников?) находился во младенчестве, царица–мать доверила Фрументию и Эдесию управлять страной. Тут‑то они и проявили свое христианское рвение. Вот как описывает их деятельность церковный историк V в. Геласий Кизический: «Они приказывали всем, кто жил вокруг, доставлять к ним всех тех римлян, которые туда попали (έπιξενουμένους), рассчитывая с их помощью сеять (δι αυτών… έγκατασπειραι προμηθούμενοι) среди «индов» (т. е. эфиопов? – С. И.)богопознание. Случай также им благоприятствовал: найдя тогда же некоторых [римлян], они побуждают тех, кто жил по римским обычаям, строить храмы, а если эти люди не имели права ставить алтари по причине отсутствия у них разрешения на священство (θυσιαστήρια πηγνύναι τώ μή παρείναι αύτοίς αύθεντίαν ίερωσυνης), то возводить церковные здания (οικους έκκλησιών) для собраний тех, кто встал на путь познания Бога. Отсюда повелся у окрестных «индов» обычай (πρόφασις) богопознания, в то время как Фрументий воздействовал на их честолюбие (φιλοτιμως αύτοις προσόντος), прибегая к благодеяниям, лести и увещеваниям» (Gelasius, р. 149, ср.: Socratis I, 19). Любопытно, что Созомен колеблется в определении того, наличествовала ли в деятельности Фрументия персональная инициатива: «Наверно, его побуждали [к этому] божественные знамения, или же Бог сам все это устраивал (θείαις ίσως προτραπείς επιφάνειας ή καί αυτομάτως του Θεου κινουντος)» (SozomeniII, 2, 4; 8). Феодорит чуть больше сообщает о методах проповеди Фрументия: «Он принял невозделанный народ (άγεώργητον έθνος)и взялся его с воодушевлением возделывать, соратником имея Богоданную благодать. Пользуясь апостольскими чудотворениями, он уловил тех, кто пытался противоречить ему при помощи аргументов. Чудеса (τερατουργία),являвшие свидетельство [истины] спорившим [против него], каждый день завоевывали множество [душ]» (Theo doreti НЕ ур. 73).
Через какое‑то время братья отпросились на родину. Эдесий вернулся в Тир, а Фрументий, как сказано у Геласия, «приехал в Александрию, сочтя, что было бы целесообразно не оставить без внимания Божье дело, свершаемое у варваров (ακόλουθον ειη τό γενόμενον παρα τοίς βαρβάροις εργον θεΙον μή περιϊδεΤν). Придя к Александрийскому епископу Афанасию… Фрументий рассказал ему обо всем происшедшем, подсказывая (ύπομιμνήσκει) ему мысль послать к ним епископов. Афанасий… сказал Фрументию: «Какого другого человека сможем мы найти, в котором дух Божий пребывал бы, как в тебе, брате, кто умел бы так правильно управить и наилучшим образом распорядиться тамошними церквями?«Рукоположив его в епископы, он повелел ему идти обратно к «индам» освящать тамошние церкви и пещись о тамошнем народе. После рукоположения на сего мужа, испускающего из себя лучи апостольские (άποστολικας άφιέντι ακτίνας), снизошла (προσετέθε) премногая благодать Божия. Прибыв в вышеозначенную внутреннюю Индию, он знамениями и [собственными] усилиями укреплял [христианское] благовествование. Он привлек к истинной вере Христовой великое множество «индов», которые через него получали божественное слово в наиболее чистом виде. Потому‑то среди этих народов количество церквей и рукоположений значительно возросло» (Gelasius, р. 149.4—150.17).
В любом случае следует помнить, что о каком бы регионе ни шла здесь речь, об Эфиопии, как считается традиционно, или о Йемене, куда помещает этот рассказ Ф. Альтхайм, в IV в. там могла иметь место лишь самая первоначальная, поверхностная христианизация. Реально в обоих регионах миссионерство приобрело сколько‑нибудь массовый характер не Ранее V в. (ср. с. 41, 75).
III
Индийская христианская традиция рисует апостола Фому как самого заправского миссионера – он якобы достиг государства Чола в Южной Индии; прибыл в порт Музирис на Малабарском берегу и основал семь церквей, обратив в христианство 6850 брахманов, 2590 кшатриев, 3780 вайшья, двух царей и семерых деревенских старост, которых рукоположил в епископы. Его могила (которую посетил в XIII в. Марко Поло) почиталась в Милапоре, около Мадраса. Нас интересует сейчас не столько историчность этой традиции [67]67
См. об этом: Мещерская, Деяния,с. 52—82; S. Н. Moffett, A History of Christianity in Asia. Beginning to 1500.Vol. I (San Francisco, 1992), p. 34—35.
[Закрыть], сколько полное отсутствие каких бы то ни было ее отражений на греческой почве. Мало этого – у греков в течение долгого времени вообще не существовало единого мнения о деятельности Фомы: в версии, восходящей к Оригену, апостол крестил вовсе не Индию, а Парфию [68]68
См.: Мещерская, Деяния,с. 68. Ср. с. 28.
[Закрыть], тогда как Индию, согласно первоначальной традиции, обратил апостол Варфоломей. Представления о географии носили в ту эпоху синкретический характер, и под термином «Индия» в разных греческих источниках могли подразумеваться и Цейлон, и Южная Аравия, и Эфиопия (ср. выше, с. 36). Пожалуй, в христианских текстах чаще всего «Индией» именовали территорию совр. Йемена и почти никогда – реальную Индию. Но для нас сейчас самое существенное в том, что, кого бы ни крестил Фома, первоначальная (сирийская и греческая) версия его деяний рисует апостола скорее как чародея и волшебника, нежели как миссионера, и сражается он скорее с институтом брака, нежели с языческими верованиями. Менее всего в герое «Деяний Иуды Фомы» можно узнать апостола! Далее мы увидим (см. с. 203), что образ Фомы как миссионера развился в более позднее время.
Первым миссионером в собственном смысле слова, достигшим «Индии», Евсевий Кесарийский в IV в. считал Пантена Александрийского: якобы этот человек во II в. «дошел до индов. Рассказывают, что он нашел у тамошних последователей Христа имевшееся там и до его прихода Евангелие от Матфея. Мол, один из апостолов, Варфоломей, проповедовал (κηρύξαΟ им и оставил Писание от Матфея на еврейском языке (Εβραίων γράμμασι),которое и сохранилось до вышеуказанного времени. Говорят, что он проявил такое рвение в отношении Слова Божия, что выступил в качестве провозвестника Христова Евангелия у восточных народов (κήρυκα του κατα Χρίστον ευαγγελίου τοίς έπ ανατολής εθνεσιν άναδειχθήναι),будучи послан до самой индийской земли. Ведь были же, были вплоть даже и до тех времен многие благовествователи Слова (ήσαν γάρ, ήσαν εις ετι τότε πλείους εύαγγελισταί του λόγου),пекшиеся использовать божественное рвение, в подражание апостолам, для взращивания и домостроения слова Божьего (ενθεον ζήλον άποστολικου μιμήματος συνεισφέρειν έπ αυξήσει καί οικοδομή του θείου λόγου προμηθούμενot)» (Eusebii Caesariensis HE, V, 10,2). В этом тексте обращает на себя внимание, помимо самого факта миссии, то обстоятельство, что Евсевий рассматривает время Пантена, конец II в., как все етцемиссионерское время, явно противопоставляя его своему собственному!
Кем был Пантен и почему он оказался в «Индии», Евсевий не сообщает, но скорее всего в его лице мы впервые сталкиваемся с еще одним важным отрядом непрофессиональных миссионеров – купцами. Характер связей между Средиземноморьем и странами в бассейне Индийского океана подсказывает, что и христианство пришло в «Индию» – Аравию через имперских купцов. Некоторые из них были греками: в сабейском языке (на котором говорило древнее население Южной Аравии) прослеживается два достоверных заимствования из греческой христианской лексики: qls‑n< εκκλησία«церковь» и ‘shmt< ευσχήμων«благообразный». Возможно также sbs< σέβας«священное» [69]69
A. F. L. Beeston, «The Foreigh Loanwords in Sabaic»,Arabia Felix .Beitrage zur Sprache und Kultur des vorislamischen Arabien. Festschrift Walter W. Muller zum 60. Geburtstag. Hrsg. von N. Nebes (Wiesbaden, 1984), p. 43.
[Закрыть]. О том, что религия проникала вместе с торговыми контактами, свидетельствует и грекоязычная надпись [70]70
В целом греческие надписи на Аравийском полуострове весьма немногочисленны (см.: J. Beaucamp, Ch. Robin, «Le Christianisme dans la Peninsule Arabique d’apres l’Epigraphie et l’Archeologie», ГМ, vol. 8 (1981), p. 52, 61).
[Закрыть], найденная в древнем йеменском порту Кана. В ней купец Косьма просит «единого бога» помочь его каравану [71]71
Ю. Г. Виноградов, «Греческая надпись из Южной Аравии», вестник Древней Истории, (1989), № 2, с. 164—167.
[Закрыть].
О «торговом» происхождении йеменского христианства [72]72
Заметим, кстати, что и позднее именно купцы составляли значительную часть христианского населения Аравии (cf.: Georgii Cedreni Histonarum compendium.Vol. I (Bonnae, 1838), p. 656).
[Закрыть]говорит несторианская «Хроника Са–ард», правда, относящая крещение к более позднему времени: «В стране Наджран в Йемене жил во времена Йездигерда (на рубеже IV‑V вв. – С. И.)знаменитый в округе купец по имени Ханнан. Как‑то он поехал по торговым делам в Константинополь, затем вернулся к себе, потом съездил в Персию. Проезжая через Хиру, он посетил тамошних христиан и узнал их учение. Там он получил крещение и оставался там какое‑то время. Оттуда он вернулся в свою страну и убедил соотечественников разделить с ним его религию. Он крестил членов своей семьи и других людей своей страны и окрестных земель» [73]73
Histoire nestorienne(см. прим. 4), p. 5—7, ср.: PO.Vol. 5 (1910), p. 329—331.
[Закрыть]. Обратим внимание: Ханнан посещает Византию – но там, в столице огосударствленного христианства, его религиозное чувство остается незатронутым. Лишь визит к каким‑то маргинальным, варварским христианам за пределами Империи (Хира была «столицей» независимого арабского племени лахмидов) разжигает в нем веру [74]74
И. Шахид утверждает, что «сияние великой христианской митрополии должно было оставить впечатление в душе предприимчивого купца» (I. Shahid, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century(Washington, 1989), p. 365), однако это утверждение строится на априорной концепции.
[Закрыть].
Другая версия христианизации «Индии» изложена Иоанном Никиуским (2 пол. VII в.): «Обитатели Индии пришли к познанию Бога и были просвещены благодаря деяниям одной святой женщины по имени Феогноста. Она была девицей, монахиней, ее захватили в плен в монастыре, расположенном на римской территории, и продали царю Йемена. Эта христианка была одарена высокой мерой благодати и многих излечила. Что касается царя Индии, то она обратила его в истинную веру, под ее влиянием он стал христианином, так же как и все обитатели Индии. Затем царь Индии и его подданные попросили императора Гонория дать им епископа. Узнав, что они приняли истинную религию и обратились к Богу, император испытал большую радость и дал им святого епископа по имени Феоний, который наставлял их, учил и укреплялв вере Бога нашего Христа, вплоть до тех пор, пока они не удостоились принять крещение – и все это в результате молитв святой девы Феогносты» [75]75
Chronique de Jean , p. 309.
[Закрыть]. Этот рассказ подозрительно похож на вышеописанное крещение ивиров (ср. с. 33), однако имя Феогносты, видимо, восходит к какой‑то иной традиции, тем более что такая святая упоминается в синаксаре сирийской (яковитской) церкви под 17 сентября; кроме того, не получает никакого объяснения появляющееся у Иоанна упоминание о Гонории – императоре Западноримской Империи на рубеже IV‑V вв.; ведь очевидно, что если кто и мог участвовать в христианизации этих далеких восточных областей, так это его брат Аркадий, правивший в Константинополе.
Окончательно все запутывает еще одна версия крещения «Индии», предлагаемая в качестве альтернативной тем же Иоанном Никиуским: «Обитатели этой страны приняли человека благородного происхождения по имени Афрудит, происхождения индийского, и выбрали его епископом. Он был рукоположен апостольским Афанасием Александрийским» [76]76
Ibid.
[Закрыть]. Здесь явно имеется в виду Фрументий [77]77
К сожалению, хроника Иоанна с источниковедческой точки зрения еще не исследована, и потому мы пока что не можем судить, откуда к нему попали столь странные сведения.
[Закрыть].
Есть и еще несколько разных традиций, приписывающих христианизацию Южной Аравии разным лицам – сирийскому святому Фемиону, эфиопскому святому Азкиру и др. [78]78
A. Papathanassiou, «Christian Mission in pre‑Islamic South Arabia», θεολογία,τ. 65 (1994), p. 136—137.
[Закрыть]По–видимому, ни одна из версий не отражает истинного хода событий – наиболее вероятно, что Йемен получил христианство в первые годы VI в., при императоре Анастасии, из северной Аравии [79]79
F. Altheim, R. Stiehl, Die Araber in der Alien Welt. Bd. IV (Berlin, 1967), S. 316—317.
[Закрыть]. Но в любом случае среди кандидатов в «апостолы Аравии» нет ни одного профессионального миссионера–одиночки, посланца Имперской церкви.
IV
Встретившаяся нам выше «купеческая» миссия имела место, видимо, не только на Востоке, но и в районе Черного моря. Хороший пример этому – культ святого Фоки Виноградаря, который, согласно Астерию Амасийскому (IV в.), считался покровителем моряков. Поскольку те по необходимости много путешествовали и в портах неизбежно общались с аборигенами, «чудо достигло и варваров: все дикие скифы, которые кочуют на противоположном берегу Евксинского понта, живут поблизости от Меотийского озера и реки Танаис, населяют Боспор и простираются до Фасиса, все служат Виноградарю. Отличаясь от нас всеми своими нравами и обычаями, лишь в этом одном они с нами единомысленны. Дикость их повадок смягчена истиной (τοις δε πασιν εθεσιν καί έπιτηδεύμασιν διεστώτες ήμών εις τοΰτο μόνον όμογνώμονες γίνονται τήν αγριότητα των τρόπων υπό τής αλήθειας έξημερούμενοι). Один князь и властитель тех мест, сложив с головы венок, украшенный золотом и самоцветными камнями, сняв с себя боевой панцирь, сделанный из драгоценного материала, – ведь варварское вооружение хвастливо и кичливо– и то и другое послал Богу через мученика [Фоку], посвятив ему начатки своего могущества и власти» [80]80
С. Datema, Astenus of Amasea. Homilies I‑XII(Leiden, 1970), p. 124.27—126.6.
[Закрыть].
Однако среди варваров могли очутиться не только пленники и купцы, но и политически неблагонадежные подданные Империи. Епифаний Кипрский пишет: «Старец Авдий подвергся изгнанию и был сослан императором в области Скифии… Проведя там много времени – сколько лет, не могу сказать – и продвигаясь дальше (πρόσω βαίνων) до самых внутренних областей Готии, он обратил (κατήχησεν) многих готов, отчего в самой Готии возникли и монастыри, и [христианское] житие, и девствование, и аскеза редкостные… А после его смерти многие появились из той же когорты епископы и некий Ураний из Месопотамии. Он поставил епископами нескольких людей из Готии» [81]81
Epiphanius, p. 248.
[Закрыть].
Случалось и наоборот: Григорий Просветитель Армении был эмигрантом, спасавшимся в римской Кесарии от политического преследования. Как сказано в греческой версии армянского памятника, называемого «История Агафангела», «он обучался в городе Кесарии [Каппадокийской] и, познакомившись (έν γνώσει… γενόμενος) с неким христианином, был научен страху Христового учения» [82]82
«Agathangellos»,Abhandlungen der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen , Bd. 35 (1889), S. 12.
[Закрыть]. «Агафангел» пишет, что назад в Армению, на службу тамошнему царю Трдату, Григорий отправился «по собственному выбору» (αύτοπροαιρέτως) [83]83
Ibid.
[Закрыть], тем самым он не являлся ни посланником Империи, ни уж тем более ее миссионером.
Итак, никого из тех проповедников христианства, о которых шла речь выше, никто не посылалв другие страны с целью проповеди там незнакомой варварам христианской религии. Более того, в ранней агиографии мотив миссионерства совершенно не встречается [84]84
Единственный повод, по которому агиографический персонаж может поехать к варварам, – это выкуп христианских пленных, ср. Житие св. Афиногена (La Passion irndite de s. Athenogene de Pedachtoe en Cappadoce/ Ed. P. Maraval [Subsidia hagiographica, N 75] (Bruxelles, 1990), p. 30—32).
[Закрыть]. Единственное свидетельство того, что в эту эпоху организованная миссия существовала, – это легенда о Херсонских мучениках (см. ниже, с. 82), относящая к 299 г. инициативу иерусалимского епископа Хермона по крещению варваров [85]85
Многие исследователи признавали аутентичность этой легенды (В. В. Латышев, «Жития св. епископов Херсонских», Записки имп. АН, VIII серия, т. 8, № 3 (1906), с. 35—37; С. П. Шестаков, Очерки по истории Херсонеса в VI‑X вв. по P.X.(Москва, 1908), с. 13—25, 139—141; М. И. Ростовцев, Античная декоративная живопись(Санкт–Петербург, 1914), с. 503—507; F. Halkin, «La passion des sept eveques de Cherson (Crimee)», AB, vol. 102 (1984), p. 352, n. 5 и др.), но многие и отрицали ее (I. Франко, Сьвятий Климент у Корсут(Льв1в, 1906), с. 151– 152; К. В. Харлампович, Рец. на кн.: «В. В. Латышев, Жития», Ученые записки Казанского университета,т. 75, кн. 2 (1908), с. 16—17; Е. Е. Голубинский, «Херсонские священномученики, память которых 8 марта», Известия Отделения русского языка и словесности имп. АН, т. 12 (1907), с. 263; П. Д. Диатроптов, «Распространение христианства в Херсонесе Таврическом в IV‑VI вв. н. э.», Античная гражданская °бщина(Москва, 1986), с. 131; В. Ф. Мещеряков, «О времени появле ния христианства в Херсонесе Таврическом», Аюпуалъные проблемы изучения истории религии и атеизма(Ленинград, 1978), с. 128 и др.).
[Закрыть], однако эта история вряд ли аутентична: во–первых, Иерусалим, из которого якобы были разосланы миссионеры по всему миру, вплоть до Эфесского Собора 431 г. имел, в качестве церковного центра, второстепенное значение. Во–вторых, христианская община в Херсоне утвердилась лишь в конце IV в. К самой легенде мы еще вернемся.
V
Религиозный переворот, происшедший в Империи в IV в., придал процессу обращения варваров новые, политические измерения. Во–первых, стихийная христианизация была задним числом «подверстана» под целенаправленную политику Константинополя; во–вторых, крещение стало восприниматься как залог подчинения варваров имперской воле. Весьма показателен в этом отношении рассказ Геласия Кизического о политике Константина Великого: «Боголюбивейший император, охваченный таким благочестием и верой в Бога, приуготовил многие… варварские народы к тому, чтобы они заключили с ним мир, в то время как Бог во множестве подчинял ему их (του θεοΰ αύτω ταΰτα καθυποτάξαντος),издревле враждовавших с римлянами» [86]86
Gelasius, р. 148.1—3.
[Закрыть]. В структуре повествования Геласия заметны сразу две вольные или невольные подмены: с одной стороны, благочестие императора становится причиной не христианизации варварских народов, как этого можно было бы ожидать, а заключения ими мира; с другой же, использованный автором грамматический оборот «Родительный самостоятельный» оставляет несколько неясным, каково соотношение между действиями Бога и императора: то ли первый подчинял варваров независимо от миролюбивых усилий последнего, то ли «заключение мира» и «подчинение» – это вообще одно и то же. Однако продолжим прерванную цитату: «В то время свершилось множество добавлений к апостольским проповеданиям (προσθήκαι τοΤς άποστολικοΤς… κηρύγμασιν).Ведь если Матфей проповедовал парфянам, Варфоломей – эфиопам, а Фома – индам из Великой Индии, то индам, [жившим] дальше парфян и некоторым другим соседним с ними народам слово о Христе еще не было известно» [87]87
Ibid., р. 148.7—12.
[Закрыть]. Дальше в тексте Геласия речь идет о Фрументии и Эдесии [88]88
Эта географическая логика и подсказала Ф. Альтхайму идею, что в качестве места проповеди для Фрумения оставался лишь Йемен, см.: F. Altheim, Geschichte der Ниппеп(см. прим. 15), S. 158—159.
[Закрыть], которые, как мы знаем (ср. с. 36), вовсе не были посланы на апостольское служение императором. Потом Геласий рассказывает о христианизации Грузии – но ведь и она началась без участия Империи (ср. с. 33); о том, на какой стадии вступил в дело Константин, становится ясно из повествования Феодорита: пленница (Нина) «убедила вождя этого народа послать к римскому императору и просить, чтобы был им отправлен учитель благочестия (διδάσκαλον τής εύσεβείας)… [император] Константин вместе с очень богатыми дарами выслал в качестве вестника богопознания для этого народа (κήρυκα τω εθνει τής θεογνωσίας) мужа, украшенного верой, разумом и [образом] жизни, а также удостоенного священства» [89]89
Theodoreti НЕ, р. 76.
[Закрыть]. Созомен добавляет к этому рассказу, что царь предлагал императору, «по наущению пленницы (υποθεμένης τής αιχμαλώτου)… союзничество и договор» (Sozomeni II, 7, 12). Таким образом, Империя проявляет себя, причем в пассивной роли, лишь на поздних этапах уже давно начавшегося процесса, если проявляет вообще – и, однако, ей все равно приписывается провиденциальная роль. Кроме того, церковные историки подвергают разновременные события передатировке, дабы придать им новое осмысление. Так, в Эфиопии христианство было объявлено государственной религией примерно в 338—346 гг., однако Руфин намеренно отнес это событие к царствованию Константина Великого [90]90
F. Thelamon, Patens et chretiens(см. прим. 9), p. 62, ср.: S. P. Petrides, «Essai sur Г Evangelisation de l’Ethiopie, sa date et son protagoniste», Abba Salama, vol. 3 (1972), p. 214; F. Altheim, Geschichte der Hunnen(см. прим. 15), S. 161—162.
[Закрыть]. Явно теми же причинами вызван и разнобой в датировке крещения Грузии: по одной гипотезе, оно произошло в 325—330 гг., по другой – в 355—356 гг. [91]91
The Church History of Rufinus of Aquileia, Books 10 and 11 (New York – Oxford, 1997), p. 47—48.
[Закрыть]Первая дата явно восходит к попыткам приписать все Константину Великому.