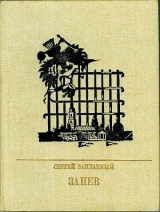
Текст книги "Запев. Повесть о Петре Запорожце"
Автор книги: Сергей Заплавный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
3
А через две недели в Петербург вернулся Кржижановский.
Петр ждал его с нетерпением, при любом удобном случае заворачивал на Коломенскую, 7, к Старкову, где тот держал для Глеба место, – и все же приезд Кржижановского пропустил.
Встретились они неожиданно – в столовой Технологического института. Удивились. Обнялись. Нашли укромное местечко у окна.
– До чего же, Петя, я по нашей северной Пальмире соскучился! – громким шепотом говорил Глеб, притиснув небольшое острое плечо к широкому плечу Петра. – Точнее, по вас! Восемь месяцев не был! Привык к другому окружению. Представь себе косматых алхимиков, которые ждут взрыва от смеси туманных фраз и заклинаний. Серьезных массовиков мало, да и те слишком замкнуты. Делал что мог. Издали следил за вами. Старался уловить каждый новый поворот мысли, событий. Издали видней. И знаешь, что понял? Старик – это глыба, которая перегородила поток и теперь пускает его в другом направлении. Сегодня я говорил с ним. Отвык. Такое ощущение, будто из заросшего бурьяном переулка вынесся на громыхающий проспект! Движение здесь погуще, народу побольше. Перестраиваться надо.
Глаза у Глеба большие, доверчивые. Они как бы вторят словам, их образному строю, ладу. Часы на стене отбили обеденный час.
– Сейчас Вася спустится, – спохватился Кржижанс вский. – Устраивать меня на службу пришел. На кафедру…
– Уже спустился, – сообщил Петр, увидев вышагивающего по зале Старкова. – С больших небес да на маленькую землю.
Василий весьма нескладен, шагает, поводя коленями в стороны, как-то странно – хотя это не мешает ему быть ловким и проворным.
– Небось обо мне лукавая речь? – пожав Петру руку, добродушно осведомился он. – Тогда продолжайте. Мне не впервой. Было бы дозволено в вашей беседе откушать за собственный счет.
– А мне – в вашей, – отпарировал Глеб. – Садись, |я обслужу.
Но Старков пошел ему помогать. Они принесли три порции.
– У англичан за первым обедом следует второй, – сказал Глеб. – Придется тебе, Петя, сегодня побыть англичанином.
– Пусть, – согласился Петр. – Только на англичанина я не потяну. Данные не те. Лучше уж на верблюда. Он про запас горбы набивает. А то сил нет уже ноги по заставам таскать.
– Что, много вечерок? – полюбопытствовал Глеб.
– Хватает, – не без гордости посмотрел на него Петр. – Сейчас еще две прибавилось.
– У других ни одной, а у него растут как грибы, – недоверчиво хмыкнул Старков.
Петр не прочь рассказать друзьям о встрече у Морозова на Богомоловской, а затем в Огородном переулке у Акимова; о Фене Норинской, которая попросила взять еще кружок на Фонтанке, 179, куда она перебралась на жительство к Василию Ивановичу Галлу и его жене; о Галле, который и правда еще в кружках Михаила Бруснева начинал, – вот уж он действительно англичанин, и в прямом и переносном смысле: слесарь, а манеры имеет аристократические и по паспорту пишется подданным Великобритании… Но столовая не то место, чтобы без оглядки, в подробностях рассказывать об этом.
– А я у тебя за Нарвской заставой вечерку взял, – отставив суповую миску, сообщил Старков. – Соседями будем. Не возражаешь?
– Валяй. Ведь и я у тебя, за Невской, бываю.
– Вот это, я понимаю, теснота! – засмеялся Кржижановский. – А не поменяться ли вам вечерками, братцы? Ей-богу. Мотаетесь из конца в конец города, время и силы зря тратите.
– В этом что-то есть, – задумался Василий. – А что, Петро? Твоих глазовских я почти всех знаю. И они меня. Проблем не будет. А своих я готов прямо сегодня передать. Я у них два раза и был-то. Пускай сразу к тебе привыкают.
– Подумать надо.
– Узнаю упрямого Гуцула, – сказал Кржижановский.
– А этого – петуха? – кивнул в сторону Старкова Петр.
Лицо у Василия узкое и длинное, глаза небольшие, круглые, борода сплюснута с боков, а высокая волна волос и впрямь напоминает петушиный гребень.
– Ты меня с кем-то путаешь, – укоризненно посмотрел на Петра Старков. – В петухах у нас теперь Чернышев ходит.
– Первый раз слышу.
– Да уж так. В январе раза три на вечерки прорывался. К Бабушкину и другим. Там его Петухом и окрестили. За лихой наскок.
Илларион Чернышев учится в Технологическом последнем курсе. Более года назад он собрал свою rpуппу для руководства рабочим движением, решив посоперничать. со «стариками». По части марксизма он не силен, зато имеет диктаторские замашки.
– Так и быть, я уже подумал, – сказал Петр с улыбкой. – Меняться так меняться. Может, и впрямь будет.
– Узнаю разумного Гуцула, – похвалил его Кржижановский. – Он долго думает, но быстро решает. Знаете братцы, я пока один, аки перст, работой не обременен, потому готов следовать за вами. Хотя бы посредником. Вот только поднимусь в директорат. Я мигом…
– Подождем, – заверил его Петр. – Между прочим, через два часа на Путиловском общий молебен. Рабочим разрешено приводить родных. Любопытное представление перед базар-деньгой!
– Как это «базар-деньга»? – заинтересовался Глеб.
– А так. Завтра утром от Чугунного переулка до шлагбаума торговая братия выставит палатки и столики с угощением – ешь, пей, радуйся. А на задах Новоовсянниковской и Новопроложенной улиц откроется толкучка. Получил деньги за две недели – и сюда. Жена его у главных ворот караулит – получку забрать, а он через морские выйдет. И в разгул! С субботы на воскресенье.
– На заводских молебнах я еще не был, – сказал Кржижановский. – Интересно посмотреть.
– Успеем и на молебен…
Наступило некоторое потепление. Розовое, будто воспаленное, солнце окрасило небо над крышами неровными отсветами. Но от Финского залива дул стылый ветер.
Снова город заполнили торговые сани: на этот раз – к близкой уже масленице…
На Путиловский они и впрямь вошли беспрепятственно.
На ближних церквах гудели колокола.
Помост для молебна окружен парусиновым шатром. Его поддерживают металлические дуги, к которым подвешены лампады, иконы, парчовые занавеси. Дальше помоста на территорию хода нет.
Толпа нетерпеливо ждет. Немало в ней инженеров, мастеров.
Неожиданно раздались голоса:
– Николай Иванович прибыли… Данилевский…
По свидетельству рабочих, знавших Путилова, нынешний директор завода – живое повторение своего знаменитого предшественника. Оба Николаи Ивановичи. Лицом, голосом, фигурой похожи, как родные братья.
Пролетка с Данилевским остановилась неподалеку. Не выходя из нее, директор сдернул с головы отороченную соболями шапку и низко поклонился собравшимся. Голова у него большая и лысая, только на висках остались тронутые сединой клинышки, от которых начинается борода; лоб изрезан глубокими морщинами; под черными крылатыми бровями упрятаны внимательные серые глаза.
Следом отвесил поклон путиловцам худощавый старичок в промасленной одежде. Лнцо у него невыразительное, волосы торчат непрцбранно, нос мясистый.
– Сверловщик с Семянниковского, – объяснил товарищам Петр. – Данилевский у него практиковался в молодости. Прямо с работы привозит.
Директор помог сойти своему рабочему наставнику, подхватил его под руку, и они неспешно двинулись к почетному месту.
Туда же чуть позже прошествовал заводской священник, не старый еще, статный н значительный, в надетой поверх теплой одежды епитрахили. За ним семенили члены церковного совета.
Началось богослужение, долгое, истовое.
Но вот священника сменил на помосте Данилевский.
Первым делом он обратился ко всевышнему с просьбой способствовать заводским делам, не взыскивать строго с тех, кто допустил неумышленные прегрешения. Потом, разохотившись, заговорил о братстве рабочих людей с инженерами и финансистами, о грядущих достижениям этого братства, о рельсах, по которым идут поезда, сделанные здесь, о судах, которые стучатся в разные страны… Под конец директор призвал вносить пожертвования на заводскую церковь, которая скоро будет начата строительством.
Уехал Данилевский на той же пролетке – в обнимку со сверловщиком с Семянниковского завода.
– Вот это агитация, – уже за воротами, когда распалась толпа, сказал Кржижановский. – По-своему убедительная.
– Да уж, не лыком шиты, – согласился Старков. – Когда надо, не брезгуют и дружбой с рабочим человеком. Актеры…
По пути к Огородному переулку он принялся рассказывать Петру о своем кружке:
– Держателя вечерки зовут Борисом Ивановичем. Фамилия Зиновьев. Лет ему, я думаю, девятнадцать-двадцать. Окончил три группы начального училища. Работал на «Новом Адмиралтействе», теперь на Путиловском. Насколько я успел заметить, к наукам жаден. Особо к нашей. Судит разумно. Готов на открытый вызов. И люди к нему тянутся.
Огородный переулок вытянулся по ходу Путиловской железнодорожной линии. Здесь обитают главным образом мастеровые с выучкой – токари и слесари. Чтобы жить среди них, нужны не только деньги, но и авторитетные рекомендации.
– Здесь, – сообщил Старков, направляясь к двухэтажному бревенчатому дому мимо заиндевевшей колодезной будки.
Будку эту Петр хорошо запомнил: в прошлый раз, возвращаясь от Акимова, поскользнулся на присыпанной снежком наледи.
Дверь открыл фасонисто одетый крепыш. Да это же Карамышев – тот самый, что перед рождеством сопровождал Ульяновых, Чеботарева и Петра по Путиловскому заводу!
– Каким случаем? – не сумел скрыть удивления и Карамышев.
– Да вот… зашел объяспить, что такое рефутация, – нашелся Петр. – Прошлый раз как-то не получилось.
– И что же это такое?
– Опровержение.
– А при чем тут… рефутация, если вы тогда просто-напросто хотели от меня отделаться? Чтобы я не ходил за вами.
– Раз не ходил, следовательно, и опровергать нечего.
Рядом с Карамышевым возник высокий, ловко скроенный паренек.
– Получил, Петяша? – улыбнулся он Карамышеву. – Знакомьтесь, – предложил Старков. – Борис Иванович.
Зиновьев понравился Петру. Уж очень хорошее у него лицо: тонкое, правильное, освещенное мыслью. Даже когда он серьезен, на губах теплится улыбка. Вспыхивает она неожиданно, поджигая щеки девичьим румянцем, и так же неожиданно гаснет.
– Теперь вы будете иметь дело с Василием Федоровичем, – сказал Старков, представляя Петра.
– А мне запомнилось другое имя, – вылез Карамышев.
– Привыкайте к этому, – посоветовал ему Петр.
4
В начале февраля Сильвин получил место домашнего учителя в Царском Селе. К Петру он пришел за содействием.
– Выручай, честное слово! Тут совпадение вышло: Гарин предложил мне урок за двадцать рублей в месяц, с обедом и проездными до университета. Не мог же я отказаться? А теперь не знаю, как и сказать об этом Ванееву. Обидчивый он. Подумает еще, что я сбежать решил. Были у нас с ним недоразумения… Так, всякие пустяки. Поговорил бы ты с ним, подготовил. Ол тебя послушает.
– К какому Гарину? – уточнил Петр.
– К тому самому. К писателю. Я ведь рассказывал.
– Первый раз слышу.
– Значит, кому-то другому… Был случай, имели мы несколько встреч в прошлом году. А перед масленицей опять столкнулись. Он и позвал… Ну поговори, что тебе стоит?
Петр рассердился:
– О чем я могу, Миша, говорить, если сам толком ничего не знаю? Ты сядь, но на пожар ведь. Расскажи по порядку.
Рассказывая, Сильвин обычно производит много ненужных движений. Вот и теперь он вдруг ухватил себя за нос, стал мять его, потом чиркнул ладонью о ладонь, бросил руки на колени и заиграл пальцами.
– Есть у нас в Нижнем адвокат Карпов. От него многие зависят. И мой родитель в том числе. Упросил меня учителем на летние вакации к карповским девицам. Как откажешься? Пришлось брать. Тем более что я учусь на юридическом факультете, и может статься, пути наши еще сойдутся. А имение Карпова располагается в Бугурусланском уезде Самарской губернии. Места для меня новые. В двадцати пяти верстах от него – лечебное заведение; Сергиевские минеральные воды. Мне-то они ни к чему, эти воды, а барышни наладились туда ездить. Им танцы подавай, публику, кавалеров и все такое.
Михаил увлекся, заговорил ровнее, без гримас:
– Как-то жду их. Злюсь. Рядом со мной на лавочке устроился господин в мундире путей сообщения. У него в курзале сестра и дочка. Разговорились. Оказалось – Гарин. Я у него тогда только «Детство Тёмы» читал. Но в мартовском номере «Русской жизни» за девяносто второй год были напечатаны очерки – «Несколько лет в деревне». Речь там как раз о его поместье в Гундуронке. А Гундуровка эта в соседстве с имением Карпова. Такое совпадение…
Петр слушал Сильвина с интересом. Гарина он видел недавно – у «восприемника» своего, Николая Леонидовича Щукина. На фоне прочих гостей профессора – а среди них было немало именитых – этот человек выделялся и обликом своим, и манерами, и речью. Особенно хороши его юные глаза. Синие-синие. Их оттеняют черные брови, красноватый, по-крестьянски обветренный лоб с белой полоской от фуражки, слегка вьющиеся волосы, отбеленные сединой. Пышные усы и бородку седина еще только-только припорошила. На щеках румянец. Молодой старик… хотя какой он старик? Чуть более сорока…
– В тот раз карповским девицам нашлись провожатые, – продолжал Сильвин. – Тайком и укатили. Хватился я, когда местные компании разъезжаться стали. Беда, честное слово… А Гарину весело, он розыгрыши любит. Ну и вот, сестру и дочь пристроил к знакомым, что мимо Гундуровки поедут, а меня к Карповым на своей коляске повез. Да-а… Едем. Ночь теплая, звездная. Благодать да и только. От пустяков свернули к серьезному разговору. У Гарина к жизни свое отношение. Инженерное. В Гундуровке он что-то вроде народной общины завел.
Решил показать крестьянам культурную обработку земли; Школу открыл. Мельницу построил, водяную молотилку. К немцам-колонистам за примером ездил. Хлеб продавал с выгодой, сплавляя его до Рыбинска. Но и жгли его, и обманывали! Разувериться в общинах он не разуверился, но и не таким стал наивным. Теперь видит спасение России в сети железных дорог, в капиталистическом укладе. Только они, дескать, дадут толчок земледелию и промышленности, освободят крестьян от грязи и дикости. А потом в стихи ударился. Гейне. Подожди, сейчас вспомню… Ага, кажется, так: «Бей в барабан и не бойся, Целуй маркитантку… (Здесь я забыл). Вот смысл… та-та-та… искусства, Вот смысл философии всей!» Маркитантка, которую он советует целовать, это жизнь. Словом, любит пожить человек! Его бьют, а он радуется! Природа у него такая. Аж ноздри раздуваются…
По голосу, по выражению лица Сильвина трудно понять, одобряет он Гарина или негодует. Скорее, все-таки одобряет.
– …Едва он до философии добрался, я тоже на нее перешел – только на философию марксовой экономики. Человек практического дела да еще с такими широкими взглядами просто не может относиться глухо к социал-демократическим идеям, к науке Маркса! А Гарин, оказывается, знает о ней понаслышке. Некогда ему – ездит, строит, пишет, с маркитанткой своей милуется. Голова седая, а мысли под сединой покуда зеленые… Доехали, стали прощаться. Он и любопытствует: нет ли у меня литературы по марксизму. Я и привез. «Манифест Коммунистической партии». Мне его Владимир Ильич на лето одолжил. Кстати пришлось.
– «Манифест» всегда кстати, – кивнул Петр.
– Да ты слушай! – с укоризной посмотрел Сильвин на него. – Задним числом узнал я нынче, откуда взялось «Русское богатство». Его Гарин купил! Да-да. Взял у купца закладные под Гундуровку. Потом чуть ли не с год устраивал дела. Нашел пайщиков, сделал подписку, уладил отношения с цензурой, составил редакцию. Сначала в ней главными были Станюкович, Иванчин-Писарев, Кривенко. Потом место главного редактора занял Михайловский. А жена Гарина, Надежда Валериевна, стала издательницей. Тут Михайловский и принялся собирать вокруг себя «друзей народа»… Вообще-то настоящая фамилия Гарина тоже Михайловский. Только Николай Георгиевич. Чтобы не вышло путаницы, он и взял себе литературную подпись. Меньшего сынишку Артемия дома зовут Гарей. Вот и получился писатель Гарин… Насколько я теперь понимаю, согласия у однофамильцев с самого начала не было. Двум медведям в одной берлоге не ужиться. Гарин о «Русском богатстве» говорит теперь не иначе как о журнал-ресторане, а о самом Михайловском – как о патентованном поваре. Еще Гарин думает, что под началом Михайловского журнал долго не продержится – слишком уж Николай Константинович барин, для живой жизни оглох, хочет превратить сон прошлого в действительность. Да только не похоже, что «Русское богатство» идет к упадку. С Кривенко Михайловский рассорился и с декабря поставил на его место Короленко. Нюх у него на хороших литераторов есть. Народнические бредни умеет подпереть хорошей беллетристикой…
Рассказ Сильвина взволновал Петра.
– Судя по всему, в Гарине можно расшевелить марксиста. Именно такие сторонники нам нужны! Во всех слоях. Так что уроки в Царском Селе надо вменить тебе в задание, Миша. Этот вопрос я подниму на ближайшем собрании группы. Думаю, меня поддержат. В том числе Ванеев… Но я с ним и до собрания поговорю. По-свойски.
– Ловко у тебя выходит, – обрадовался Михаил. – Значит, не я в Царское Село уезжаю, а меня туда надо послать? Ох и сообразительный же ты, Гуцул! А с виду не-копай-нога!.. Так я побегу, что ли? – и уже с порога вспомнил: – Антонина о тебе спрашивала.
– Какая?
– А у тебя их много? С Саперного, какая же еще? Никитина!
Петр смутился. Последние дни воспоминания о молоденькой прядильщице тревожили его. Пока ходил в кружок к Петровым, не было такого. А теперь стало недоставать робкого, внимательного взгляда, ждущей улыбки, не очень толковых вопросов, на которые ткачи досадливо фыркали, раздражались, а он не умел ответить коротко…
– Как дела у Петровых? – спросил он. – Не paспались?
– Не-е-т! Мы теперь на общие темы беседуем мало. Главное – завод, фабрика, что и как… Тут они не спотыкаются. Григорий больше не горланит, поутих. Филимон, правда, запропал куда-то…
– На Обуховском он. Я его в кружок к Рядову пристроил.
– Ловко. Теперь, небось, Антонину уведешь?
– Задумал бежать, так нечего лежать, – сказал Петр, заботливо, как на мальчонке, поправляя на Сильвине шарф. – До Царского Села не ближний свет.
– А я поездом, – не понял его шутки Михаил. – Успею!
Ванеев встретил известие о возможном переезде Сильвина в Царское Село на удивление спокойно.
– Между прочим, я тоже съезжаю отсюда, – сообщил он. – Нашел место в Измайловских ротах, поблизости от института. Там комната над землей, теплая, как раз для одного. А то живешь будто в пропасти. Грудь ломит, нос раздуло.
– Видишь, как все удачно складывается, – сказал Петр. – У вас новоселье, и мне от здешнего дворника прятаться не надо. Начались весенние перелеты…
– Ты о чем? – не понял Ванеев.
Так ведь Глеб из каких краев вернулся? Из Нижних. За ним должна быть Зина Невзорова. А здесь свои цыгане… Известная тебе Феня Поринская едет с Петергофского шоссе на Фонтанку, известный тебе Михаил Сильвин – с Троицкого проспекта в Царское Село, а наш общий друг Анатолий Ванеев с Троицкого следует к Измайловские роты. И это, по-моему, только начало.
– Красочно описываешь, – невольно улыбнулся Анатолий. – Тебя, небось, Сильвин подослал? Сознавайся.
. – При чем тут Сильвин? По собственному побуждению. Подкормить решил. Мне родители сальца да ковбасок к масленице прислали. Тебе же правятся украинские ковбаски?
– Ну и хитрый же ты, Петро!
– Ты, Анатоля, хитрых-то еще не видел.
– Где уж мне, – кисло подтвердил Ванеев. – Кружков у меня кот наплакал, опыта тоже. Только и гожусь на подмену да на присутствие.
В его словах прозвучала обида. Прежде бы Петр ее не заметил, да, наверное, и не замечал, а теперь она ему явственно услышалась, вызвав чувство вины.
По натуре Ванеев человек деятельный. Это открылось неожиданно – летом, когда революция, по едкому выражению Шелгунова, перебирается на дачи или на заработки. Анатолий в отличие от других далеко не поехал, устроился летним учителем в Териоках, чтобы тискать на гектографе «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Он же брошюровал тетради-выпуски сначала на Садовой улице, потом на Троицком проспекте. Этот его поступок ие прошел незамеченным.
Особенно переменился к Ванееву Ульянов. В их отношениях появилась близость, доверительность.
В то же время Анатолий не силен пока по части собственных начинаний.
– О кружке я и хотел с тобой поговорить, – сказал Петр. – Не возьмешься ли вестн занятия у Фени Норинской? Она как раз подходящего человека ищет. Просила меня, да я и со своими не управляюсь. Хожу временно, чтобы от «петухов» уберечь.
– Правда? – не сумел скрыть радости Ванеев. – Не откажусь.
Он засуетился, поставил на огонь воду для чая.
– Когда надо идти к Фене?
– Успеешь. Сперва давай разделаемся с ковбасками.
В комнате полутемно. На стенах метались каминные отсветы. Через маленькие окошки продавливался шум цроспекта – цокот копыт, голоса, похожие на шорохи.
– Ты, Петро, о хитрых агитаторах заговорил, – напомнил Ванеев. – Раз уж мне не пришлось их видеть, расскажи.
– Могу. Но предупреждаю, речь про моего батька пойдет. Про Кузьму Ивановича.
– Начало хорошее. Интересно, что дальше?
– А ничего. Он под Киевом лесным смотрителем работает. Прошлым летом были мы с ним в одном селе. Собрал батька крестьян, чтобы напомнить про лесные правила. Наставляет: не жги, не воруй, не вреди! Те на него волками смотрят: холуй панский… А он посмеивается в усы. Карманный платок достал, лицо отереть. Отер, да запрятывать не стал, раскинул перед собой, ладонями разгладил. Потом вынул щепотку ржаных зерен, высыпал на одной половине. Еще две жмени положил рядом – большой горкой. Крестьяне заинтересовались: для чего это? А он шевелит зерна, положенные щепотью, и напевает:
Пани знають – пють-гуляють
В золотых палатах,
Та не знають, що диеться
У мужицьких хатах…
И вдруг – р-раз! – тряхнул платок. Щепотка и рассыпалась. Большой горке – никакого урону. Тогда батько вновь разделил зерно, как было прежде. Снова напевает:
Ну-бо, хлопци, повставаймо,
Годи, годи спати,
Годи катам на поруги
Себе виддавати.
И снова тряхнул платок, но с другого конца. Зерна из большой горки легко покрыли малую. Батько и говорит: «В божьем писании истинно сказано: возстанут раби труждающие! Аминь!» Тогда всем понятно стало, о чем он… Против зерна, народных песен да божьего писания что ж сказать? А он свое гнет: не жги, не воруй, не вреди, потому как панский лес завтра может стать общим…
– Теперь ясно, откуда у тебя что берется, – уважительно сказал Ванеев. – От батьки!
– Э нет, мне до его мудрости еще далеко.
Петр вдруг почувствовал неодолимое желание закончить песню, как бы продлив таким неожиданным образом встречу с отцом, с родной речью, со своей украйней Русью. Он положил руку на плечо Ванеева и, уже не нацевая, как прежде, вполголоса, а отдаваясь мелодии полностью, загремел:
Ну-бо, хлопци, повставаймо,
Пора подоспила:
Верить, хлопци, хто ружницю,
Хто пистоль, хто вила.
Ванеев начал подпевать ему без слов.
Берить, баби, макагони,
Дивки – мотовила,
Берить уси хто що попав,
– Ворогив на вила!
Он так увлекся, что ие расслышал условного стука в дверь. Стук повторился. Два удара кряду, остановка, потом еще три.
– Новоявленный Гарин явился! – высказал догадку Ванеев. – Царскосельский отпущенник. Ну-ка, посмотрим…
Увидев рядом с Сильвиным Ульянова, он осекся. Зато Михаил, наслаждаясь его растерянностью, преисполнился красноречием.
– Все ясно, – сказал он, картинно вдыхая запах сала и колбасы. – Один из двух получил гастрономическое подкрепление, другой готов составить ему компанию. А пока что оба отпевают харч. Поможем, Владимир Ильич?
– Неудобно, Михаил Александрович.
– Пустяки! Не знаю, как вы, а я, например, полдня не ел. – Сильвин отломил кусок колбасы и поспешил со своей добычей к печи. – Ух, продрог!
Он вытянул над огнем одну руку, потом вторую. Наконец нашел выход из положения: сунул колбасу в рот и стал греть обе руки сразу. Лицо у него сделалось желто-красным, свирепым.
– Индеец из племени делаваров, – не без иронии заметил Ванеев. – Кровожадное чудовище у мирного очага.
Ульянов тоже подсел к огню. Для Анатолия и Петра места не хватило. Что ж, можно и постоять. Несколько минут они провели так, радуясь теплу домашнего костра, ощущая близость, которая не нуждается в словах.
Забулькала вода в чайнике, возвращая их к реальностям полухолодной студенческой комнаты. Ванеев достал заварку, глиняный горшок и принялся колдовать над ним.
– Кстати, Михаил Александрович, что слышно в ваших кружках о событиях в порту «Нового Адмиралтейства»? – поинтересовался у него Ульянов. – Похоже, там назревает забастовка?
– Уже назрела! – с жаром ответил Сильвин и принялся рассказывать: – Перед масленицей командир порта Верховский объявил новые правила – работу начинать не в семь утра, как это было раньше, а в шесть тридцать. Плюс к этому снять по пятнадцати минут на послеобеденный перекур. Шестого февраля некоторые портовики пришли по-прежнему в семь. Их тут же оштрафовали. Во вторник – опять опоздания. На этот раз человек сто. Сторожа, как им было велено, замкнули ворота в шесть тридцать. Рабочие взломали ворота. Теперь осталось спичку бросить… – И тут Сильвина осенило: – А что, если воззвание к портовикам написать?
– Непременно! И не откладывая, – ответил Ульянов. – Рабочим следует разъяснить, что их сила в порядке и сплоченности. Никакой анархии! И еще, пусть требуют отмены новых правил. До победного конца. Это архиважно именно сейчас.
– Я напишу. Ночью же! – пообещал Сильвин.
– Кстати, волнения в порту не единственны. И на Семянниковском неспокойно. Кржижановский подготовил новый листок. Вот его текст.
– Можно я прочитаю? – потянулся к нему Ванеев. Голос у Анатолия глуховатый, но сильный. Каждое слово он произносит отчетливо, будто школьный учитель. Интонации то поднимаются, то падают, создавая выразительный рисунок. И этот рисунок как нельзя лучше передает стиль речи Кржижановского.
– «…Знаете, есть такая игрушка: подавишь пружину – и выскочит солдат с саблей. Так оно вышло и на Семянниковском заводе, так будет выходить везде: заводчики и заводские прихвостни – это пружина; подавишь ее разок – и появятся те куклы, которых она приводит в движение: прокуроры, полиция и жандармы.
Возьми стальную пружину, надави ее разок да отпусти, она тебя же ударит, и больше ничего. Но всякий из нас знает, что если постоянно, неотступно давить эту пружину, не отпуская ее, то слабеет ее сила и портится весь механизм, хотя бы и не такой хитрой, как наша. Это надо записать каждому рабочему в своем мозгу.
Мы давим на эту пружину толчками, а она на нас давит постоянно: во-первых, нам надо перенять эту ее манеру. Как-никак, а пружина уступает только одному давлению: подавили семянниковские рабочие, и жалованье выдали, и куколок своих, струхнув, прислали; сам господин градоначальник послал офицера с деньгами. Поослабла сила давленья – пружина снова оттопырилась и господин градоначальник, сидя в своем уютном кабинете, распоряжается, кому куда из лучших рабочих ехать из Питера. Значит, давить-то нужно, но уж давить, так давить дружней, всем в одну сторону, и не отпускать, а то опять только еще больней ударит…
Много дела еще предстоит русскому рабочему, много будет жертв с его стороны, но не безнадежна его работа, и пора, уже давно пора к ней приступать. Да и какой ему выбор ставит сама жизнь? Превратиться совсем в вьючного животного, которое только тупо смотрит, как на него все накладывают одну непосильную тяжесть за другой, – да разве это не равносильно умерщвлению в себе человеческого образа, да и не только в себе, а и в своих ближних, всех, для кого живешь и работаешь?»
Далее Кржижановский сравнивал жизнь русского рабочего с жизнью рабочих Англии и Америки, отмечал немалые завоевания последних в борьбе за свои права, справедливо подчеркивал, что способность бороться вырабатывается только борьбой…
Петру невольно вспомнилось воззвание, написанное Ульяновым: ни одного лишнего слова, предложения короткие, ясные, запоминающиеся; за внешней сухостью – доказательность, точность мысли, напор чувств. Что и говорить, сравнение не в пользу Глеба. Он разбрасывается, хочет охватить многое, но от этого сбивается, подолгу кружит на одном месте, повторяется.
– Да тут не воззвание, а целый трактат! – высказался скорый на оценки Сильвип. – Тискать будет хлопотно, распространять и читать – тоже. Уж больно много ненужной лирики!
– Множить листок и правда будет не легко, – согласился Ульянов. – А вот лирика здесь нужна. В ней есть не только сиюминутные требования, но и политические задачи.
– В первом подходе, – уточнил Сильвин.
Так ведь и все мы пока что недалеко шагнули, Михаил Александрович. Еще только-только собираемся…
Масленая неделя, как известно, нарастает постепенно: в понедельник ее встречают, во вторник начинаются розыгрыши, потехи, катания с гор и на лошадях; среда отведена на лакомства, если они, конечно, есть; в широкий четверг разгулье достигает своей высоты; в пятницу начинаются тещины вечерки, в субботу – золовкины посиделки, в воскресенье – проводы, а далее наступает великий пост. Иные его соблюдают, иные продолжают гулять еще неделю, прозванную за неуважение к божьему календарю «немецкой масленицей».
Вот и события в порту «Нового Адмиралтейства» развивались с той же последовательностью: за первыми, несогласованными действиями последовали более дружные и решительные. Началась забастовка. Она охватила весь Галерный остров, где строился броненосец «Петропавловск». Напрасно ревели гудки в четверг и пятницу: никто не пошел на свои места. Владимир Князев, выполняя просьбу Ульянова, сдерживал любителей крутить все направо и налево. «Мы не бунтуем! – разъясняли он и его товарищи. – А только надо выполнять условия, оговоренуые при найме!» В субботу Сильвин передал им переписанный печатными буквами листок «Чего следует добиватъся портовым рабочим». Воззвание пошло по рукам.
В начале великого поста Верховский снял свои нововведения.
А 18–19 февраля состоялось собрание представителей социал-демократических групп Петербурга, Москвы, Киева и Вильны. Петербург представляли Ульянов и Кржижановскяй.
При очередной встрече Сильвин поинтересовался у Владимира Ильича:
– О чем договорились? Не терпится узнать!
– Всему свое время, Михаил Александрович, – улыбнулся Ульянов. – На общем разговоре в четверг я подробнейшим образом доложу обо всем. А пока могу сказать в самых беглых чертах о сути разговора. Московская группа в декабре довольно сильно пострадала от арестов, поэтому прислан был не тот представитель, с которым мы знакомы. Этот[8]8
Е. И. Спонти
[Закрыть] представлял скорее не Москву, а Вильну, откуда он недавно приехал. Примерно то же вышло с киевским товарищем.[9]9
Я. М. Ляховский
[Закрыть] О виленском[10]10
Т. М. Копельзон.
[Закрыть] я и не говорю. Так что перевес получился в сторону идей, изложенных в брошюре виленцев «Об агитации», – не вводить пока что в круг рабочих выступлений требования политического характера, ограничиться улучшением повседневных нужд.








