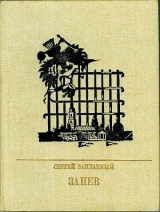
Текст книги "Запев. Повесть о Петре Запорожце"
Автор книги: Сергей Заплавный
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
7
Ульянов окреп быстро. Однако Мария Александровна на первых порах запретила ему дальние прогулки. Погода переменчивая, с Невы и каналов тянет ледяным ветром, сухого места на улицах не найти… Она даже маршрут ему очертила: до выхода на Гороховую улицу с Большого Казачьего переулка – с одной стороны, до бани с портомойней в глубине Малого Казачьего переулка – с другой.
Не привыкший сидеть дома, Владимир Ильич посылал теперь за нужными ему книгами Анну Ильиничну или кого-нибудь из друзей.
Петр радовался, когда такая просьба доставалась ему.
Болезнь заметно переменила Владимира Ильича. От природы деятельный, подвижный, способный легко переключатьея с одного занятия на другое, он вдруг выбился из привычного распорядка, получил неожиданную передышку. Это усилило его интерес к делам в рабочих кружках товарищей. И прежде он старался поспевать за ними, а теперь получил время вникнуть в них обстоятельней.
Слушал Ульянов заинтересованно, тут же задавал уточняющие вопросы. Радовался, когда встречал в рассказе Петра знакомых. Например, Карамышева…
Оказывается, Владимир Ильич хорошо запомнил широкогрудого фасонистого паренька, сопровождавшего их перед рождественским праздником по Путиловскому заводу, и был приятно удивлен, узнав, что теперь он занимается у Петра.
– Из какой семьи Карамышев? – поинтересовался oн. – Небось из чиновничьей? Занимался в техническом училище?
– Ну да, – с удивлением подтвердил Петр. – Отец у него и верно чиновник. Инспектор типографии министерства внутренних дел. Петяша учился в Охтинском техническом училище. А вы откуда знаете?
– Такая рефракция, – хитро сощурился Ульянов, даже интонацией повторив Карамышева. – Не только же вам, Петр Кузьмич, поражать всех своею наблюдательностью.
– Я и не стараюсь поражать. Просто батько приучил…
– И хорошо сделал, – одобрительно сказал Ульянов. – Что касается вашего батька, то Анюта мне о нем рассказывала. Женщины, знаете ли, более внимательны житейской стороне, у них сердце на этот случай по-особому поставлено. Мы ведь все о делах да о делах, а онв вглубь зрят… Теперь я понимаю, отчего вы предпочитаете практический характер действий. И замечательно! Умение схватывать обстановку, делать из нее сразу верные выводы, постоянно учиться, успевать всюду и при зтом не привлекать внимания к собственной персоне редкий дар. Но есть у вас и слабые стороны – излишняя категоричность в суждениях, крайняя доверчивость. Нередко вы рисуете людей лишь двумя красками – белой или черной. А люди многоцветны. Подумайте над этим, Петр Кузьмич. – И уже другим тоном продолжал: – А Карамышев, или, как вы его называете, Петяша, судя по всему, человек, пока не выбравший линию. Такие могут быть поначалу активными, увлечься, но потом переменить взгляды или даже отойти в сторону. Обратите на это внимание. Выбирать нам не приходится, но выбирать надо…
Не очень понравился Ульянову в обрисовке Петра и другой путиловец – Акимов.
– В нем, насколько я могу судить, – сказал он, – больше личной обиды, нежели понимания общей. А что, если снять личную? Останется ли он таким же?
– Не знаю.
– Следует знать. Все-таки у Акимова собирается кружок. Он отвечает не только за себя, но и за других. Тут надо все учитывать – до мелочей. Присмотритесь к Акимову…
Зато молотобоец Василий Богатырев, знакомый ему по Toii же поездке на Путиловсшш, токари Семен Шепелев и Дмитрий Иванович Морозов, а особенно слесарь Борис Зиновьев из нового пополнения понравились Ульянову. Он почувствовал к ним прямо-таки необъяснимое доверие.
Хотя почему необъяснимое?
Петр вдруг поймал себя на том, что рассказывал о них Владимиру Ильичу без единого пятнышка. Значит, об Акимове он говорил по-другому, невольно подчеркивая то, что ему самому не понравилось…
Допустим. Но тогда получается, что остальных он начал хвалить, не желая вновь вызвать недоверчивое отношение…
Так плохо и так нехорошо. Объективность – вещь тонкая; за какой конец потянешь, туда и начинает съезжать…
– Одно меня смущает в Зиновьеве, – помня недавнюю критику Старика, сказал Петр, – есть в нем налет тщеславия. Вроде как считает интеллигенцию исполнительницей рабочей воли – и только.
– Это беда не только Зиновьева, Петр Кузьмич, – быстрым движением откинул назад голову Ульянов. – Тем же грешат пока и другие наши товарищи-рабочие. Я бы сказал, это болезнь переходного возраста. Ведь если пролетариат – главная историческая сила, размышляют они, то за ним и главенство. А того не усвоили, что повести пролетариат за собой могут лишь научно разработанная идея и рабочие-интеллигецты, хорошо владеющие ею… Не так давно был у нас спор на эту тему с Василием Андреевиичем Шелгуновым. Он человек поживший, твердый, ва всех отношениях достойный – да все норовит интеллигентам экзамен устроить! И народникам, и нетвердым марксистам, и нашему брату, социал-демократам… Будем терпеливы. В конце концов этот крен выправится..! Или вы имели в виду более широкое свойство характеру Зиновьева?
– Нет. Только это…
Петр не стал больше выискивать недостатки в новичках, перевел речь на свои старые кружки. Очень не хотелось ему говорить, что литейщик Николай Иванов, организатор района, зачастил к учительницам Глазовско! школы Сибилевой и Агринским, но смолчать не удалось так как Владимир Ильич сам спросил о Киське.
– Чем же его так привлекают народовольцы? Программой?
– Да нет. Переубедить Николая Яковлевича трудно. Он сам кого угодно переубедит. Народовольцы нынче хоть и держатся за своих идолов из «Русского богатства», но в земледельческие артели и самобытность развития русского народа уже не верят. А главное – «Капитал» почитывают… Здесь другое. Я думаю, кто-то из учительниц вскружил Иванову голову. Он и старается свой интерес представить желанием перетянуть их на нашу сторону.
– Очень может быть. Но зачем же водить туда остальных?
– Для прикрытия. Не столько перед товарищами, сколько перед учительницами.
– Странное прикрытие, – покачал головой Ульянов. – Хождение из кружка в кружок ломает дисциплину, размывает границы. Одно дело, когда от народовольцев идут к нам, другое – когда целыми группами начинают составлять их ряды. Здесь на память приходят гоголевские Андрий и прекрасная полячка из «Тараса Бульбы»… Опять же Иванов не просто Иванов, а наш организатор.

– Со своими задачами он справляется не хуже Шелгунова и Бабушкина. Пожаловаться на него я не могу. И приказать не встречаться с учительницами – тоже.
– Тогда, по крайней мере, пусть он один… перетягивает их на нашу сторону.
– Я его об этом просил. Он обиделся.
– И напрасно. Мы не в бирюльки играем, так что для обиды следует выбирать иной повод… Ну, хорошо, Петр Кузьмич, вы его еще раз попросите. Кстати, кто за Нарвской заставой еще может быть рабочим организатором?
– Я как-то не думал. Не было причин.
– А вы подумайте. Мало ли что может случиться.
В этот момент Ульянов показался Петру чересчур резким. Это было непривычно.
Но ведь и агитация – дело резкое. Без твердости и готовности к любым жертвам за нее и браться не стоит.
– Очень правильно, Петр Кузьмич, что вы обменялись кружками со Старковым, отдали занятия у Феодосии Никифоровым Норинской Ванееву, а сами сосредоточили свое внимание на Путиловском, – тут же похвалил Петра Ульянов. – Такую перегруппировку следует сделать и в других районах. А то еще много у нас суеты, бестолковщины, пустых метаний туда-сюда. Пора переходить от количества к качеству, соединять рабочих на одном месте, вокруг единых требований, имея обдуманный порядок действий. Вот вы, к примеру, что планируете сделать в ближайшее время?
– Мы-то? – удивился Петр и, почувствовав, что выглядит нелепо, поспешил исправиться: – Мы собираемся отпечатать на гектографе «Ткачей» Гауптмана в переводе Анны Ильиничны и – пустить в кружки. Это раз. Далее, на Путиловском скоро должны пройти перевыборы правления потребительского общества. Хотим обратить их против прижимщиков…
И Петр горячо принялся перечислять злоупотребления в заводских лавках, именуемых рабочими не иначе как грабиловками. Товар в них дрянной, с гнилью, засоренный, а цены на него – по высшему сорту. Вот кружковцы и взялись проверить: и товар, и цены, а заодно заглянуть в расчетные книжки пайщиков да в отчеты правления за несколько лет, сравнить. Картина получается плачевная. Особенно плохо приходится тем рабочим, которые, пострадав от штрафов или запив с горя, берут продукты в потребиловке в кредит и тут же перепродают их лавочникам со скидкой. Это называется перегонкой. От перегонки страдают семьи; их кормильцы все больше и больше влезают в долги и потом не могут из них выбраться. Большинство пайщиков так и живут – в кредит.
Всего же в потребительском обществе на Путиловском человек восемьсот. Каждый восьмой. Служащие, мастера и старшие в артелях получают поблажки – им и продукты получше, и кредит с растяжкой, у них и расчетные енижки ведутся как надо, без уписок. Словом, равноправия меж пайщиками нет. А уж в правление попадает исключительно «белая кость».
В кружках Петра пайщиков мало, так что придется готовить для выступления людей надежных и не входящих в их круг… Борис Зиновьев и Семен Шепелев уже подобрали подходящих рабочих. Перевыборы должны превратиться в организованный протест. Будет сделан перечень умышленных обманов: правление услышит претензии в свой адрес. А затем последует предложение наказать виновных, снизить вступительный пай с пятидесяти до двадцати пяти рублей, ввести в правление рабочих, установить порядок, при котором любой пайщик без особого на то дозволения свыше может проверить работу потребиловки…
– Прекрасно, Петр Кузьмич, – одобрил Ульянов и, поднявшись, двинулся по комнате; лицо бледное после болезни, худое; голос неокрепший еще. – Это именно то, что сейчас необходимо! Было бы наивно надеяться, что все ваши предложения пройдут. Зато отзвук они должны иметь значительный: не только на Путиловском, но далеко за его стенами. Теория мертва, пока она не становится поступком, действием. Вы это доказываете на деле. Спасибо вам!
Он остановился, протянул руку Петру.
Петр торопливо поднялся, стиснул своей лапищей небольшую крепкую ладонь Владимира Ильича. Ему хотелось еще побыть с ним, но рукопожатие, соединив их, в то же время и разъединило. Было в нем что-то прощальное. Так показалось Петру.
– Мне пора, – заторопился он.
– Не будете ли вы сегодня в районе Литейного проспекта? – спросил Ульянов, провожая его. – Очень надо передать Струве корректуру моей статьи с некоторыми исправлениями. Для «Материалов к характеристике нашего хозяйственного развития».
– Разумеется, передам. Хотя…
– Что «хотя»? – ухватился за неосторожно сказанное слово Владимир Ильич.
– Хотя… мне до сих пор непонятно наше сближение со Струве и его компанией, – докончил Петр. – Вы же сами говорили, что они недалеко ушли от «друзей народа», делают ученый вид при не очень ученой игре.
– Когда это я говорил?
– В ночь на рождество, когда мы с вами шли по Гороховой.
– Верно, было такое, – засмеялся Ульянов. – А у вас хорошая память, Петр Кузьмич! Коли так, то вы должны помнить и мой реферат – по поводу «Критических заметок к вопросу об экономическом развитии России» Струве. Статья, которую я хочу передать с вами, и есть этот реферат. С некоторыми изменениями и уточнениями, разумеется. В «Материалах…» он пойдет вместе с выступлениями самого Петра Бернгардовича, Потресова, Плеханова-Утиса, Скворцова из Нижнего, Ионова из Самары. Pro et contra.[11]11
За и против (лат.)
[Закрыть] Книга издается легально и, заметьте, не нашими средствами. Уже одно это оправдывает сближение с группой Струве…
Владимир Ильич сделал небольшую передышку. Потом, увлекаясь, заговорил снова:
– Справедливости ради, давайте вспомним: «Критические заметки…» Струве – первое открытое произведение, в котором, пусть и абстрактно, критикуется народничество, признается марксизм, вернее, некоторые основные его положения применительно к России. В этом заключается их полезность. Что до утверждения о том, что при культурной беспомощности разоренного, страдающего народа «крепостное право —.меньшая утопия, чем обобществление труда» и что следует признать «нашу некультурность» и пойти «на выучку к капитализму», то именно против этой вредной чуши я выступал и выступать буду. «Материалы…» дают возможность для этого выступления. В чем же дело? Несмотря на архисерьезные разногласия со Струве, Потресовым и другими литераторами этого направления, нам удалось договориться с ними о совместной книге против народников. Но вы не считаете это завоеванием – так вас прикажете понимать?
– Не совсем, – терпеливо выслушав Ульянова, сказал Петр. – Я несколько о другом…
К Струве он испытывал глухую неприязнь, хотя впрямую сталкивался с ним три-четыре раза. Но и этого достало, чтооы составить о нем далеко пе лучшее впечатление. Розовое толстощекое лицо с мальчишеским пушком, который должен был казаться бородкой и усами; золотое пенсне на мясистом носу; алые губы, которые Струве постоянно облизывал; замедленный, томный голос с барскими нотками; сутулая спина книжника; заплетающаяся походка, более подходящая девице, нежели молодому человеку, – все это свидетельствовало о натуре изменчивой, склонной к актерству.
Родители Струве имели скандальную славу. Отец губернаторствовал – сначала в астраханских, затем в пермских землях. Мать, баронесса Розен, пользуясь безнаказанностью, нагайкой вдалбливала в подданных покорность и почтение. Сын тяготился таким проявлением ее власти, жестокость ему претила. Внезапная смерть отца подсказала ему решение оставить мать, страшную и в ласке, и а гневе. Товарищ Струве по гимназии Калмыков привел его к себе, объяснив матери, что Петру некуда деться, а человек он даровитый, тянется к экономическим и философским наукам, собирается поступить в университет…
На счастье Струве, Александра Михайловна Калмыкова оказалась женщиной отзывчивой, готовой опекать и благодетельствовать. После смерти мужа, сенатора и тайного советника, она открыла на Литейном проспекте книжный склад, стала давать уроки в Смоленских воскресно-вечерних классах. Струве она оставила у себя, а затем и усыновила. Так что долго сиротствовать ему не пришлось. Из губернаторского дома он попал в генеральский.
Как раз то, чем любуется Александра Михайловна, в чем видит исключительность своего приемного сына, раздражает Петра. Талант Струве, действительно яркий, Щедро отпущенный ему, имеет теоретическую направленность, С его помощью он легко собирает мед красноречия с любых цветов. Поскольку в центре внимания общественной мысли в России оказались народничество и марксизм, Струве решил сделать ставку на марксизм. Это его конек, но не убеждение. Надеясь в двадцать три, двадцать четыре года прослыть Сократом, он и написал свои «Критические заметки…».
У Струве на каждый случай есть свои уловки, свои способы привлечь к себе внимание. Например, точным движением на черной доске, вероятно, не без умысла поставленной в комнате для гостей, он рисует круг. Заполняет его большую часть штрихами и изрекает:
– Это – познанное! По мере возвышения науки и техники будут увеличиваться его пределы. Но никогда не иссякнет вот это белое пятнышко – непознанное и непознаваемое. Оно всегда останется свидетелем несовершенства и ограниченности наших органов познания. Но именно к этому пятнышку снова и снова будут стремиться философы – в надежде проникнуть в его пределы. То же следовало бы отнести и к теории Маркса…
Струве говорит, упиваясь отыскиванием неожиданных слов, их формой, таинственными переливами, стремясь вызвать в слушателях мистическое чувство преклонения перед своей прозорливостью.
Узнав об этих витийствах Струве, Владимир Ильич едко заметил:
– Мысли не новые. По сути дела, Петр Бернгардович повторяет Канта. Но если говорить серьезно, это просто cant.[12]12
Лицемерие (нем.).
[Закрыть]
Однако же Ульянов нередко бывает у Струве. Его тянет к нему желание поспорить, отточить свои знания и доводы. Струве – противник серьезный и многознающий, у него в запасе всегда какой-нибудь новый аргумент, иностранный материал, не известный Владимиру Ильичу. Ульянов тут же находит этот материал в Публичной библиотеке или где-то еще, чтобы затем вновь сразиться со Струве.
Обычно в спор-салон Калмыковой и Струве Ульянова сопровождают Старков или Степан Радченко. Но в разговорах они не участвуют. Им выпадает роль секундантов. Со стороны Струве секундантами чаще всего бывают инженер Роберт Эдуардович Классон – тот самый, у которого на масленице прошлого года познакомились Ульянов и Крупская, а также университетский товарищ казненного Александра Ульянова Михаил Иванович Туган-Барановский. Ну и, конечно, верный оруженосец Струве еще с гимназической скамьи – Потресов.
В какие только бездны исторических и экономических проблем не погружаются спорщики, каких только ссылок и выводов не делают! Со стороны порой кажется, что бой идет на равных. Ан нет, Струве хитрит, от прямого разговора о противоречиях классов уходит к текучим рассуждениям о путях и судьбах отечества вообще, ударяясь в объективизм, в профессорские дебри чисто научных построений. Ульянов терпеливо возвращает его пз спасительных закоулков на боевое пространство. Мало-помалу Струве начинает уставать, выдыхаться. Сначала он соглашается, что на смену капитализму неизбежно идет новый строй, что социалистические идеалы имеют под собой твердую почву, признает неотвратимость классовой борьбы… Но диктатура пролетариата его пугает, и он вновь начинает лавировать, уходить в сторону от ясных ответов.
Струве – игрок. Он играет в марксизм. Убедить его в чем-то полностью – занятие немыслимое. Давно ужэ приняли точку зрения Ульянова и Классон, и Потресов, и Туган-Барановский, и даже Александра Михайловна Калмыкова, а Струве упорно стоит на своем. Еще и негодует на своих секундантов и названную мать за отступничество.
От дружбы с таким союзником мало толку. Он ненадежен…
Петр начал путано объяснять Ульянову, что он вовсе не против совместной книги, полемизирующей с народниками, а против тесных отношений со Струве, которые ему совсем не по душе.
– Ах вот оно что! – наконец-то понял его Ульянов. – Ну, Петр Кузьмич, вы меня, право, удивили! В нашем деле опасно руководствоваться одними лишь симпатиями и антипатиями. Непримиримость к противнику не должна исключать личных соприкосновений с ним и даже совместных действий, временных союзов. Вот ведь Петр Беригардович пошел на соглашение с нами, допустив в «Материалы…» мою статью, направленную, по сути дела, против него. Значит, у Струве были для этого свои резоны – не будем сейчас разбирать какие… Для меня, как для члена группы, являются законом ее установки – быстро и широко развенчать народничество, пустить в жизнь марксизм, ни на шаг не отступая при этом от основных принципов. Временные союзы в нашей работе неминуемы. Без них ни одно направление победить не сможет. А мы обязаны победить.
– Я подумаю, – пообещал Петр, уходя.
– Непременно, – согласился Владимир Ильич. – Желаю успеха.
Это прозвучало жестко и вместе с тем дружески. Ио именно жесткость успокоила Петра: должно быть, и в самом деле человеку с твердыми убеждениями не опасно иметь попутчиков даже из стана ряженых.
8
Петр разыскал Струве во внутреннем дворике дома шестьдесят по Литейному проспекту. Сюда выходили окна книжного склада и квартиры Калмыковой, задние двери мелочной лавки купца Беспалова и двухэтажного флигеля, а также апартаменты хорошо известных в округе аптекаря, нотариуса, портного. Дворик был ухожен, имел нечто вроде аллейки из плохо растущих лип и кленов, а меж ними мощеную дорожку. На этой дорожке Струве учил катанию на велосипеде свою невесту Ниночку Герд.
Ниночка, а точнее Нина Александровна Герд, – гимназическая подруга Крупской. Прежде они были неразлучны. Даже в Смоленской воскресно-вечерней школе стали учительствовать по общему решению. Но с появлением Струве их дружба распалась. И дело тут даже ие в самом Петре Бернгардовиче, а во взглядах, которыми он заразил Герд. Благодаря ему она вспомнила, что отец ее, директор гимназии, принадлежит к избранному кругу людей, что ей вовсе не хочется ломать свою жизнь ради обездоленных; конечно, она готова для них что-нибудь сделать, но в пределах разумного.
По случаю велосипедного выезда Струве облачен в куртку того же покроя, что у жокеев, но более богатую и фасонистую, в кожаные штаны и краги. На голове кожаное кепи. Герд одета не менее изысканно.
Еще совсем недавно велосипеды в Петербурге были редкостью. Стоили они триста и более рублей. Теперь цена втрое упала. Многие состоятельные люди прикинули, что посыльный на велосипеде обойдется дешевле, чем постоянный извозчик. В городе даже шутка появилась: раньше весну узнавали по ласточкам и лягушкам, теперь – по велосипедёрам.
Судя по полицейской хронике, которую газеты подают не иначе как «Дневник приключений», на велосипеды уже село до пяти тысяч человек; многие из них поступают в больницы по случаю столкновения с конкой, извозчиками, пешеходами. Общество велосипедистов-любитолей возмущено: оно против того, чтобы велосипед становился транспортным средством и курсировал на улицах. Для него есть летние и зимние треки, например в Николаевском манеже. Там можно обучиться фигурной, командной, манежной и прочей езде. Там есть места для зрителей. К тому же, оркестр пожарной команды для поднятия духа бесплатно играет там народный гимн и другие патриотические мелодии…
Заметив, наконец, Петра, Струве остановился:
– Извини, Ниночка. Ко мне Запорожец.
Тяжело переводя дыхание, он приблизился к Петру, принял свернутую трубочкой корректуру, отрывисто спросил:
– Что это?
– Владимир Ильич просил передать. Материал для «Материалов…».
– Как он себя чувствует?
– Как человек, которому нездоровье немного помешало работать.
– Когда мне удобно его навестить?
– Сию минуту.
– Но это, простите, невозможно. Я… не готов.
– Тогда подготовьтесь хорошенько. Именно потому, что Владимир Ильич готов наступать далее «Материалов…».
– А вы не лишены юмора, Петр Кузьмич.
– Стараюсь. Но до вас мне далеко, Петр Бернгардович.
– Спасибо, что потрудились, – в голосе Струве появились отстраненность, сухость. – Я сегодня же передам статью Владимира Ильича в типографию Сойкина.
Уже выходя па Литейный проспект, Петр услышал за спиной чьи-то торопливые шаги, взволнованный оклик:
– Василий Федорович! Василий Федорович!
Это была Антонина. Не рассчитав бега, она налетела на Петра.
Он придержал ее за плечи, а вроде как обнял.
– Ах, это ты, птичка-невеличка? Какими судьбами?
– У дяди была, – переводя дух, сообщила Антонина. – Он в складе работает. У барыни Александры Михайловны.
– Вот как? – удивился Петр.
– Ага. Кузьма Иванович Никитин. Может, знаете?
Платок у Антонины съехал набок. Гладко подобранные волосы на лбу распушились. Глаза сделались большими. Да они у нее зеленые, с мягкой голубизной. Чистые-чистые. Кожа на висках и возле носа матовая, будто у молоденького масленка. Губы яркие, горячие. Из них толчками выбивается дыхание.
– Знаю, – с запозданием ответил Петр и, не удержавшись, поправил на ней сбившийся платок. – Муж кухарки? Тихий такой, запойный? Укладывает в короба книги?
– Он, он, – обрадованно закивала Антошша. – Запойный, зато честный. Он, когда проспится, очень стыдом мучается. Барыне от этого только польза: за троих работает…
Ни дождя, ни солнца не было, однако мимо них важно шествовали дамы с зонтиками, на французский манер именуемыми антукамп. Следом семенили нагруженные бонбоньерками прислужники. На бонбоньерках красовались изображения конфет и тортов.
Вприпрыжку неслись гимназисты. Звонко чеканя шаг, проходили обер– и штаб-офицеры. Немало попадалось и скромно одетых людей с книжными связками. Оно и неудивительно – Литейный проспект буквально набит книжными лавками, торговыми залами, складами.
– Куда теперь путь держишь? – спросил Петр.
– А хоть куда, – простодушно ответила Антонина. – У меня время есть. Могу вас проводить.
– Проводи. У меня тоже время есть. Воскресенье.
Петру оставалось передать Бабушкину перевод драмы Гауптмапа «Ткачи». Договорились встретиться у рыбной лавки на Малой Конюшенной. До назначешюго времени еще около часа.
Они не спеша двинулись по Литейному в сторону Невы.
– Так что же Кузьма Иванович? – спросил Петр, продолжая прерванный разговор. – Почему он и тебя не устроил к Калмыковой?
– Он устроил. Да я не удержалась. У барыни как? Приказчиков нет, только помощницы. Да еще Кузьма Иванович и пять мальчиков-сирот. Один из них стал воровать. А на меня пало. Как я плакала, как плакала… Пришлось к Кенигу идти, на бумагопрядильню.
– Неужели Александра Михайловна не разобралась?
– У них сердце мягкое, сирот жалеют. Учительшу к ним взяли. Чтобы, значит, в книгопродавческую школу готовить. Как только шесть часов – шабаш, садятся у нее в кабинетах и умничают, и умничают! А я не сирота, опять же в годах… С меня и спрос. Врать не буду, барыня меня не гнала. Они добрые. Но разговаривать стали по-другому, ровно я с улицы, не знакомая им. А главная их помощница и вовсе стыдно со мной обошлась. Говорит: Кузьма пьет, а эта крадет – божья семейка… Я и ушла, чтобы дядю не стронуть. Он у меня хороший.
– И напрасно ушла, – даже рассердился Петр. – Раз ушла, значит, вину свою признала.
– А как же быть, если жизни не стало? Молодой барин тоже… глядит… Нет, ушла и ушла. Надо было.
– Э-эх! Александра Михайловна – редкостный человек. С ней так легко объясниться…
– Хорошие, они хорошие, – поддакнула Антонина. – Книги для сельских школ подбирают. Чтобы поинтересней. А интересные нельзя. Про електричество там… и другое разное. Зачем крестьянам про его знать, ежели пророк Илья по небу в колеснице катается? Но барыня умные. Когда интересных книг нет, волшебные фонари дают. И картинки к ним. Про Конька про Горбунка. Про Царя про Гороха… У них даже обыски делали.
– Вот как?
– Делали! Я сама видела, – понизила голос Антонина. – Жандармский чин увидал у барыни в кабинетах палку с ножом. Спрашивает: что это? А барыня в ответ: мол, есть такая страна Сиам; когда, мол, мой сын убывал оттудова, то сын короля дал ему эту пнку на память.
– Петр Бернгардович?
– Нет, настоящий сын… Ну и вот, обыскивают жандармы дом, а тут подъезжает карета. Ага. Выходит нарядная дама – от самой государыни Марии Федоровны, просит собрать книги для детского приюта. Барыня спрашивают: кому во дворце можно сдать книги, когда они подберутся? Тут городовой, дворник и понятые шасть в двери! Будто их и не было! Умора… У барыни очень высокие господа с заказами бывают. Ого! У них пенсия, я слыхала, две с половиной тыщи. С такой можно обысков к себе и не пускать…
Антонина семенила рядом с Петром, пытаясь попасть к нему в шаг. Заметив это, он замедлил движение. Они повернули назад, к Невскому проспекту, и скоро окунулись в его стремительный водоворот.
Вот и начало Малой Конюшенной. На углу для обозрения выставлены диковинные часы. Не часы, а дворец со множеством циферблатов. На одних бежит только секундная стрелка, на других – минутная. Следующие показывают часы, дни, недели, месяцы, годы. Даже сквозь гул проспекта слышно тиканье множества механизмов.
Антонина зачарованно замерла. От восторга даже рот открыла.
Про часы на Малой Конюшенной в последних выпусках сообщали почти все петербургские газеты, поэтому Петр, склонившись к Антонине, со знанием дела объяснил:
– Немецкие мастера делали их двенадцать лет – для герцога Брауншвейгского. Герцог подарил их жителям Женевы. Это столица Швейцарии. Там их купил русский генерал Ростовцев. Но в часах что-то испортилось. Зя починку взялись умельцы знаменитого Мозера. Теперь Ростовцев не то подарил их Петербургу, не то решил просто показать искусство Мозера. А скорее всего – похвастать…
– Я сроду такого не видела!
– Вот и любуйся, – посоветовал Петр. – А мне отлучиться надо. Дела.
– Вы придете? – встревожилась Антонина, и эта ее тревога была так по-детски искренна, так трогательна, что Петр с чувством сжал ее руку:
– Непременно! Ты жди… Если хочешь, сосчитай, сколько здесь циферблатов. Потом скажешь.
…Бабушкина у рыбной лавки не было.
Петр прошел мимо, поднялся в булочную, где на видном месте под стеклом были выставлены ремесленные и торговые права хозяина заведения, купил коробку монпансье для Антонины и не спеша двинулся назад. На этот раз Бабушкин оказался на месте. Он делал вид, что рассматривает богатства, разложенные в витрине.
– Цена по товару, а товар по цене, – заметил Петр, останавливаясь рядом. – Вот «Ткачи», Иван Васильевич. Что нового?
– Собираемся завтра на Наличной. Своим кругом. Будем принимать устав кассы рабочей взаимопомощи. Есть мнение сделать кассиром Киську. Как, по-вашему?
Петр коротко обрисовал историю хождения Иванова и его товарищей к народовольцам из окружения Сибилевой, свои неоднократные разговоры с ним.
– Спасибо за предупреждение. Будем думать, – кивнул Бабушкин.
На том и расстались. Петр вернулся к часам.
– Девяносто пять! – радостно объявила ему Антонина.
– Что «девяносто пять»? – не понял он.
– Как что? Циферблатов! Вы же сами велели сосчитать.
– Ах, да! Умница. Вот тебе за это награда. – Петр обрадовался, что может с причиной отдать Антонине монпансье.
– Ой, спасибо! – сказала она и тут же открыла коробку. – Страсть люблю сладкое.
С Антониной не надо выдумывать разговор, он сам рождается. Как ручеек. В нем отражаются громады Невского проспекта, облака над ними, судьба двудомок Никнтиных, сдавших свои наделы через сельскую расправу в Покровском уезде Владимирской губернии, чтобы попытать счастья в Петербурге. Кое-как купили они мусорное заведение возле обойной фабрики – с двумя лошадьми и тремя возами. За вожжи посадили старших детей, сами впряглись в свободный ходок, а младших приспособили выискивать в сопревшем хламе вещи поцелей – те, что можно отмыть, покрасить, пустить в дело. Грязь, вонь, мухи. Но разве детству прикажешь видеть все в истинном свете, когда ему хочется хогь на миг попасть в сказку, сделать тряпку или кусок дерева живым, волшебным, загадочным существом…
Петр слушал Антонину жадно, удивляясь ее непосредственности, доверчивой наивности. Ни одна соринка из сотен мусорных куч, которые ей пришлось перебрать, не прилипла к ней, ни одна обида не ожесточила ее.
В кружок Петровых на Таракаиовке она пришла из любопытства. Думала, будет гулянка, а получились разговоры. Но все равно – ей интересно. Оказывается, можно собираться и так – с уважением и помощью друг к другу, беседовать о несправедливостях общей жизни, пытаться понять, отчего она такая и какой должна быть.








