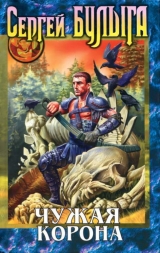
Текст книги "Чужая корона"
Автор книги: Сергей Булыга
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Вот именно, я тогда думаю, а царь? А от царя тогда будет посол, и этот тоже будет ядовито спрашивать, чего это я, мол, им под самое брюхо сую целый полк. Оттого, что, я ему скажу, там у нас Цмок проснулся? Да кто мне в такое поверит? Никто! А войско – это сразу видно и понятно. И потому царь посла своего выслушает, злобно крякнет да скажет: опять этот Бориска на меня собирается, ну я ему ужо! И начнется…
Но как оно начнется, так и закончится. Это не такая и беда. Я войны с царем ни тогда, когда о ней думал, не боялся, и сейчас не боюсь. А вот что меня и тогда вправду тревожило, да и теперь никак покою не дает, так это то, что почему это Цмок вот уже который год на одном месте сидит. Раньше он то здесь, то там появится. А тут он как будто увяз, никуда от Сымонья далеко не отходит. К чему бы это, а? Не знак ли это на кого? Цмок, он же никогда просто так не появляется. Цмок появился – это всегда знак. Вот даже взять меня. Никогда до той поры в наших местах про Цмока не слышали. А как только отвел я для него в дрыгву каурого конька, так он тут как тут! А уже назавтра был гонец и звал на Сойм, и там меня Великим князем избрали. Вот то был знак! Правда, злые языки тогда болтали, что того конька волки сожрали. Только какие же это такие волки, у которых вот таковские следы?! В локоть длиной и вот такие когти! Цмок это, больше некому! Вот и пан Стремка на старых вырубках точно такие же следы видел. Да, точно, думаю, а Стремка?! А ну позвать его, кричу!
Позвали. Я опять говорю: расскажи. Он опять рассказал. Тогда я говорю: а не видишь ли ты во всем этом какого-нибудь знака, нет ли здесь какой загадки? Он говорит: есть, ваша великость, конечно, дело это весьма запутанное и требует дополнительного и тщательного расследования, но кое-что я уже разгадал. Я, говорит, долго бился, все никак не мог взять в толк, зачем это пан Цмок одним разом так много панства сожрал. А после, он говорит, я понял: это он сделал для того, чтобы ихних хлопов без присмотру оставить, а хлоп без присмотра – это сами знаете кто, это сразу разбойник и вор. И чем их, таких неприсмотренных, больше, тем они скорее в кучу собираются, а чем больше у них будет куча, тем скорее будет страшный бунт и большая резня. Так вот, ваша великость, слушайте: эти хлопы уже собираются, я это сам на свои глаза видел, сам чуть ушел от них и до вас добежал, чтобы сказать: ваша великость, не зевай, веди на них стрельцов, пока не поздно!
Вот он чего мне тогда говорил, вот до чего он был тогда напуган – совсем ум потерял! Вот я ему, как малому, и говорю тогда в ответ: пан судья, да ты хоть представляешь, чего просишь? Да ты знаешь, что такое по нашим по зимним дорогам пройти целому полку стрельцов до самых ваших Зыбчиц? Да я лучше сам один поеду и твоему Цмоку голову откручу, будет он мне тогда знать, как мой тихий народ баламутить! А Стремка мне в ответ: ну, ваша великость, я не знаю, может, вам у него не одну, а три головы придется откручивать. А я: а хоть бы и семь, так и семь откручу! После зажарю и сожру! А он: кишка у вас будет тонка, ваша великость! Никто ему…
Только дальше я его слушать не стал. Крикнул стрельцов, они его взяли и вкинули в холодную. Чтобы охолонулся. А я, весь гневный, красный весь, пошел к себе. Нюра меня увидела, перепугалась, стала спрашивать, что да к чему. Я ей все как есть и рассказал. Вот дурень так дурень! И она меня за это сразу наказала. Ой, говорит, а ведь пан Стремка прав, Цмока трогать нельзя, а хлопов нужно. И чего этот пан Сидор только пьянствует, а как домой придет, так свою законную бьет, бьет, бьет смертным боем! Что она ему сделала? Что, мало деток народила или еще мало чего? Вот пусть теперь этот твой Сидор собирается, идет на Зыбчицы и пусть там свою удаль на Цмоке, а не на бабе показывает!
И много она еще чего подобного кричала, как будто это не Сидор, а лично я его жену бью, колочу. Вот он какой, бабий разум!
Но, правда, и я тогда был не умней. Хрясь, хрясь кулаком по столу и кричу: дура, молчи, как сказал, так и будет! Пойду на Зыбчицы и удавлю эту нечисть поганую, очищу державу от скверны! Встал, и ушел, и хлопнул дверью.
Ушел я, сами понимаете, не в Зыбчицы. Ушел к себе в рабочий кабинет, целый день там сидел, размышлял. А после пошел к доктору Сцяпану.
Но и доктор меня не утешил. Тоже сказал, что Цмока мне лучше не трогать, что лучше вообще тихо сидеть, молчать. Га! Ему хорошо! И у него это всегда ловко получается: чуть только стемнеет, он сразу от себя всех выгоняет, закрывается, ставит на стол кувшин вина покрепче и после пьянствует всю ночь. А утром говорит: я размышлял! Так было и тогда: я прихожу к нему, солнце еще не село, а от него уже разит. Да плевал я на его советы! А вот закрыться бы да никого к себе не допускать – это он дельно придумал. И я тоже закрылся, и только к кувшину…
Стучат! Я злобно так: чего?! А мой Рыгор из-за двери: ваша великость, делегация! Ат, думаю, вот никогда мне нет покоя! Открываю. Заходит мой Рыгор и говорит: так, мол, и так, ваша великость, тут прибыли паны, стоят внизу, шумят, допустить? Кто, спрашиваю, там? Да, говорит, княжич Хома, сын покойного князя Мартына, княжич Гнат, сын такого же покойного князя Федора, с ними их всякая родня и соседи, голов с пятьдесят, и все они злы, как собаки, хотят срочно с тобой говорить, ваша великость, как быть? Га, говорю, известно как! Не хватало еще, чтобы они здесь натоптали, перегаром надышали. И вообще, в державе должен быть порядок!
Веди их, как это и положено, в аудиенц-залу, и пана великого писаря туда же кликни, и его писарчуков, и стрельцов на двери чтоб пан Зуб поставил, да побольше, и я скоро приду, пусть подождут, не велики паны!
Рыгор ушел. А я еще немного посидел, но пить вина уже не стал, только орехов пощелкал, погрыз, потом уже взял булаву, пошел. Прихожу я в ту аудиенц-залу, смотрю: они уже сидят по лавкам, а сбоку, у окна, сидят мои писарчуки, над ними стоит пан Мацей, великий крайский писарь, очень надежный человек, а на дверях везде стрельцы с аркебузами. Так, хорошо! Я сел на свое место, а это будет вдвое выше их лавок, глянул на них сверху вниз, говорю: как живете-можете, васпане, чего такие хмурые? Они молчат. Только слышно: скр-скр-скр – писарчуки строчат, мои слова записывают. Записали и ждут. А эти и дальше молчат. Ну, говорю я и встаю, если вам, Панове, мне сказать нечего, тогда я ухожу, у меня много дел.
Ой, чего тут сразу началось! Тут они все разом повскакивали и ну орать-брехать наперебой, что вот, мол, ты какой, наш господарь, так высоко взлетел, что ничего уже вокруг себя не видишь, а за жупан тебя да и на землю, к нам, у нас земля дрожит, дрыгва бурлит и кровью обливается, знатнейшие ясновельможные князья, а с ними целая хоругвь славных панов, от лютого врага все как один полегли, а тебе, ваша великость, хоть бы хны, да что это за господарь такой, где правда на земле, где… Да! Много чего они тогда себе позволили орать. А я стою, молчу да усмехаюсь, смотрю – писарчуки строчат, все подробно записывают, пан Мацей усы подкручивает, тоже усмехается. А эти брешут, брешут, брешут – и ни один из них не захлебнется! И я тогда…
Ат, говорю – и булавой кр-рак по лавке! Ат! Кр-рак! Ат! Кр-рак! А потом грозным голосом, громче их всех, вместе взятых, кричу: молчать, васпане, это не корчма! Это не хлев, чего ревете?! Что, думаете, я не знаю про Сымонье? Да я все знаю, больше вашего! И все, что надо, сделаю! А будете и дальше так орать, тогда и сам сейчас уйду, и вас отсюда попрошу! Геть! Тишина! И опять кр-рак булавой, кр-рак, кр-рак!
Они мало-помалу стишились. Сели по лавкам, отдуваются. Я тоже сел и говорю: кто из вас старший, панове, тот пусть говорит, только один, а я его послушаю, а после буду отвечать. Встает пан Халимон Деркач, покойного князя Мартына дядя по кудели, и начинает злобно говорить, что вот, мол, господарь, ваша великость, какие нынче грозные, кровавые дела у нас в Крае творятся, всякая нечисть поганая прямо посреди бела дня на родовитое панство кидается, целыми хоругвями его пожирает – и все это ему безнаказанно сходит, куда ты только смотришь, господарь?! И смотрит на меня, глазюки вот такие вот, по яблоку, усы вот так, торчком! И ждет, что я ему отвечу.
А я не спешу. Я сперва усы себя огладил, после чуб, после к писарчукам оборачиваюсь, спрашиваю, записали они Халимонову речь или нет. Отвечают: записали точно всю. И вот только потом уже, еще раз чуб пригладивши, я тому панству отвечаю. Во-первых, говорю, не среди бела дня, а темной ночью было это дело, это раз, и это очень важно, а почему это важно, потом объясню. А вот и два: а где все это было, Панове? В Сымонье. А что они, отцы и братья и соседи ваши, что они там делали, а? Кто их туда, в чужой маёнток, звал?
Они разом тогда: какой это чужой? он ничей! он по закону…
Кр-рак! Кр-рак я булавой! И говорю: Панове, я покойному князю Мартыну уже говорил, и от покойного князя Федора я этого тоже не утаивал, да это и так всем известно: по закону нашему и Божьему князю Сымону наследует его сын Юрий. Так это или нет?!
Они опять: гав, гав! нет того Юрия! гав, гав! он в Златоградье сгинул, гав!
А я: а у вас на то бумага есть, что его уже нет? А у вас есть на то свидетели? Вот то-то же! Вот потому я покойным князьям во вступлении в наследство и отказывал, я ждал, когда про пана Юрия хоть что-нибудь да прояснится. Но они, покойные паны, меня не послушались, а пошли грабить, своевольничать, они на чужое позарились, и вот что теперь получилось, Панове! Нет теперь того Сымонья, как будто никогда его и не было. А вот как теперь вернется, с Божьей ласки, пан Юрий, теперь уже князь Зыбчицкий, что мы тогда будем делать? Кто будет с ним за весь этот разор расплачиваться, Мартынычи или Федорычи?!
Тут они снова в ор: да что это ты такое, господарь, говоришь, мы здесь разве при чем, здесь только один Цмок при чем! Он, Цмок, Сымонье погубил, он и князей и все панство пожрал!
А я: а может, и не Цмок! Кто его там видел?!
Они: Цмок, а кому еще!
А я: а может, это они сами! Сымонье – остров рукодельный, насыпной и, значит, ненадежный. Там если бочку пороха рвануть, так, может, все и развалится. И развалилось! А Цмока уже после приплели.
Они: а гайдуки!
Я: а что гайдуки!
Они: а гайдуки свидетели! Гришка Малый и Сенька Цвик, они оба на свои глаза все это видели, они готовы на Статуте присягнуть!
А я: от гайдуков присяг не принимаем. Да и мало ли что им могло спьяну привидеться! Да еще в такую ночь – в непроглядную! Так что, сами понимаете, панове, ваше дело очень скользкое и ненадежное, тут еще много чего нужно разъяснить да обдумать. Мало того, я пока даже вообще ничего не готов вам ответить. Так что сделаем так: вот сейчас мои писарчуки протокол набело перепишут, пан Мацей его просмотрит и где надо выправит, а уже после я его перечитаю, все ваши речи, мысли, думы еще раз обдумаю и, глядишь, какой– нибудь ответ да и придумаю. Так что вы, поважаные паны, идите пока во дворе отдохните да поостыньте, а вечером мы опять здесь сойдемся, и я вам объявлю свое решение. А пока что бывайте здоровы, Панове, до вечера.
Встали они, потолкались, пошумели и ушли. И это очень хорошо, потому что сразу нельзя никому ничего отвечать, сразу всякий ждет всего. А во второй раз, поостыв да потомившись, всякий становится сговорчивей. Так было и тогда – мы вечером опять сошлись, и я им объявляю: ввиду того, что это дело очень важное, постановляю вынести вопрос о Цмоке на Высокий Сойм и выделить на это целый день! Панам это понравилось, они ушли довольные. И я был доволен, не скрою. Потому что знал: я их теперь до самого Сойма крепко занял, теперь не будут они мне голову морочить, есть у меня теперь немного передышки.
И точно, стало им не до меня. Зачухались они, забегали то в канцелярию, то к маршалку, то ко всяким борзописцам, мастерам по составлению речей, то просто к тем панам, которые уже начали съезжаться на Сойм, и стали их кормить, поить, подарками задаривать да уговаривать, чтобы они, эти вновь прибывшие паны, их на Сойме поддержали. Хорошее дело. Но не все так просто в этой жизни получается. Потому что, во-первых, они, эти сторонние паны, не такие уже дурни, чтобы сразу соглашаться, им интересно свои голоса подороже продать, вот они с согласием и не спешили. А во-вторых, они же сюда не сами по себе, а со своих малых поветовых соймов прибыли, им там ведь тоже какие-то наказы дали, им теперь надо эти наказы отстаивать, их же потом, по возвращении в поветы, за них строго спросят. Ну а в-третьих, это уж как всегда: одно и то же дело кому-то бывает на горе, а кому-то и в радость. Так было и тут: немало приезжало и таких, которые были очень рады тому, что в Сымонье случилось. А что!
У каждого свой интерес, каждый перво-наперво сам под себя загребает. И это нормально.
А я загребай под державу! Вот какова она, великокняжеская доля. Как будто я на этом свете как волк-одинец, как будто нет у меня никого, о ком бы было мне побеспокоиться.
Так будто бы и вправду нет! Великий крайский марашлок пришел, принес мне роспись депутатов, я посмотрел – и точно, нет там моего Петра, не выбрали они его в его повете. Да, знаю, он того и не хотел, и не просил. Он, может, вообще на поветовый сойм не ездил. А сюда, в Глебск, и подавно не собирается. Наплевал на родного отца! Неинтересен ему я. Ну так хотя бы съездил мать свою проведать или ну хотя бы на сестрицу посмотреть. Да ей уже семнадцать лет, вон, погляди, какая она красавица – яблочко! Ее уже замуж пора выдавать, Петр, задумайся!..
Но только я один о ней и думаю. И вот что первым делом думаю: а кто ее, такую бесприданницу, возьмет?! Петр, он, я знаю, жаден, много за ней не даст: ну деревню, ну две. А я и этого не наскребу. Ох-хо, грехи мои! Нет у меня почти что ничего, за почти что двадцать лет господаревой службы так толком ничего и не собрал. А как тут соберешь, когда за каждым твоим шагом по сорок – по полсотни глаз всегда зорко смотрит?! Ну, если и собрал, так это только самую малость. Вот и получается, что не нужна здесь никому великокняжеская дочь, вот каковы у нас теперь порядки, вот какие гадкие законы.
А прежде они были ого-го! Вот тогда и было справедливо – за труды нам всегда воздавалось. По тогдашним, по древним разумным законам, я хоть бы сейчас лег да и помер! Потому что я тогда бы знал: моя дочь не пропадет, она теперь богатая невеста, вся наша держава, весь наш Край – это ее приданое, и налетела уже туча женихов, и наших, и чужинцев, и царцев, и крунцев, сиди выбирай! И она выбрала бы, о, у ней вкус есть, и сама она как наливное яблочко. А Петр еж ежом, и ему ничего от меня, а ей все, и быть ей Великой княгиней, вот так! И это очень просто сделать: сперва две трети депутатов подкупить, после внести на обсуждение поправку, проголосовать, а после…
Га! Вот до чего я тогда размечтался! Ну да у кого девки на выданье, тот легко меня поймет…
Да и не размечтался я, а просто строил планы. И я когда-нибудь, может уже даже в следующем году, их и выполню. А в этом пока что никак не выходит, Цмок сильно мешает. Да и опять же, Сойм тогда был уже прямо на носу. И понаехало тогда их туча, все приехали. Обычно меньше их ездит, экономят они. А тут приперлись все, как воронье слетелись. И вот теперь пойди ты догадайся, что у кого из них на уме, кто за что и как проголосует, кому и сколько нужно дать, чтобы он тебя услышал, чтобы не записывал в проект повестки заседаний ненужных вопросов, а нужные чтоб записал. И, главное, пойди узнай, доведайся, нет ли у кого из них какой вредной секретной затеи. Во где деньки горячие настали, охо-хо! И самому не походить, не выведать – самому мне ходить неприлично. И не всякого к себе можно позвать – это опять же, они говорят, неприлично. Это они так решили. Ага! Мне, дай им только волю, они все неприличным сделают, все запретят, проголосуют десять раз единогласно! А сами, сволочи, приехали и пьют как свиньи, пляшут как козлы, потом как…
Ладно, ладно! Вы сами не хуже моего знаете, что в нашем славном Глебске в такие дни творится. А я, Великий князь, смотри на это все и делай вид, что ничего не замечаешь.
Ну я и делал вид. И еще дело делал, кого надо слушал, кому надо говорил, дачи давал, привелеи сулил. А один раз был даже у Сцяпана. Ат, тот Сцяпан! Я, говорил, ваша великость, уже все тебе сказал: сиди молчи.
А будут приставать, скажи: Цмок – это стихийной явление, против явлений выступать нельзя, а посему…
Нет, с ним каши не сваришь! Я плюнул, ушел. Пришел к Стремке-судье. А этот вообще на этот раз ничего мне говорить не стал, только одно: ты, говорит, ваша великость, не имел права меня, родовитого пана, хватать без суда, это беззаконие! А если, говорит, даже и схватил, так сразу должен был предъявить мне обвинения. Э, говорю, обвинения! Да я их сколько хочешь тебе предъявлю. Вот хотя бы обвиню тебя в служебном недосмотре. Почему, скажу, в твоем повете такие безобразия творятся? Значит, скажу, плохо смотришь, пан судья! А может, и того хуже: дачи от Цмока берешь, покрываешь его! Он, Стремка, сразу в крик: какие дачи, он же зверь! Э, говорю, как ты запел! А что еще вчера мне говорил: что, может, он не зверь, а человек двуликий, ну, говорил такое, а? Он молчит. Вот то-то же, я говорю, сейчас отдам тебя под свой Великокняжий суд, а судей подкуплю, и посадят они тебя на кол – между прочим, строго по закону! Так что, может, лучше, говорю, здесь у меня посидишь? Да посмотри, как ты сидишь – на коврах! А чем ты кормишься? Да тебе же носят с моего стола! А спишь на лебяжьих перинах! У тебя дома есть лебяжья перина? Нет, отвечает этот Стремка, у меня лебяжьих перин нет, я честный и неподкупный судья, я дач не беру. Вот только это, говорю, мне в тебе и нравится, а все остальное в тебе – дурь собачья.
Ох, как он тут завизжал, заорал! Ох, кричал, господарь, отдай мне мою саблю, я тебя в капусту порублю за такие брехливые речи! А я: я что, дурень, тебе саблю давать? Я еще жить хочу. И ты, пан Стремка, будешь жить, и будешь ты жить хорошо. А он: если хочешь, чтоб я жил хорошо, отпусти меня, великий господарь, и отдай мне мою саблю и моего коня. Я говорю: все это будет, пан Галигор, и будет очень скоро. Вот только пусть Сойм пройдет – и пройдет тихо и смирно, без бучи, – и все тебе будет: бери свою саблю, садись на своего коня и езжай в свои Зыбчицы. Я тебе еще и денег на дорогу дам, не поскуплюсь. И замолчал я, жду.
И он молчит. А после говорит: нет, я хочу на Сойм, хочу там выступить, всю правду рассказать. Зачем, я говорю, что ты им там, дурням, объяснишь? Ты, что ли, их к порядку призовешь? Или еще чего? Да ничего путного ты от них не добьешься! А они, пожалуйста, добьются: какие-нибудь привелеи себе выбьют, налоги скостят или еще чего наголосуют, им только волю дай!
Смотрю, он помрачнел. Я тогда так – я говорю: но и это не все, поважаный пан Стремка. А вот что еще: думаю я поставить тебя Зыбчицким старостой. Да, так я ему прямо и сказал! Он говорит: ого, а как это? А так, я говорю, не тебе мне объяснять, ты же законы знаешь. Но слушай: вот скоро уже год пройдет, как помер старый князь Сымон, а сына его пана Юрия все нет и нет. Берем дальше: и Мартын с Федором того, они тоже неизвестно где. Так что сколько там еще по закону положено, год, и Зыбчицкая вотчина, как потерявшая прямых наследников, переходит в казну. Статут так говорит? Так. А посему мы обращаем Зыбчицкую вотчину в державное старостство, это опять же совершенно законно, и тогда я, уже безо всякого Сойма, назначаю старостой того, кого хочу, – хоть, например, тебя! И так оно и будет, пан Стремка, Аленой клянусь! Он: ого, и аж весь побелел, а потом опять: а если…
А я: помолчи! Вот назначу я тебя на Зыбчицы, и ты мне тогда только пожалуйся, что у вас там кто-то закон нарушает, своевольничает! Я же тогда сразу скажу: пан староста, все Зыбчицы твои, и у тебя на них вся власть, давай, искореняй заразу, наводи закон! А ты мне что на это скажешь?
Он помолчал, а после говорит: ну, хорошо, пан князь Мартын и пан князь Федор от Цмока убиты, но у них же у обоих есть сыновья, они же теперь вроде как на Зыбчицы наследники. Э, говорю, наследники! да пусть они еще сначала свои исконные вотчины унаследуют! они у меня еще в канцелярии посидят-поседеют, покуда докажут, куда это их отцы родные подевались. Свидетелей-то нет! Гайдуки – это в наследном деле не свидетели. А паны – все как один того, все за князьями сгинули!
И тут он вдруг…
Ат! Га! Вдруг этот Стремка ухмыляется и говорит: один свидетель есть. Я: кто?! А он: а пан Юзаф Задроба из Купинок. Я: как это? Он: а так! И рассказал в двух словах. Вот дела! Я говорю: так чего же ты раньше молчал?! А он: раньше было нельзя, я думал, говорит, вот скажу я на него, и вы за ним сразу пошлете, сюда его приволочете, но только здесь нам это ничем не поможет, а ему там все испортит. Я: что испортит? А он: свадьбу. А теперь они уже обвенчаны, теперь дело сделано, она, ваша великость, этого очень ждала… Я: кто она? Да Анелька, говорит судья, она, ваша великость, ну такая раскрасавица, такая хозяйка, я, ваша великость, так за нее хлопотал, так волновался, я…
А я: так, понятно! Ладно, сиди пока. И ушел. Пришел к себе и сразу лег и сразу заснул, потому что нужно было мне как следует отдохнуть, потому что завтра открывался Сойм.
Он назавтра утром и открылся. Это у меня на первом этаже, в Большой коронной зале, как тому и полагается. Их тогда, как я уже говорил, столько понаехало, что мои стрельцы еще загодя, с ночи, три ряда новых лавок доставили, чтобы все поместились. Они и поместились, расселись. Потом и я пришел, и тоже сел. Вышел великий крайский маршалок пан Зыгмунд Талала и доложил: вот, господарь, мы собрались на Сойм, будем решать державные дела по совести и справедливости, будем держаться старины, а новины не допускать, и от тебя того же ждем. Я встал, сказал ему в ответ вроде того, что я очень рад тому, что их так много сошлось, значит, радеет панство о державе, и это очень хорошо, и я буду вместе с ними радеть, стоять за старину, а новины не допускать, и сел. Ого! Они молчат, набычились! Они, я это точно знал, ждали, что я буду им про Цмока говорить, про побитых князей да панов, про то, что я тут ни при чем, а это стихия во всем виновата. А я промолчал!
Ну ладно, промолчал так промолчал. Опять выходит маршалок пан Талала и начинает зачитывать регламент. Регламент был такой: заседаний на четыре дня, с десяти и до шести, на первые три дня заявлена всякая мелкая дрянь (это не он, а я так говорю, а он хвалил), а на четвертый, он сказал, на весь день всего один вопрос, про Цмока. Я послушал Талалу, встал, сказал, что мне этот регламент годный, а как им? Они закричали, что годный. Значит, у нас сгода, говорю. И они ответили, что сгода. Тогда великий крайский писарь пан Мацей Вужака вышел и спросил: так записать? Мы закричали: записать. Писарчуки записали. После чего великий крайский маршалок пан Талала объявил, что Сойм считается открытым, начинаем первый день, будем обговаривать первый вопрос.
Первый вопрос был о налогах на ввоз к нам предметов роскоши. Обсуждали список этих предметов. Шуму было много, часа на три, восемь раз голосовали и переголосовывали, а получилось что? Да только то, что чужинское шипучее с перцем из списка вынести, потому что с перцем это разве роскошь, это только для здоровья, а вот зато чужинское же шипучее сладкое, как форменное баловство, обложить двойным налогом. Такая получилась сгода. Смех, да и только!
Вторым вопросом был запрет на порубку пущи в пятимильной полосе вдоль всей нашей границы – и на царской, и крунской, и на вольной, и на вражской сторонах. Вот это было правильно и своевременно, потому что пуща – это наш природный щит. Вопрос решился просто и почти единогласно. В него даже еще добавили: запретить не только рубку деревьев, но также и кустов, и даже сбор хвороста, наведение мостов и гатей и рытье всяких канав. И это тоже правильно, полная сгода.
Третий вопрос был о сборе дикого льна. Вот тут уже паны крепко заспорили. Одни стали кричать, что он уже не везде дикий, а если это так, то и меры на его налогообложение нужно срочно разделять и с тех, кто этот лен специально разводит, брать вдвое больше, чем с остальных. Это было одно мнение. Другое мнение было такое: нет, нужно все наоборот, потому что если этот лен уже не просто собирают, а имеют от его разведения дополнительные траты, то с них нужно налоги вдвое или даже втрое снизить. Короче говоря, сильно они схватились, долго спорили, все наше время вышло, куранты прокурантили, стемнело, и великий крайский маршалок пан Талала объявил заседание закрытым, писарчуки убрали перья за уши, а я встал и пригласил всех поважаных панов депутатов в соседнюю, закусочную залу, с тем чтобы там немного отдохнуть и подкрепиться. Мне на это была дана сгода, и мы перешли.
Там было хорошо: со столом я не пожадничал, стол был накрыт, как на свадьбу. Да и…
А что! Оно так исстари положено – я туда пришел и сел там уже не один, а вместе с Нюрой и Аленой. Алена была хороша! Скромна и в то же самое время очень привлекательна. А наряд на ней был такой расчудесный, что на следующий день, на заседании, нашлись среди поважаных панов депутатов такие бесстыжие собаки, которые хотели было даже поднять вопрос об усекновении расходов на содержание Палаца, то есть меня и моих. Вот до чего дошло! Но разумные трезвые головы этих собак быстро урезонили, и работа дальше пошла строго по регламенту.
Но я забегаю вперед. Так вот, Алена была очень хороша, паны на нее так и зыркали. А как еще сильней подвыпили, так стали в честь нее и здравицы выкрикивать. А как был объявлен балет и заиграла музыка, так нашлись среди них и такие горячие души, что со своих мест повскакивали и уже пошли Алену приглашать в первую пару, но я сказал: панове, это Сойм, а не пир, так что пока сидите. Они сели. Вышли мои танцоры, станцевали балет и ушли. Потом и мы все трое – я, Нюра и Алена – тоже скоро ушли. А паны депутаты еще посидели. А когда уже и они расходиться пошли, так пан Генусь Липка из Попечива бился на саблях с паном Карпом Смагой из Блинцов. Из-за кого они бились, не мне вам объяснять. И не мне же было их, этих панов, потом стыдить! И Алене было радостно.
Да и сам второй день заседаний прошел очень гладко – о диком льне договорились, была сгода оставить все, как было прежде, то есть старины не нарушать. И о сборах в казну тоже было решено ничего не изменять. А вот охоту на мелкого зверя решили на две недели ограничить в сроках, мол, народу и того будет достаточно. И также привелеи городам малость урезали. Для их же, говорили, пользы, пусть больше стараются, а не живут на привозном. Этим второй день закончился. Потом опять пошли в закусочную залу, и опять там Алена блистала. А вечером опять паны рубились.
Третий день тоже был простой – они спорили о межевом делении, где кому что принадлежит, кто у кого чего оттяпал, межу перенес. Ох, было тогда у них крику! И как только тогда стекла из окон не повылетали! А мне до всего этого и дела не было. Я сидел себе, молчал и набирался сил перед четвертым, решительным днем. А Алена как всегда сверкала, а паны промеж собой рубились.
Но вот пришел четвертый день. Заседание, как это и положено, открыл пан Талала. Сказал: сегодня у нас только один вопрос, про Цмока, про его зверскую расправу над ясновельможными князьями и преданными им панами, общим числом даже страшно назвать, докладчик пан Деркач. Этот Деркач, Мартынов дядя по кудели, выходит и пошел, пошел чесать, гневно, подробно, увлекательно. Долго чесал, не меньше часа, все Цмоку припомнил, мне тоже немало досталось, потом говорит: так что, Панове депутаты, что это за власть у нас такая, которая нас на нашей же земле не может оградить от злодейства? И сразу ко мне: что ты на это скажешь, господарь? Я усмехнулся, говорю (даже вставать тогда не стал, сидя ответил), что мне говорить еще рано, потому что это дело весьма сложное, тут никакого решения сразу не примешь, нужно еще обсудить. И смотрю на них, жду.
И дождался! Встает мой самый верный человек, великий крайский канцлер пан Язэп Шопа, и, обращаясь к пану Деркачу, спрашивает: а свидетели того злодейства есть? Пан Деркач смутился, говорит: есть, два Сымонских гайдука, Сенька и Гришка. На такое заявление пан Шопа только головой покачал и сказал, что выслушивать каких-то простых хлопов – это для Высокого Сойма весьма оскорбительно, так, великий писарь, или нет? Великий крайский писарь пан Вужака подтвердил, что это так, и глянул на меня, я ему подмигнул, он и сказал: поважаное панство, да что мы, неужели без хлопов не справимся, что мы, только сегодня в первый раз про Цмока слышим, разве нам про Цмока нечего подумать и сказать, давайте, поважаные паны, кто желает, записывайтесь для выступления в прениях, всех запишу, потому как только в прениях, в трудах, настоящие законы и рождаются.
О, что тут началось! Кинулись они записываться, после стали выступать – и тогда такое понесли, сякое-растакое, что только удивляться успевай! Потому что чего они тогда только не вспомнили, чего они тогда только не предложили! А начнут голосовать – не голосуется. А времечко идет, а мне только того и надо! Смотрю, уже пять пополудни прокурантило, вот, думаю, осталось всего один час просидеть, протерпеть, и время выйдет, Сойм закроется, а решения они так и не примут, потому что вон еще сколько выступающих записано!
Но тут, правда, и они сообразили, что к чему. Стал пан Деркач на них орать, вроде того, вы что, Панове, белены объелись, сейчас Сойм кончится, а мы так ничего и не решим, кончаем прения, давай пусть господарь нам отвечает, а мы еще потом наговоримся, после Сойма! Да только куда там! И этот рвется выступить, и этот, и этих еще вон сколько, и разве их унять, они же таковы, что каждый из них думает, что только он один и знает, как это дело решить, вот он сейчас выйдет и скажет – и все сразу решится, а остальные все – дурные дурни. Вот, кстати, что у нас в Крае главное – не своевольная вольница, а то, что каждый себя самым умным считает, а всех остальных дурнями. А на самом же деле все они здесь дурни. Вот теперь эти дурни и рвутся говорить – и говорят и говорят, а времечко бежит, и Сойм уже вот– вот закончится, а я сижу себе и только руки в душе потираю. А наяву я серьезный такой, озабоченный, это им, я знаю, очень нравится. А Деркач весь белый, весь трясется, срамит панов…
И досрамил! Закончил-таки прения. Пан великий крайский маршалок дал ему слово. Он, этот Деркач, на часы покосился, видит, осталось десять минут до шести, еще сильнее побелел и быстро, кратко говорит: а ты, ваша великость, как теперь, после всех прений-выступлений видишь это дело, как думаешь его решать? Я тогда уже встаю и говорю примерно так: дело это действительно очень сложное и запутанное, не зря поважаные паны депутаты так долго его обсуждали и так и не дообсудили, да это и правильно, потому что здесь сгоряча рубить нельзя, особенно если учитывать то, о чем здесь пока еще никто ни слова не сказал, а именно: Цмок – это кто: он зверь или он человек?








