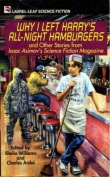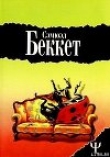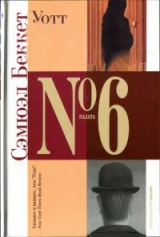
Текст книги "Уотт"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Но если рот Уотта и был разинут, челюсть отвисла, глаза остекленели, голова опустилась, колени подогнулись, а спина сгорбилась, то вот мозг его работал, работал, обдумывая, что же лучше сделать, закрыть дверь, из которой, как он чувствовал затылком, сквозило, поставить сумки и присесть, или закрыть дверь, поставить сумки, но не присаживаться, или закрыть дверь, присесть, но не поставить сумки, или поставить сумки и присесть, не закрывая дверь, или закрыть дверь, из которой, как он чувствовал затылком, тянуло, но не поставить сумки и не присесть, или поставить сумки, не позаботившись закрыть дверь или присесть, или присесть, не потрудившись поставить сумки или закрыть дверь, или оставить все как есть: сумки – оттягивающими руки, дверь – бьющей по ногам, а воздух – просачивающимся через дверь к его затылку. И вывод из размышлений Уотта был таков, что если из этого стоит сделать что-то, то стоит сделать все, однако не стоит делать ничего, нет, ничего, поскольку все это без исключения неразумно. Поскольку у него не будет времени, чтобы отдохнуть и согреться. Поскольку если ты сел, тебе придется встать, если поставил ношу, придется ее поднять, если закрыл дверь, придется ее открыть, не успел сделать одно, как уже приходится делать другое, а это в конце концов наверняка окажется скорее утомительным, нежели приносящим отдых. А еще он сказал, в качестве дополнения, что, даже будь у него в распоряжении вся ночь, чтобы отдохнуть и согреться, сидя на стуле на кухне, даже тогда это был бы жалкий отдых и никудышное согревание по сравнению с отдыхом и согреванием, которые он помнил, отдыхом и согреванием, которых он ждал, воистину жалкий отдых и ничтожное согревание, так что они в конце концов в любом случае наверняка окажутся скорее источником раздражения, нежели удовлетворения. Но усталость его под конец этого долгого дня была столь велика, время сна наступило столь давно, а желание отдохнуть и согреться вследствие этого столь сильно, что он нагнулся, явно намереваясь поставить сумки на пол, закрыть дверь, присесть за стол, положить на него руки, опустить, да, опустить на них голову и, как знать, быть может даже погрузиться через пару мгновений в беспокойный сон, раздираемый видениями прыжков с огромной высоты в воду с таящимися в глубине камнями перед многочисленной публикой. Так что он нагнулся, но нагнуться как следует не успел, поскольку наклон закончился, едва начавшись, и едва он привел в действие программу отдыха, беспокойного отдыха, как тут же внес в нее поправки и замер в досадном полустоячем положении, положении столь плачевном, что сам это заметил и улыбнулся бы, если бы не был слишком слаб, чтобы улыбаться, или рассмеялся бы, если бы был достаточно силен, чтобы рассмеяться. Внутренне он, конечно, забавлялся, и на мгновение разум его освободился от забот, но не так, как было бы в том случае, если бы у него хватило сил улыбнуться или рассмеяться.
На тропинке, где-то между домом и дорогой, Уотт с сожалением припомнил, что не попрощался с Миксом, хотя стоило бы. Несколько простых слов перед расставанием, это так много значит для остающегося, для уходящего, он не обладал обыкновенной вежливостью, чтобы сказать их перед тем, как покинуть дом. Побуждение вернуться и исправить эту оплошность заставило его остановиться. Но простоял он недолго, после чего продолжил путь к калитке и дороге. И правильно сделал, поскольку Микс покинул кухню раньше Уотта. Но Уотт, не зная того, что Микс покинул кухню раньше него, поскольку понял это лишь много позже, когда было уже слишком поздно, чувствовал сожаление по пути к калитке и дороге, что не попрощался с Миксом хотя бы коротко.
Стояла необыкновенно роскошная ночь. Луна, пусть и неполная, была почти полной, через день-другой она будет полной, а затем начнет убывать, пока вид ее на небе не станет тем, что некоторые писатели сравнивают с серпом. Прочие небесные тела, хоть и были по большей части расположены на огромном расстоянии, тоже изливали на Уотта и те красоты, через которые он двигался, сожалея в сердце своем о небрежении по отношению к Миксу, свет, к отвращению Уотта, столь яркий, столь чистый, столь ровный и столь белый, что его продвижение, хоть и болезненное и неуверенное, было менее болезненным, менее неуверенным, чем он ожидал при выходе.
Уотту всегда везло с погодой.
Он шел по заросшей травой обочине, поскольку не любил ощущать гравий под ногами, а цветы, высокие травы и ветви кустов и деревьев задевали его, что он не находил неприятным. Скольжение по макушке шляпы какого-то качающегося зонтичного растения, возможно рожкового дерева, доставило ему особенное наслаждение, и не успел он отойти далеко от этого места, как повернулся, вернулся туда и встал под ветвью, внимательно прислушиваясь к тому, как ездят кисточки по макушке его шляпы взад-вперед, взад-вперед.
Он отметил, что ветра не было, ни малейшего дуновения. А ведь на кухне он чувствовал затылком холодный ветерок.
На дороге его охватила уже упоминавшаяся преходящая слабость. Но она прошла, и он продолжил путь к железнодорожной станции.
Из-за строительного камня, которым была завалена тропинка, он шел по середине дороги.
По пути он не встретил ни души. Отбившийся от стада осел или козел, лежавший в тени канавы, приподнял голову, когда он проходил мимо. Уотт не видел осла или козла, но осел или козел видел Уотта. И следил за ним глазами, пока тот, медленно идя по дороге, не пропал из виду. Возможно, он думал, что в сумках была какая-нибудь вкусная еда. Когда он перестал видеть сумки, то опустил голову обратно в крапиву.
Когда Уотт добрался до железнодорожной станции, та была закрыта. На самом деле она была закрыта еще за некоторое время до того, как Уотт до нее добрался, и все еще была закрыта, когда он до нее добрался. Поскольку сейчас, возможно, было между часом и двумя утра, а последний поезд, останавливавшийся на этой железнодорожной станции ночью, и первый, останавливавшийся утром, останавливались первый между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи, а второй между пятью и шестью часами утра. Так что данная железнодорожная станция закрывалась самое позднее в двенадцать часов ночи и никогда не открывалась раньше пяти часов утра. А поскольку сейчас, вероятно, было между часом и двумя утра, железнодорожная станция была закрыта.
Уотт взошел по каменным ступеням и встал перед калиткой, вглядываясь через ее прутья. Его восхитило верхнее строение пути, тянувшееся в обе стороны в лунном и звездном свете насколько хватало глаз, насколько хватило бы глаз Уотта, если бы он оказался на станции. Также он с удивлением обозревал всеобщее удаление равнины, ее вольготный и незамысловатый отлив к горам, морщинистую умбру ее края. Вздымаясь вместе со вздымавшейся землей, взгляд его в итоге устремился на зеркальное небо, его угольные мешки, обрамляющие его созвездия и на размытые глаза, вглядывающиеся из водной глуби. Наконец он вдруг сфокусировался на калитке.
Уотт перелез через калитку и оказался на платформе вместе со своими сумками. Поскольку заранее догадался, еще до перелезания калитки, перекинуть через нее сумки, дав им упасть на землю с противоположной стороны.
Первое, что сделал Уотт, оказавшись целым и невредимым вместе со своими сумками на станции, – повернулся и посмотрел через калитку туда, откуда только что пришел.
Из многих трогательных перспектив, предлагавшихся к обозрению, ничто не тронуло его больше дороги, ставшей еще белее, чем днем, и еще красивее несшейся между своих изгородей и канав. Дорога эта, изрядное расстояние шедшая прямо, вдруг резко ныряла и терялась из виду в отвратительной неразберихе вертикальной растительности.
Трубы дома мистера Нотта видны не были, несмотря на великолепную видимость. В погожие дни их можно было различить со станции. Но в погожие ночи – явно нет. Поскольку глаза Уотта, когда он собирался с силами, были не хуже любых других даже в ту пору, а ночь была исключительно погожей даже для этой части страны, славившейся погожестью своих ночей.
Уотту всегда чертовски везло с погодой.
Уотт уже начал уставать водить глазами вдоль дороги, как вдруг фигура, явно человеческая, двигавшаяся вдоль нее, привлекла и вновь обострила его внимание. Первой мыслью Уотта было, что это существо поднялось из-под земли или свалилось с неба. Второй, появившейся минут пятнадцать-двадцать спустя, – что оно, возможно, появилось в этом месте, воспользовавшись как прикрытием сначала изгородью, а затем канавой. Уотт не мог сказать, принадлежала ли эта фигура мужчине, или женщине, или священнику, или монахине. Что она не принадлежала мальчику или девочке подтверждалось, по мнению Уотта, ее размерами. Но решить, принадлежала ли она мужчине, или женщине, или священнику, или монахине, было выше сил Уотта, как бы он ни напрягал глаза. Если она принадлежала женщине или монахине, то женщине или монахине необычайных размеров даже для этой части страны, примечательной необычайными размерами своих женщин и монахинь. Но Уотт прекрасно знал, прекрасно, прекрасно знал, каких размеров достигают некоторые женщины и некоторые монахини, чтобы заключить по размерам этого ночного странника, что этот ночной странник был не женщиной и не монахиней, но мужчиной или священником. Что касается одежды, то на таком расстоянии и при таком освещении она давала не больше догадок, чем если бы состояла из простыни, или мешка, или одеяла, или тряпки. Поскольку с головы до ног тянулись, насколько Уотт разглядел – а глаза его были не хуже, чем у кого угодно даже в то время, когда он давал себе труд сфокусировать их – сплошные поверхности цельного одеяния, тогда как на голову было асексуально нахлобучено подобие сплющенного и перевернутого ночного горшка, пожелтевшего, мягко говоря, от старости. Если фигура действительно принадлежала женщине или монахине необычайных размеров, то женщине или монахине необычайных размеров и необыкновенной неэлегантности. Однако по своему опыту Уотт знал, что гигантские женщины зачастую бывают неряхами, а гигантские монахини и подавно. Руки не заканчивались кистями, но тянулись – образом, который Уотт не определил – почти до самой земли. Ноги, быстро и порывисто вышагивавшие одна за другой, выбрасывались не только вперед, но и вбок, правая – вправо, левая – влево, из-за чего при каждом шаге трех, скажем, футов в окружности земля отвоевывалась не больше чем на фут. Из-за этого походка смахивала на походку узника с ядром, ввиду чего наблюдать ее было чрезвычайно мучительно. Уотт почувствовал, как в темноте внезапно вспыхнули и погасли слова: Леченье одно – диета.
Уотт с нетерпением ждал, когда этот мужчина, если это мужчина, или эта женщина, если это женщина, или этот священник, если это священник, или эта монахиня, если это монахиня, подойдет близко и вернет ему душевное спокойствие. Ему не нужна была беседа, ему не нужна была компания, ему не нужно было утешение, он ничуть не хотел эрекции, нет, все, чего он хотел, – это рассеять свою неуверенность на сей счет.
Он не знал, почему ему так интересно то, что идет по дороге. Он не знал, дерьмо – это хорошо или плохо. Ему казалось, если не затрагивать личные чувства скорби или удовлетворения, что следует изо всех сил презирать свой интерес к тому, что идет по дороге, глубоко презирать.
Он сообразил, что ничуть не успокоится, если фигура просто подойдет близко, нет, эта фигура должна будет подойти очень близко, очень-очень близко. Поскольку если фигура просто подойдет близко, а не очень-очень близко, как он узнает, если это мужчина, что это не женщина, или священник, или монахиня, переодетые мужчиной? Или, если это женщина, что это не мужчина, или священник, или монахиня, переодетые женщиной? Или, если это священник, что это не мужчина, или женщина, или монахиня, переодетые священником? Или, если это монахиня, что это не мужчина, или женщина, или священник, переодетые монахиней? И Уотт с нетерпением ждал, когда фигура подойдет очень-очень близко.
Пока Уотт все ждал, когда фигура подойдет очень-очень близко, он сообразил, что не было никакой необходимости, совершенно никакой необходимости, чтобы фигура подходила очень-очень близко, и умеренного приближения было бы более чем достаточно. Поскольку озабоченность Уотта, хоть и казавшаяся глубокой, касалась вовсе не того, чем фигура в действительности являлась, а того, чем фигура в действительности казалась. Поскольку с каких это пор Уотта заботило то, чем в действительности являлись вещи? Но он постоянно повторял эту старую ошибку, ошибку той поры, когда он, распираемый любопытством, ковылял в гуще мутного вещества. Это весьма удручало Уотта. И Уотт с нетерпением ждал, когда фигура подойдет близко.
Он ждал и ждал, обхватив руками прутья калитки, так что ногти впились в ладони, сумки стояли у ног, глядя сквозь прутья, глядя на это непостижимое зрелище, порядком изнывая от нетерпения. Под конец его возбуждение стало столь велико, что он со всей мочи затряс калитку.
Уотта возбудило то, что за те десять или тридцать минут, которые прошли с тех пор, как он впервые заметил эту фигуру, идущую по краю дороги к станции, она ничуть не прибавила ни в высоте, ни в ширине, ни в отчетливости. Все это время шагая вперед, не сбавляя изначальной скорости, к станции, она продвинулась не больше, чем если бы была мельничным жерновом.
Пока Уотт размышлял над всем этим, фигура, не прерывая движения, начала становиться все бледнее и бледнее и под конец исчезла.
Уотт, казалось, по какой-то туманной причине счел именно это видение обладающим особым интересом.
Уотт подобрал сумки и, обогнув здание, вышел на платформу. В сигнальной будке горел свет.
Сигнальщик, пожилой мужчина по имени Кейс, поджидал в своей будке, как делал это каждую ночь за исключением той, что приходилась с воскресенья на понедельник (странно), когда проходящий экспресс безопасно минует станцию. Тогда он отложит сигналы и отправится домой к своей одинокой жене, оставив станцию пустынной.
Чтобы убить время и в то же время развить ум, мистер Кейс читал книгу «Попутные песни» Джорджа Рассела (А. Э.). Откинув голову, мистер Кейс держал книгу на расстоянии вытянутой руки. Для сигнальщика мистер Кейс превосходно разбирался в книгах.
Мистер Кейс читал:
Густые усы мистера Кейса вторили движениям его губы, когда та издавала, то недовольно, то с отвращением, различные звуки, из которых состояли эти слова. Нос тоже не отставал, и кончик, и ноздри. Трубка ходила туда-сюда, а из уголка рта на вельветовый жилет бесконтрольно сбегала струйка слюны.
Уотт стоял в каморке точно так же, как стоял на кухне: сумки в руках, глаза открыты и неподвижны, позади – открытая дверь. Мистер Кейс приметил Уотта через окошко своей будки еще в вечер его прибытия. Так что внешность эта была ему знакома. Теперь ему это пригодилось.
Время не подскажете? сказал Уотт.
Было, как он и опасался, раньше, чем он надеялся.
Нельзя ли мне попасть в зал ожидания? сказал Уотт.
Вот тут-то и оказалась закавыка. Поскольку мистер Кейс не покидал будку, пока не отправлялся домой к своей беспокойной жене. Было равно невозможно, отсоединив ключ от связки, вручить его Уотту, сказав: Сэр, вот ключ от зала ожидания, я зайду за ним по пути домой. Нет. Поскольку зал ожидания сообщался с билетной кассой таким образом, что попасть в зал ожидания можно было, только пройдя через билетную кассу. А ключ от двери зала ожидания не открывал двери билетной кассы. Так что было равно невозможно, сняв два ключа с кольца, вручить их Уотту, сказав: Сэр, вот ключ от зала ожидания, а вот – от билетной кассы, я зайду за ними, когда буду уходить. Нет. Поскольку билетная касса сообщалась со святая святых начальника станции таким образом, что попасть в святая святых начальника станции можно было, только пройдя через билетную кассу. А ключ от двери билетной кассы открывал дверь святая святых начальника станции таким образом, что обе эти двери были представлены на каждой связке станционных ключей, на связке начальника станции мистера Гормана, на связке сигнальщика мистера Кейса и на связке носильщика мистера Нолана не двумя ключами, а лишь одним.
Таким образом достигалась экономия не менее чем трех ключей, и начальник станции мистер Горман намеревался снизить количество станционных ключей установкой в недалеком будущем за счет компании в дверь зала ожидания замка, идентичного уже идентичным замкам дверей билетной кассы и его святая святых. Этот план он поведал в недавней беседе мистеру Кейсу и мистеру Нолану, и ни мистер Кейс, ни мистер Нолан не привели никаких возражений. Но в чем он не признался ни мистеру Кейсу, ни мистеру Нолану, так это в том, что целью его была установка мало-помалу в ближайшем будущем за счет компании в калитку и двери сигнальной будки, комнаты отдыха носильщиков, багажного отделения, женского и мужского туалетов замков столь хитроумных, что ключ, пока что с равной легкостью открывавший двери билетной кассы и святая святых начальника станции, а вскоре без малейшей трудности открывавший бы дверь зала ожидания, открывал бы все эти двери тоже, одну за другой, со временем. Тогда, с уходом на покой, если только он прежде не умрет, или по своей смерти, если только он прежде не уйдет на покой, он оставит станцию уникальной хотя бы в этом отношении среди станций этой линии.
Ключи от кассы, один из которых мистер Горман носил на часовой цепочке, чтобы не потерять, если в кармане его брюк образуется дырка, как это часто бывает с карманами брюк, и не выронить этот ключик, который был мал, доставая мелочь, а второй, если вдруг часовая цепочка потеряется или будет украдена, – в кармане брюк, эти маленькие ключи мистер Горман не числил среди станционных ключей. И действительно, ключи от кассы вовсе не были, говоря строго, станционными ключами. Поскольку станционная касса, в отличие от станционных дверей, не оставалась на станции весь день и всю ночь, но покидала станцию вместе с мистером Горманом, когда тот уходил вечером домой, и не возвращалась до следующего утра, когда мистер Горман возвращался на станцию.
Мистер Кейс обдумывал все это или те части, которые счел уместными, бесстрастно взвешивая доводы за и против. В итоге он пришел к выводу, что сейчас ничего не может сделать. Когда экспресс пройдет и уйдет, а он будет волен отправиться домой к своей нервной жене, тогда он сможет что-нибудь сделать, тогда он сможет пустить Уотта в зал ожидания и оставить его там. Но едва он пришел к выводу, что сможет сделать это, оказав Уотту услугу, как понял, что сможет сделать это лишь при том условии, что запрет за ним дверь билетной кассы. Поскольку он не мог уйти, оставив на спящей станции дверь билетной кассы открытой. Но при этом условии, то есть если Уотт согласится быть запертым в билетной кассе, он сможет оказать Уотту услугу, как только пройдет и уйдет экспресс. Но только он решил, что сможет оказать Уотту услугу при этом условии, как сообразил, что даже при этом условии он не сможет оказать Уотту услугу, если только Уотт не согласится быть запертым не только в билетной кассе, но и в зале ожидания. Поскольку вопрос о том, чтобы Уотт на протяжении всей ночи имел свободный доступ на спящей станции к предбаннику святая святых начальника станции даже не стоял. Но если он не против быть запертым до самого утра не только в билетной кассе, но и в зале ожидания, тогда мистер Кейс не видел никаких причин, по которым зал ожидания не мог быть предоставлен в его распоряжение сразу же после того, как экспресс безопасно пройдет мимо, заполненный пассажирами и дорогостоящим грузом.
Мистер Кейс уведомил Уотта о решении, которое он принял про себя касательно просьбы Уотта быть допущенным в зал ожидания. Причины, заставившие мистера Кейса принять про себя именно такое решение, а не какое-либо еще, мистер Кейс имел деликатность оставить при себе как могущие причинить Уотту скорее боль, чем удовольствие. Поутру, сказал мистер Кейс, как только придет мистер Горман или мистер Нолан, вас выпустят, и вы сможете приходить и уходить, когда вам вздумается. Уотт ответил, что это действительно здорово, а мысль о том, что поутру его освободит мистер Горман или мистер Нолан, и тогда он сможет приходить и уходить, когда ему захочется, будет поддерживать его всю ночь. А пока что, сказал мистер Кейс, если вы изволите зайти сюда, в будку, закрыть дверь и взять стул, я буду счастлив побыть с вами. Уотт ответил, что будет лучше, если он подождет снаружи. Он походит по платформе туда-сюда или присядет на скамейку.
Уотт улегся на скамейку, на спину, подсунув сумки под голову и надвинув шляпу на лицо. Это в какой-то мере отгораживало луну и менее значительные красоты этой великолепной ночи. Проблема видения, по мнению Уотта, допускала лишь одно решение: глаза, открытые в темноте. Закрытые глаза, считал Уотт, были вещью совершенно неудовлетворительной.
Первым делом Уотт обдумал экспресс, что вскоре должен был прогрохотать через спящую станцию на огромной скорости. Это он обдумал внимательно и во всех подробностях. Но под конец вдруг перестал думать так же внезапно, как и начал.
Он лежал на скамейке без единой мысли или ощущения за исключением того, что одна из ног слегка замерзла. Голоса в его черепе, нашептывавшие свои речи, смахивали на мышиный топоток, на шуршание в пыли множества маленьких серых лапок. Это, говоря строго, все-таки тоже было ощущением.
Мистеру Кейсу пришлось объяснить свою настойчивость. Однако хватило и нескольких слов. Несколько слов из уст мистера Кейса, и Уотт все понял. Мистер Кейс держал в руке штормовой фонарь. Тот испускал донельзя хилый желтый луч. Мистер Кейс говорил о поезде с профессиональной гордостью. Он отбыл вовремя, он прошел вовремя и он прибудет к месту назначения – если только ничто его не задержит – вовремя.
Вот, стало быть, чем объяснялась недавняя здешняя суета.
Уотт уже целых два часа не мочился. Но он не чувствовал никакой надобности, более того, желания помочиться. Ни капли, ни капельки я из себя не выдавлю, думал он, хорошей, плохой или никакой, если только мне за это не заплатят. И это он, который обычно ежечасно мочился с такой охотой, с таким наслаждением. Эта была его последняя регулярная привычка, поскольку таковой он не почитал ни свои еженедельные ходки по-большому, ни случающиеся раз в полгода, в равноденствие, ночные извержения в пустоту, и теперь он некоторое время предвидел ее нарастание и последующий взрыв с отчетливо воспринимаемыми и быстро чередующимися грустью и радостью, которые со временем смешались и угасли.
Уотт с сумками в руках стоял на полу, который на ощупь казался каменным, а верное тело, его не ведающее отдыха тело не рухнуло внезапно на колени или копчик, а затем ничком или навзничь, нет, но сохраняло равновесие примерно так, как его научила мать и закрепил юношеский конформизм.
До его ушей донеслись звуки шагов, все тише и тише, пока из всех тихих звуков, доносившихся покинутым воздухом до его ушей, все, насколько он рассудил, не перестали быть звуком шагов. Эту музыку он особенно любил – разделенную тишину, смыкающуюся, подобно занавесу, за удаляющимися шагами или иными шорохами. Однако путь мистера Кейса пролегал позади станции, и его шаги вновь донеслись четыре-пять раз, словно таясь, до ушей Уотта, далеко выпиравших по обе стороны его головы, как у?. Скоро они донесутся и до миссис Кейс, до ее ушей, уставших от шорохов, не содержащих звуки шагов, все громче и громче, пока не достигнут газона. Редкие звуки приносили миссис Кейс большее удовлетворение, если только вообще что-либо приносило ей удовлетворение. Странной она была женщиной.
Часть зала ожидания была слабо озарена просачивавшимся снаружи светом. Переход от этой части к другой был более внезапным, поскольку Уотт уже перестал прислушиваться, чем он подумал бы, если бы не видел этого собственными глазами.
Насколько Уотт разглядел, в зале ожидания не было ни мебели, ни еще каких-либо предметов. Разве только у него за спиной. Это не показалось ему странным. Не показалось ему это и обычным. Поскольку у него сложилось впечатление, когда по сигмоиде он выбрался на его середину, что это такой зал ожидания, даже о наивысших степенях странности и обычности которого нельзя говорить с уверенностью.
Женский рот, тонкие губы которого слипались и разлипались, шепотом говорил о том, что в пустом зале поместится куда больше народу, чем если он будет заставлен креслами и диванами, и о том, как напрасно сидеть, как напрасно лежать, когда снаружи хлещет дождь, или град, или снег, с ветром или без оного, или солнце, более-менее отвесно. Женщину эту звали Прайс, то была на редкость тощая и скаредная особа, примерно тридцатью пятью годами ранее на полном скаку вошедшая в пору менопаузы и увядания. Уотт был рад вновь услышать ее голос, вновь увидеть радужные пузырьки слюны. Был он рад и когда тот утих.
Теперь зал ожидания был не таким пустынным, как Уотт поначалу предположил, если судить по присутствию, примерно в двух шагах спереди от Уотта и в стольких же справа, предмета, имевшего, казалось, некоторое значение. Уотт не определил, что это такое, хоть и потрудился склонить голову, изогнув шею, в этом направлении. Это не было частью ни потолка, ни стены, ни – хоть это вроде бы и соприкасалось с полом – пола, – вот все, что Уотт мог утверждать касательно этого предмета, да и это немногое он утверждал с оговорками. Но этого немногого было достаточно, для Уотта было достаточно, более чем достаточно, возможности того, что нечто в этом помещении помимо него находилось внутри его пределов.
Запах, необычайно зловонный и в то же время чем-то знакомый, побудил Уотта предположить, что под досками у его ног скрывается разлагающийся остов какого-нибудь мелкого животного вроде собаки, кошки, крысы или мыши. Поскольку пол, хоть и казавшийся Уотту каменным, был в действительности весь выстлан досками. Этот запах был настолько силен, что Уотт чуть не поставил сумки и не вытащил носовой платок, или, точнее, рулон туалетной бумаги, лежавший у него в кармане. Поскольку Уотт, чтобы сэкономить на стирке и, несомненно, доставить себе удовольствие, убив двух зайцев одним выстрелом, никогда не прочищал нос, разве только если обстоятельства позволяли прямое вмешательство пальцами, ничем, кроме туалетной бумаги, каждый отдельный клочок которой, как следует пропитавшийся, скомкивался и отшвыривался прочь, а руки с большим успехом прочесывали волосы или терлись друг о дружку, пока не начинали сиять.
Запах, однако, вовсе не был тем, что Уотт поначалу предположил, а несколько иным, поскольку со временем становился все слабее и слабее, чего не сделал бы, будь он тем, что Уотт поначалу предположил, а под конец совсем пропал.
Но вскоре он вернулся, тот же самый запах, повитал в воздухе и снова исчез.
Так продолжалось несколько часов.
Было нечто в этом запахе, что, как ни крути, нравилось Уотту. Хотя он ничуть не печалился, когда тот пропадал.
В зале ожидания постепенно сгущалась тьма. Не было больше темной части и менее темной части, нет, все теперь было одинаково темным и оставалось таким некоторое время.
Наступала эта значительная перемена незаметно.
Некоторое время в зале ожидания было совсем темно, затем темнота в зале ожидания начала медленно озаряться, повсюду, крайне медленно, и это продолжалось с неизменной скоростью, пока расширенному глазу не стала смутно видна каждая часть зала ожидания.
Теперь Уотт увидел, что его спутником все это время было кресло. Оно стояло спинкой к нему. Мало-помалу, пока становилось светло, он узнал это кресло так хорошо, что под конец знал его лучше, чем те многочисленные кресла, на которых он сидел, или стоял, когда до чего-нибудь не дотягивался, или натягивал обувь на ноги, или приводил ноги в порядок, одну за другой, подрезая и подпиливая ногти и протыкая ложкой мозоли.
Это было высокое, прямое, черное деревянное кресло с подлокотниками и на колесиках.
Одна из его ножек была прикручена к полу посредством скобы. Что до остальных, то не на одной, а на всех имелись схожие – если не такие же в точности – кандалы. Не на одной, а на всех! Но шурупы, некогда, несомненно, крепившие их к полу, были милосердно удалены. Через вертикальные прутья спинки Уотт частично видел камин, доверху забитый золой и углями чудесного серого цвета.
Это кресло пробыло в зале ожидания вместе с Уоттом все то время, пока было темно, потом совсем стемнело, и все еще было с ним, когда начался бодрящий рассвет. Его же, в конце концов, можно было унести прочь и поставить где-нибудь еще, или продать на аукционе, или отдать.
Все остальное, насколько Уотт видел, было стеной, или полом, или потолком.
Затем на стене неспешно проступила большая цветная репродукция коня Джосса, изображенного в профиль стоящим на поле. Сперва Уотт различил поле, потом коня, а потом, благодаря подписи великого? и коня Джосса. Этот конь, как следует утвердившись на земле на четырех своих копытах, опустил голову и, казалось, без аппетита приценивался к траве. Уотт наклонил голову, чтобы выяснить, действительно ли это конь, а не кобыла или мерин. Однако эти интересные данные были скрыты, просто скрыты, бедром или хвостом, скорее из приличия, чем из хороших манер. Освещение свидетельствовало о приближавшейся ночи, надвигавшейся буре или и о том, и о другом. Трава была жидкая, сухая и изобиловавшая тем, что Уотт принял за разновидность сорняка.
Конь, казалось, и стоять-то едва мог, не то что бежать.
Этот предмет тоже не всегда здесь был, не всегда, возможно, здесь будет.
Донельзя тощие мухи, вдохновленные на новые усилия еще одной зарей, снимались со стен, потолка и даже пола и большими отрядами устремлялись к окну. Там, прижавшись к непроницаемым плоскостям, они наслаждались светом и теплом долгого летнего дня.
Вдали раздался веселый посвист, и чем ближе он звучал, тем веселее становился. Поскольку настроение мистера Нолана всегда поднималось, когда поутру он приближался к станции. Поднималось оно также и ввечеру, когда он ее покидал. Стало быть, дважды в день мистеру Нолану был гарантирован подъем настроения. А когда настроение мистера Нолана поднималось, он не больше мог удержаться от веселого посвиста, чем жаворонок – от пения во время полета.
После распахивания всех станционных дверей с видом штурмующего крепость у мистера Нолана была привычка удаляться в комнату отдыха носильщиков и выпивать там первую за день бутылочку портера за вчерашней вечерней газетой. Мистер Нолан обожал читать вечернюю газету. Он прочитывал ее пять раз: за чаем, ужином, завтраком, утренней бутылочкой портера и обедом. Вечером же, будучи натурой весьма галантной, он относил ее в женское заведение и оставлял там на видном месте. Мало что из грошовых удовольствий приносило больше радости, чем вечерняя газета мистера Нолана.