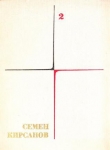Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
ПЕСНЬ О ДНЕПРЕ И ОДЕРЕ (1943–1945)
Днепр
Эй, к Днепру! Собирайтесь-ка вы, войсковые былинники, златоустые песенники Москвы, подымайтесь-ка вы до зари, кобзари, богатые трелями! Вот он, берег днепровский обстрелянный, ясно виден с высокой горы. Наклонись, летописец с певучим пером, заглядись, живописец с зеркальною кистью, на холмы над бурливым Днепром! И ашуг, засверкай драгоценною мыслью, и акын, надевай свою шапку лисью, – все лицом к небывалым боям! О, сурового времени новый Боян, не пора ли готовиться к песне? Там, у Киева, Гоголь, воскресни!
Делит Днепр на две стороны белый свет. Две стены: там еще небеса черны, тут рассвет. По ту сторону любо виться черному ворону, а по эту любо сизому соколу виться по небу высокому. Как оперся на той стороне в берег невольный одноногий черт шестиствольный, порохом вздуло железные пуза скрипух, и от рябого немецкого дула отделяется гибельный пух. Там, у хаты, брошенной старой Иванихой, «фердинанды» скрипят, набитые черной механикой. И в ночь стоит искропад бомб и звезд падучих. Не оттуда ль доносится слово «Schmerz», уходящее в смерть, когда дыбится поднятый бомбами смерч? Гул стоит в поднебесье. Там – на той стороне – почернелые прусские бесы роют рвы в обгорелой стерне. Это ад, возмездье вчерне. Обреченный анафеме род – никогда не увидит своих Бранденбургских ворот. Тут им жребии смертные выпали – не пройдут под берлинскими липами. Тут, у вишен сожженного сада, им могила указана. Не узнают другого, загробного ада. Им – и в адском бессмертье отказано. Но стоят, строят ад, упираются в глинистый камень, зарываются бронированными колпаками в крутизну нависающих гряд…
А сейчас, по осенней поре, преет утренний час на Днепре. Сыровато, волна серовата. Пар стоит, как серая вата. И встают на Днепре деревца водяные, будто снизу плюются вверх водяные из подводного града. Деревца эти от снарядов.
А на левом его берегу обтекают дивизии береговую дугу. Тут – подходят, идут. Будто тянут огромные мрежи по левобережью. Тянут колючие сети, длины небывалой на свете. И видны их следы вдоль великой днепровской воды. Это сети на недруга. Тянет сети высокий народ – самый кряжистый в мире: из Орла, с беломорских широт, из Сибири. Киевлянин тут есть, полтавчанин тут есть, украинцев не счесть. Все пришли постоять за днепровскую честь. И гранату сжимают рукою, подходят плотней к иглам железных плетней, угрожают врагу за старинной рекою, пролетают над ней.
Много суток бойцам не спать. Утомится водитель в танке, а не встать. Приварились к ногам портянки, не перемотать. Дни настали такие, встал и смотрит налево Киев. Гитлер тело Киева жжет… На костре, к железу прикрученный, город-мученик ждет. Ждет и просит нас не прощать их, руки дыма поднял Крещатик. Наморщинила желтый лоб и насупила бровь терраса. Ожидание так легло б и на лоб Тараса.
Там, пришпорив тяжелую бронзу коня, под вздувающимся балдахином огня, сам Богдан тряхнул седой головою, созывает народ золотой булавою на подвижничество боевое. И глазам украинцев больно смотреть на узорных будынков руины. Слышат хлопцы Хмельницкого грозное: «Геть! Годи терпеть! Нимцев геть з Украiни!» А войска спешат к нему по Днепру всему. Висит железный запах над каждым его мостом. А пушки на запад указывают перстом. И едут дороги, и едут понтоны, саперы смеются: «Уж мы не потонем!» Папаху казак заломил набекрень, балагурит, Тарасову люльку нашел и курит. Шумит у Днепра советский курень. Шляхи оживились взрытые, где трясутся машины крытые. Может, как встарь, улеглась в шарабане тесном и закрылась Катюша платком до глаз – девушка из песни? Да нет! Катюша она, да не та. Другая – смертельная красота. И трудно людям в бессонном походе, но они пошутить не прочь, что чуден Днепр при тихой погоде, и – знаете ли вы украинскую ночь?
На полях – огромны воронки, словно прошли гуртом великанши-буренки из какой-то чудной сторонки… Изгрызено поле гигантским ртом. Какими циклопами вырыты ямы? Какой возница-колосс землю исполосовал колеями от неизмеримых колес? Тянется низом сумрак, паром дрожит на сурмах. И, пока нисходит туман на лиман, появляются тени из старых времян, чубатые деды ждут победы. Деды полян, а может, древлян? Тьма лежит на крутизнах. Может, справляют тихую тризну, костром у реки закурив, Кий, Щек и Хорив? Мгла Днепр застлала, а это ли, друг, не струг ли с витязями Святослава? Чего в тумане не примерещится в свете осеннего месяца! Так странно светло, так сумрачно светится. А может, не месяц, а оселедец на запорожца падает лоб? А может, тени петровских солдат у костров погасших сидят? Туман о гигантские горы потерся, шинель о камни порвал… А может, то хлопцы – товарищи Щорса пришли сюда на привал?
Да, есть тут люди! Ветвями прикрыты щиты орудий, где древле стояли Аскольд и Дир. С такими ж усами стоит командир, и чуб ковыльный прячет под каску правильный. О ратных делах они говорят и тут же входят в историю. И с пением едет снаряд на ту сторону и там уже делает дело свое, огнем завершая свое бытие. И с ним вылетают другие – тяжелые детища металлургии. А это за Днепр воюет Урал, далек и огромен. Седые сражаются мастера у жарко натопленных домен. Горит на заре золотая вода, и пули дрожат, как оборванные провода. А хлопцы ведут спокойную речь (шевченковский голос не быстрый), по старой дороге, с ремнями оплечь, идут с автоматами, как бандуристы, да все на ту Запорожскую Сечь!.. А то по-другому их очи светятся, будто из пушкинских книг. А то у иных сошла на погоны Большая Медведица, а то у иных блестят на груди рубли неразменные, и люди они себе неизменные. Не он ли месил Днепрогэсу бетон – сапер, что наводит понтон? И так же во славу новых годов идут на победу вперед они – сыны величавой праматери Родины – к матери наших родных городов!
О, Днепро, твой исток – как дерева верхний листок, ручей серебряный севера изгибается около Волги великого дерева. Вас растила Россия и вместе свела – два ветвистых речных ствола, две вечных реки, обнимающих землю нашу, как две сестринских руки. И горе! И живу не быть тому, кто задумает их подрубить! Да, горе – могилу тому получить, кто может помыслить сестер разлучить! Горе, торе – и ранняя смерть на днепровском крутом косогоре. Вот он стоит в рубахе коричневой, держит кровавый колун, как стоял ненавистный Перун у Боричева. Днепр зовет: «Сволоки его! Сбрось в стремнину под Киевом! Сбрось в буруны кипящих атак! Как Перуна сбросил – вот так сбрось и германского Одина!» Так зовет в украинском платке величавая Родина. И пенок у нее в обожженной руке. И встает из Подола батько старый, и глаза его светом объяты. Говорит: «Погоните немцев за Стрый и далече еще – за Карпаты».
О, Днепро! Устье твое ушло в Черноморье корнями. К нему наклонялись казаки конями – испить серебро твое. Крепким, исконным корнем стоит земля наша на море Черном. Горе тому, горе, кто мыслит копать под днепровский корень, под Черное море! Гибель тебе, солдат гакенкройца [5]5
Свастика (нем. Hakenkreuz, «хакенкройц», дословно «крюковый крест», иногда переводится как «мотыгообразный крест» и т. п.) – получила известность как символ нацизма и гитлеровской Германии и в Западном мире стала устойчиво ассоциироваться именно с гитлеровским режимом и идеологией. Примечание сканериста.
[Закрыть], – Черное море могилой раскроется! Стиснет того волна ледяная, потащит за волосы к устью Дуная. Затянется смертью чужой человек, ввек не подымет Виевых век – море засасывает навек.
Бой идет – за Днепр голубой! Потонули в дыму церковные вышки, округлились дымки вдалеке, как разбитые зеркальца, брызнули вспышки на реке. Началась через Днепр переправа, закачались бойцы на плотах, засновало, запело в осенних кустах, пушки смотрят направо, а бойцов на зыбких мостах провожает великая слава…
И еще светлей рассвело! На позициях выросла взрывов дубрава. И уже заскрипело казачье седло, и окрасилась сабля кроваво. И уже штыковая работа во рву. И уже вцепился руками в траву новый мертвый Курт или Эрих… Как долина, раздвинулся правый берег, и в долину втекли войска. И раскат ударил в раскат. За багровым каскадом взметнулся каскад. А долина все шире. И под танком осекся немецкий всхлип. И листок заднепровский прилип к железу «Т-34». Звучит мщения рог! Виден Кривой Рог. Все гуще железный запах. Фашисты лежат головами на запад в пыли заднепровских дорог…
А еще мне видится, друг, будто наша земля как натянутый лук. Будто Днепр на излуке – натянули могучие, сильные руки. Очи смотрят в дымную мглу. Беспощадные пальцы, не ведая дрожи, тетиву натянули у Запорожья и готовы пустить стрелу.
Днепр! Дарю тебе песню свою. Верно, те, что в бою, споют куда златоустей! Но плывет и песня моя от истоков до устья, как простая ладья. Доплывет – значит, верные ставлены снасти, значит, выпало мне попутное счастье и Днепра причастился и я.
Одер
Не славно ли будет и нам – поэтам, былинникам и кобзарям – помчаться к кипящим волнам, к изрытым колесами дюнам? За Одер лететь реактивным перунам, свинцовым свистеть соловьям, за Одер – пора и словам! К зареву полночи выйду сокольничьим и быструю песню пущу с рукава. В охоту, слова! Несись, моя песня, на Варту и Нейссе и соколом взвейся! И птичьи следы оставь на снегу и цепкими впейся когтями в сизые веки врагу!
Вижу пургу! Вижу вьюгу! Одера вижу дугу и горы, ползущие к югу. Слышу сигнал боевой. С Гитлером смертный припадок. Хрип. Вой. Обвалы ревут на Карпатах… Истоками дергая, корчится Одер кривой, как Змий под пикой Георгия.
Мутный месяц плывет, кровяной, порожденный войной. Он плывет в облаках над Германией. Ночь на Шпрее – мрачнее, туманнее… Все красней от пожарища улица узкая, все слышней артиллерия русская. Приближаются «максимы», гильзами лузгая. И врагам выползать из траншей – все страшней.
За рекою еще пыхтит и клубится германская индустрия убийства. В мертвом сиянии ртутных ламп бьет по болванке тяжелый штамп. Свинообразные бомбы тучнеют в тени катакомбы. Рождаются «фау» в подземных цехах. Холодные иглы у фрау в руках – кожей свиной обшивают свинчатки, мешочки вискозные шьют для взрывчатки. Копотью труб задымлена высь. Пыхтя из пенковых трубок, наморщили лбы конструктора душегубок безвыходной мыслью: спастись! Над кружками мюнхенской пены сошлись испытатели тифа на военнопленных, мастера тюфяков из женских волос… Тесно стало в зачумленном Мюнхене, их загнало сюда орудийное уханье, из-за Волги несущийся снежный занос! В гестапо сжигают улики приказов о комнатах пыток и камерах газов. Со лбов истязателей катится пот… Но кровь – вопиет!
О! Не срастаются кости убитых! Из пепла не вылепить мертвых отцов… Из братских могил не поднять мертвецов, не соединить позвонков перебитых… Порастет травою столетий Майданека пепельный след. И не потянется детский скелетик обнять материнский скелет… Не выйдут процессии погребенных, на палача не покажет ребенок, убитый донорской иглой… Преступленье покрыто золой. Не вскинут очей белорусские мученицы, которых давили силезские гусеницы, старухи, которых косил пулемет…
Но кровь вопиет! Кровь миллионов кричит из минских предместий: «Мести!» Видения гетто и лагерей стоят у звонков берлинских дверей. Рядом тлеют замученный русский и убитый еврей (костями смешались они ста Майданеке), палача уличают кровавые сгустки. Сталинграда святые руины и зола изувеченных хат Украины взывают: «Скорей! Идите, судите!» Требует пепел: «Народы, суда!» И дивизии слышат: «На Одер, сюда!»
Сюда! Без ответа кровь не останется. Залп! Дымный хребет по Одеру тянется. Залп! Гранитные ноги трясутся у Альп. Мертвый берлинец лежит у тренога. Тревога! Зенитки зацокали. Тяжелые бомбы воют в луче. Фридрих дер Гроссе на цоколе качается в бронзовом параличе… Лопнул в цейхгаузе Зигфрида панцирь… Achtung, Panzern! Советские танки идут. Разодран снарядом бетонный редут. Свершается месть – проходят по зданиям трещин морщины. Орудия указующий перст наводят на ад броневые машины. Советский снаряд в берлинском саду! Пусть немцы сегодня побудут в аду, в кипящем металле, чье жжение испытали мы в сорок первом году! Пусть тучные бюргеры ежатся, спрятавшись! Пусть их погребают кирхи и ратуши, как в Минске детей погребали дома! Пусть злые Брунгильды сходят с ума! Грядет Справедливость сама, как бомбовоз, качая весами. Штурмовики скользят над дворцами. Пылает Берлин. Багровее мгла. Тиргартен затоплен толпами беженцев. В преступное сердце фашистского бешенства вонзается наша стрела! За Одер, на западный берег! Вон – цепи немецкие, бей их! По скользкому салу, за ледостав, на хмурые стены берлинских застав! Десанты лежат на стреляющих танках, и наши бойцы в измятых ушанках спешат в боевой искропад, в шинелях, истертых глиной Карпат и шершавым асфальтом Варшавы. Их глаза от бессонниц кровавы. Но ищут они – переправы! На лицах рубцы. Все дороги истрогали ноги. На руках ожоги. Это возмездья бойцы.
На серую дюну вырвался танк, в оспинах многих атак, седым посеребренный холодом. Как мамонт, повел по воздуху хоботом. Пулеметом сказал: «Так, так, так…» И вот из гигантского тела стального, прикрывшись ладонью от света дневного, в пояс поднялся советский солдат, забрызганный кляксами смазки. Ноги его гудят от суточной тряски. Одернул лоснящийся комбинезон, глазами обвел чужой горизонт, где в дымке – крыши и трубы. Оперся о грубый металл своего многотонного ящера, подумал: «Зима – ничего! Подходящая. И то ничего, что руки гудящие, и то ничего, что в масле щека». В Одер глядит не без смешка, на его помраченную воду: «Вот и привез из Москвы непогоду, поземка-то как извивается!» Привстал над рекой: «Вот он, Одер, какой!» И сам себе удивляется: «Силен же советский боец, какой отмахал по Польше конец! А можем и больше. И до Берлина достанем огнем, и эту речушку перешагнем, хотя, конечно, широкая… – молвил, по-волжскому окая. – А кончим войну – река как река, не мелка, судоходна и широка…»
Справа за лесом начался обстрел, и танкист на мгновенье вокруг посмотрел, и всюду, где дюна, бугор или дерево, тянулось на запад от Одера серого орудье советского танка. Коротка у танкистов стоянка! Еще второпях из фляги хлебнул, заглянул деловито под горку да завернул махорку в обрывок «Das Reich» и себе самому подмигнул: «Есть на чем воевать! Отец на коне сражался у Щорса, а я в броне…»
Знает ли он, как ждут его тихие села, в снегах, как невеста, в белом, к венцу? Как у краковских древних костелов полька спешит навстречу к бойцу и, рукою держа распятие медное, щекой прижимается бледною к обожженному боем лицу? Знает ли он, что мыслит о нем серб-партизан, управляя конем на горном обрывистом скате? И чех в городке, объятом огнем, и в Праге на уличке Злате? Знает ли он, как в схожей с полтавскою хате шепчет хорват иль словен простые слова о русском солдате: «Брате, буди благословен!..»
И в снежном дыму родных деревень – радужный и реальный – виден завтрашний день… Перед приказом звучит перебор окрыленный рояльный, мир восходит еще на ступень. Звон звучит обещающе, медленно, длинно, будто из воли возникает былина о взятии нами Берлина… Вот – от Спасских ворот Москву озарит гигантская вспышка, и видною станет каждая вышка, и вверх фейерверк! И вздрогнет земля в потрясающем гуле тысяч – «Победа!» – орущих орудий, и в красно-зеленой мелькающей мгле – Царь-пушка ударит в Кремле, и только ли? Да здравствует гром! Старинная медь с серебром воскреснет в Царь-колоколе! Прожекторы бросят лучи небу па звездное платье. Кольчуги, щиты и мечи зазвучат в Оружейной палате. Гром во славу Советской страны! Ленинский стяг по небу простерся. В музее Гражданской войны озарятся полотна Фрунзе и Щорса. Материнские руки к Западу вытянутся, и в них венки. К седым и гордым учительницам придут возмужалые ученики. Токарь завода «здравствуйте!» скажет и чертеж посмотрит на свет. Отцу лейтенант-комсомолец покажет полученный в битвах партийный билет. Набухайте почками, ветки, затемнение с окоп прочь! Двое пойдут к той самой беседке, где прощались они в июньскую ночь. И там, где за Родину лег, в мраморном зареве мирных морозов, изваянный скульптором, встанет Матросов на перекрестке многих дорог. В касках врагов на зеленых долинах сварят обед пастухи. И па обороте плана Берлина поэт напишет стихи, осененные светом рассветным. Он зарифмует «кровь» и «любовь», без боязни быть трафаретным. И важным покажется спор живописцев о цвете и свете. Дети! Для ваших построятся глаз – новые книги па полках читален…
…К этому дню – переправа идет через Одер. Слово огню! Весна растет в непогоде! По аллеям Тиргартена стелется наша метелица. Обмотавши платками гриппозные шеи, последние немцы вползают в траншей. Напрасно! Немецкий не выдержит дот. Бетон попирая, Возмездье идет. Багровые взрывы гуляют по складам. С танка боец соскользнул, замахнулся прикладом и в Одер врага столкнул. Громче гул. Яростный бой! Одер рябой подернут гусиною кожей, трусливою дрожью. Напрасно он лег поперек германских дорог, ржавчину игл ощетиня, разинув драконову пасть у Штеттина. Глубоко мы вонзили копье, Одер, в холодное брюхо твое! Насквозь прошло острие. Уже и на западном берегу пушки гремят: «Горе врагу!» Обрублены лапы притоков. Дейчланд виснет на ниточке. К Бранденбургским воротам с востока тянется ключ титанический. Ненадежны замки германских ворот. Страшен, страшен ключа поворот! Им немало замков отпирали. Кован он на Урале. На железе начертано слово: «Вперед!»
АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ
Поэма (1944–1949)
Стой, прохожий! Видишь: надпись на фанерном обелиске!
В бронзу жизнь Матросова еще не отлита.
На бугор положена руками самых близких
временная намогильная плита.
Знаю, будет дело и рукам каменотесов.
Но пока гранит не вырос в луговой тиши,
исповедь о том, как умирал боец Матросов,
выслушай, узнай, перепиши.
Пулями насквозь его грудная клетка
изрешечена… Но память глубока —
тысячами плит на стройках Пятилетка
памятник бойцам готовит на века.
В «Боевом листке» мы про него читали.
И свежи следы на тающем снегу,
и не сходит кровь с нетоптаных проталин,
где Матросов полз наперекор врагу!
Снежная земля на сто шагов примята.
Борозды – тропу прокладывавших рук.
Рядом врезан след прикладом автомата.
И в конце он сам. Товарищи вокруг.
Мы лицо бойца закрыли плащ-палаткой.
Мы зарыли прах в окопе ледяном.
Что же знаем мы о датах жизни краткой?
Как и что стране поведаем о нем?
Мы нашли у него комсомольский билет
и истертое, тусклое фото.
Мы билет сберегли и запомнили след
от леска до немецкого дзота.
Видно, именно здесь, у овражьих крутизн,
перед вихрем огня перекрестного
началась и не кончилась новая жизнь,
и победа, и слава Матросова.
И тропа, что своею шинелью протер
он, проживший немногие годы,
пролегла, как дорога, на вольный простор
нашей жизни и нашей свободы…
Кто желает его биографию
ненаписанную найти,
за прямой путеводною правдою
пусть идет, не меняя пути!
Чтобы знаемым стало незнаемое,
пусть пойдет по надежной тропе,
где Матросов проходит со знаменем
в комсомольской кипучей толпе.
Мы хотим, чтобы время отбросило
сор догадок и толков кривых.
Мы хотим Александра Матросова
оживить и оставить в живых.
Чтоб румяной мальчишеской краскою
облилось молодое лицо,
и взмахнул бы защитною каскою
перед строем своих удальцов.
Чтоб не я, а Матросов рассказывал
о себе в удивленном кругу:
как решил поползти, как проскальзывал
между голых кустов на снегу…
Стих мой! Может, ты способен сделать это
и дыханье жизни вдунешь в мой блокнот?
И перо послушное поэта
палочкой волшебника сверкнет!
Может, ты оденешь плотью остов,
вправишь сердце и наладишь ритм?
Молвишь слово – и вздохнет Матросов,
приподымется… заговорит…
*
Заговорить? Мне?
Нет… Навряд…
Разве в таком сне
говорят?
Разве я спал? Нет,
я не спал…
Теплый упал свет
на асфальт.
Сколько людей! Звон
Спасских часов.
Словно цветет лен, —
столько бойцов!
Чей это тут сбор?
Гул батарей.
Выбеленный собор
в шлемах богатырей…
Наш! Не чужой флаг!
Наша земля!
Значит, разбит враг?
Наша взяла?
Как хорошо! Близ
те, с кем дружил…
Значит, не зря жизнь
я положил.
Какое глубокое, широкое небо! Чистая, ясная голубизна. Высоких-высоких домов белизна. Я здесь никогда еще не был… Вот чудак, Москвы не узнал! Это – Колонный, по-моему, зал. Все непривычно и как-то знакомо. Рядом, конечно, Дом Совнаркома. Прямо, ясно, Манеж. Направо, само собой разумеется, улица Горького. И воздух свеж, и знамя виднеется шелковое. И тоже знакомый, виденный шелк. Колонна вышла из-за поворота… Какой это полк? Какая рота? Песня летит к Кремлевским воротам. Слышу, мои боевые дружки хором ее подхватили! На гимнастерках у всех золотые кружки с надписью: «Мы победили». И пушки за ними всяких систем. Может, вправду в Москве я? Нет… не совсем… Крайний в шеренге – точно, Матвеев. Рядом– наш старшина!.. Значит, уже на войне тишина? Значит, Россия всюду свободна? Значит, победа сегодня? Если такая Москва, может, в Германии наши войска… Видимо, так, в Россию обратно с войны возвращаются наши ребята. Цветы, и «ура!», и слезы, и смех. Ордена и медали у всех. Милиция белой перчаткой дает им дорогу. Меня они видеть не могут. Смеются, на русые косы дивясь… Но нет меня среди нас. В колонне я не иду. Я не слышу, как бьют салютные пушки. Я убит в сорок третьем году у деревни Чернушки.
Как больно, что не вместе, что не с вами
я праздную… Но вот издалека
мое лицо плывет над головами,
и две девчонки держат два древка.
Из-за угла спешит толпа подростков
перебежать и на щите прочесть
большие буквы: Александр Матросов.
Но почему? За что такая честь?
Народ – рекой, плакаты – парусами;
цветной квадрат, как парусник, плывет,
и близко шепот: «Это он, тот самый,
который грудью лег на пулемет…»
Но я-то знаю, – в ротах наступавших
того же года, этого же дня,
у пулеметов, замертво упавших,
нас было много. Почему ж меня?
Нас глиной завалило в душном дыме,
нас толща снеговая погребла.
Как же дошло мое простое имя
от дальней деревеньки до Кремля?
Какой лес, какой лес, какой блеск под ногами, какой снежно-зеленый навес! И верхушки, ну точно до самых небес запорошены, заморожены, заворожены. Сосны, сосны – какой вышины! И сугробы пушистые, в сажень, даже хвоинка с ветки видна. И не покажется, будто война. И что немцы – не верится даже. Идем, шутим, курим – бровей не хмурим. Смерть, говорят, сварливая мачеха, а мы ей смеемся назло. Мне повезло – попал к автоматчикам. Бедовый народ – удалые, отважные. Смех берет – в халатах, как ряженые. В клубе у нас был маскарад, я носил ну вот точно такой маскхалат. И ребята все те же, уфимские, наши. Как нарочно, все четверо – Саши! Воробьев и Орехов, Матвеев и я. Все – до крышки друзья.
Еще при жизни, до войны, когда
был слесарем в токарной мастерской
и то смотрел на каждого, гадая:
годится мне в товарищи такой?
В колонии не все светлы и русы,
не все идут на дружбу и на жизнь;
кой у кого беспаспортные вкусы
и шепоток про финские ножи…
Звереныш с виду – каши с ним не сваришь,
не просветлишь затравленной души;
по пусть он верит: я ему товарищ —
доверится, откроется в тиши.
Я в детском доме сталкивался с тайной,
запрятанною в сердце сироты,
с мечтаньем о судьбе необычайной,
с душою нераскрытой широты.
Бывает, и ругнешься, и ударишь,
и за ворот насыплешь огольцу,
но хуже нет сказать: «Ты не товарищ!» —
мазнет обида краской по лицу.
И по ночам на койках дружбу нашу
сближала жажда вдумываться вдаль:
вот бы попасть в какую-нибудь кашу,
самим узнать, как закаляют сталь!..
Не выспавшись, мы стряхивали вялость,
трудились так, что воспитатель рад,
и у меня – «Товарищ!» – вырывалось
так, как его партийцы говорят.
Еще я помню книгу на колене.
Я в ней ищу ответа одного
и нахожу, что это слово Ленин
всем нашим людям роздал для того,
чтоб знали мы от колыбели детской
до блиндажа окопного навек,
чем должен быть на родине советской
для человека каждый человек.
Я верил, что товарищ мне поможет,
и, может, на войне, среди огня
найдется друг, и он прикроет тоже
товарищеской грудью и меня.
Снег бел и чист,
бел и лучист,
бриллиантовый мороз,
серебро берез.
Маскировочный халат
бел на мне.
Поперек – автомат
на мокром ремне.
Небо, мороз, лес,
алмазный простор!
Ребята, давай здесь
разложим костер.
Крепок еще, тверд
лед на реке.
Этак за двадцать верст
ухает вдалеке.
Видно, вдали бой…
Вот он и кипяток!
Сахар на всех – мой,
ваш – котелок.
Хлеб у меня есть,
мерзлый, как снег.
Больше кило – взвесь,
хватит на всех.
Воздух костром нагрет,
славно здесь…
Жалко, что книжки нет
вслух прочесть!..
Жалко, досадно – на фронт не повез ни единой книжонки. Деньжонки были – скопил, а не купил себе книжек. А у костра под стать почитать. Был бы Есенин… Здорово он о клене осеннем! Хорошо – про родимый дом, про мою голубую Русь: «В три звезды березняк над прудом теплит матери старой грусть…» И другого поэта – нашего, свойского – взять бы еще. Да, хорошо бы взять Маяковского, очень понравилось мне «Хорошо!». Помню одну хорошую строчку: «Землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя…» Вот написал же в самую точку! Жаль, не взял. А с книжкой такою можно и в бой. Только одну имею с собой. Вся на ладони уместится. Два с половиной, как выдана, месяца. На первом листке два ордена есть. Книжечку эту недолго прочесть, а все-таки вынешь дорогою – чувствуешь главное, важное, многое…
А я любил засматриваться в утро,
о завтрашнем задумываться дне.
Я с будущим, воображенным смутно,
всегда любил бывать наедине.
Я понимал, что рыночные птицы
листки гаданья тянут невпопад,
а вот хотел бы прочитать страницы
своей судьбы, судьбы своих ребят.
Хотел бы я попасть хотя бы на день
вперед на век, в необычайный мир,
в кварталы кристаллических громадин,
построенные нашими людьми.
Я не видал хороших книг про это,
но строчками невыдуманных книг
странички комсомольского билета
я мысленно заполнил, как дневник.
И вот он мне безмолвно помогает
сильней сжимать гранаты рукоять,
на будущее молча намекает,
которое должны мы отстоять.
Я знаю, кем после войны я буду,
когда надежду – Родину свою,
бронею сердца, комсомольской грудью
я будущему веку отстою.
Я, вероятно, буду очень гордым,
счастливым и удачливым всегда
и со странички комсомольский орден
сниму, возьму, перевинчу сюда…
Белые в пух снега,
тишина сосняка,
по белизне снеговой —
дорога к передовой.
Нетоптаное шоссе,
где мы прошагаем все,
где завтра и я пройду
впервые в бой,
где, может быть, упаду,
других заслонив собой;
где, не пройдет и дня,
и смеркнет свет,
и стихнет смех,
где, может быть, за меня
пойдут на смерть.
И будет земля в росе
о них грустить…
Как хочется, чтобы все
остались жить!
Может статься, придется и нам товарища недосчитаться… Пуле – пустое, летит – не глядит, кто лучше, кто хуже. А каждый из нас на Родине нужен. Что сын, что брат, что просто один из ребят, и сразу тоска за сердце хватает, если подумать: Орехова нет, Матвеева не хватает!.. Убьют Воробьева – большущее горе, чего там скрывать. Будет всегда его недоставать в нашем сдружившемся хоре. Товарищ умрет – беднеет народ, целою жизнью меньше на свете. В каком-то углу всегда тишина… Случается, повода нет, а скучается. А если товарищ хороший встречается, можно ему доверить печаль, как ношу с плеча. Так и мешок и ящик зарядный. Я коренастый, выносливый, ладный. А есть послабее ребята у нас. Есть кому тяжелее. Я у товарища плечи жалею. Прикажут такому: «Пулей беги!» А сапоги увязают в сугробинах, ранней весною особенно… Дай, браток, ремешок, понесу за тебя вещевой мешок. Не смущайся, брат, угощайся! Дождемся тяжелого дня, может, придется тащить и меня с поля, под смертным огнем. Такая у нас бойцовская доля. Скоро, друг, отдохнем… Я тебя видел в Уфе, у вокзала. Мне твоя матушка наказала: «Сынок, пособи моему, помоги». И были у ней под глазами круги, в слезах ей твое мерещилось детство. Я ей ответил: «Не откажусь». А рядом еще поглаживал ус – это, наверно, отец твой?..
Я уезжал на фронт без провожатых,
со мной не шли родители мои,
платков, к глазам заплаканным прижатых,
я не видал, – я не имел семьи.
Ничем, ничем себя не приукрашу:
да, убегал, да, прятался в котле,
предпочитал бродяжью бражку нашу
труду и сну в покое и тепле.
Я ускользал бродяжничать за город,
где поезда гудят издалека…
Но знал: опять возьмет меня за ворот
отеческая строгая рука.
Какая-то настойчивая сила
тянулась под бульварную скамью,
меня из беспризорщины тащила
и из сиротства ставила в семью.
Голодный – не заплачу, не заною:
мне все равно, в какой трущобе спать!
Но вдруг шаги. Опять пришли за мною.
Шаги отца – я с ним иду опять.
И вновь прощаюсь с нищетой и грязью,
смываю сажу едкую с лица
под неотступным присмотром ни разу
ко мне не приходившего отца.
Пятнадцать лет тому назад он умер,
но, муть воспоминаний отстранив,
я чье-то смутно чувствовал раздумье
о месте сына в будущем страны.
Досказывать не буду. Вы поймете,
что я увидел в мой последний миг,
когда скрестил глаза на пулемете,
когда пополз к бойнице напрямик;
когда я сердце, как гранату, кинул,
когда к земле я пригвоздил себя,
когда я все отечество окинул
и крикнул кровью: «Вот моя семья!»
Я очень мало знал о моей матери. Только помню комнату в два окна и на кровати пружинные вмятины, где она лежала. Видно, была смертельно больна. Помню пальто, платок, кружева… Вот была бы жива – и меня б на вокзал провожала, к оренбургской бы шали крепко прижала. А когда бы последний звонок, завздыхала бы тяжко: «Ах ты, мой Сашка, на кого ты меня покидаешь, сынок?..» А я бы в ответ: «Мамуся, я скоро вернусь. А вы не тревожьтесь, пишите. Книжку какую-нибудь пришлите. Таких, как я, бережет судьба. Вы, мамусь, берегите себя». А она за вагоном бежала бы… Нет, никто не провожал меня на войну. Этого я никому не ставлю в вину, это не жалоба… Был еще на вокзале плакат. На нем был нарисован пожар или просто красивый закат. И боец, па меня похожий лицом, и женщина рядом с бойцом в черном простом платье. На этом плакате я увидел надпись: «Боец, тебя зовет Родина-мать!» Как это мне понимать? Я и решил – буквально. Женщина на плакате вокзальном – моя настоящая мать, она пришла меня обнимать на прощальном свидании. А сейчас она в ожидании стоит в окне. Отворяет калитку, в почтовый ящик бросает открытку мне… Теперь уже не будет неумных вопросов: «Чей? Почему на свете один?» Спросят – скажу: «Я – Матросов. Родины признанный сын». И улыбнусь, открытку прочтя. Это, конечно, мечта. Но разве мне за мечтание кто-нибудь сделает замечание? Просто дорога длинна, снег – целина, и мысли, как хлопья, гуляют в рассудке. Шутка ли, к фронту идем четвертые сутки!
Теперь, когда бесчисленны отсрочки
конца моих правофланговых лет,
мои глаза не сузятся на точке
клочка земли, где мне открылся свет.
Был это город или деревенька, —
но разве только землю и траву,
ту, по которой полз на четвереньках,
я Родиной единственной зову?
Теперь я вижу дальше, зорче, шире,
за край слобод, за выселки станиц!
Еe обнять – единственную в мире —
не хватит рук, как ими ни тянись!
Когда Папанин заплывал на льдине
в хаос чужих и вероломных льдов,
за родиною-льдинкой мы следили
из-за башкирских яблонных садов…
Без родины, без матери, без друга
немыслимо и близко и вдали, —
как в море – без спасательного круга,
без лодки, без надежды, без земли.
Ее словам я беззаветно внемлю.
Людских надежд и молодости щит, —
народ, или ребенка, или землю
так, как она, никто не защитит!
Сейчас я вижу будущие годы
и мысли просветленной не гоню,
я знаю: будут многие народы
к нам в Родину проситься, как в родню.
Мы дверь откроем братьям беспризорным,
как равных примем в материнский дом,
и от себя отнимем, и накормим,
и в братском сердце место отведем.
В валенках – вода.
Можно и потужить.
Но радуюсь, как никогда, —
в самый раз жить!
Не думаю, что умру
там – на передовых,
если и в грудь вихрь,
если и упаду,
думаю – не пропаду,
варежкой кровь утру
и подымусь к утру.
Если и упаду —
на руки ребят!
Вынесут, поведут,
сердце растеребят,
снова поставят в строй,
буду живой опять
по целине лесной
следом на след ступать…
Ну и замерзли мы за день, простыли! Избы в селах пустые, жителей нет. Беда! Холодно стало, трудно в России. Из труб ни дымка, ни следа. Немцы – уже приходили сюда. Пусто, холодно, худо. Всех до конца угнали отсюда. И старика не оставили. Это чтоб нам не согреться нигде. Ходим до ночи в талой воде – снег не держится, тает… А как светает – морозец прохватывает, схватывает, и враз ледяные валенки, брат. Это Гитлер во всем виноват. В каждую хату руку засунул, вывернул с кровью на двор. Эх, поскорее б дернуть затвор, очередь дать по сукину сыну! Вот зашли мы в дом на постой. Дом пустой. Печь – развалина. Самим не согреться, не высушить валенок. Легли мы. Лежим, и дрожим, и шепчемся между собою: «Дойдем вот такие, продроглые, к бою, – в госпиталь впору лечь. Лучинки и то не зажечь!» А что, к разговору, если выправить печь? Не веришь? Ей-богу, будет гореть! И чаю сварить, и руки погреть… Материал в углу под руками, глина да грязь; не беда – побывать печниками. Слазь, да смотри не сглазь! Нам работать не в первый раз! Мы – комсомольцы, с ремесленным стажем! Давай-ка вот этот камешек вмажем. Теперь, брат, разогреем в печи концентрат. Замечательная штука – русская печь; в доме тепло и розово, в трубе – вой. А товарищи хвалят меня, Матросова: «Парень ты мировой, с головой! Выход находишь везде, с тобой в беде не погибнешь! Любим мы очень Матросова Сашку. Простой, душа нараспашку, и боец, и печник, и певец. Подбрось-ка еще в амбразурку дровец. А так – до утра бы синели мы…» Уснули бойцы, укрылись шинелями. Чего они хвалят меня? Ну, поправил печурку, ну, расколол сосновую чурку для тепла, для огня. Славно! Изба не коптится, и тепло-тепло. Чудится мне, что печка – дупло, поет из него золотая Шар-птица, и перо за пером улетает в трубу. Все спят. Мне не спится. Думаю я про нашу судьбу.