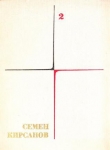Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы

Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ
Поэма (1950)
Поэзия – вся! – езда в незнаемое.
Маяковский
1
Политехнический музей. Киоски.
Трамвай. Афиша: «Маяковский».
Закончен вечер. Сто ступенек вниз.
Спускается, затолкан ожидающими.
Углами рта окурок до огня догрыз.
Вперед глядит глазами обжигающими.
В руке записки. Через руку плед.
От двух моторов рвется время дующее.
В кармане красный паспорт,
и для поездки в будущее
закомпостирован билет.
Маяковский смотрит в небо предрассветное
карими зрачками из бессонных век.
Наконец встает. Он едет в кругосветное
путешествие навек.
Входит. Вслед за ним – тюки авиапочты.
Вот сейчас от ног отъедет шар земной.
И уже из дверцы самолета: – Вот что:
связывайтесь… как-нибудь… со мной! —
И уехал. То ли в Новый, то ли в Старый Свет.
Писем нет. Десять, двадцать, тридцать, сорок лет…
2
А в газетах есть.
Нет-нет, и весть:
будто где-то подходил к окну,
видели, как в рукописях рылся.
Будто он в Испании мелькнул.
Роздан был листовками и скрылся.
Говорил один мне волк морской.
Дым из трубки. Поступь моряковская.
– Стали мы в Шанхае. Ходим… Стой!
На афише: «Вечер Маяковского»!
Автор сам, написано, читает
«Левый марш», «Поэму о Китае»!
Жалко… Снялись с якоря до вечера.
Вечер был… – Я слушал недоверчиво.
Я же знаю, что не может быть.
Вдруг газетка… В ней одна заметка:
«Должен завтра к нам в Кузбасс прибыть…»
И верчу я в полночь ручки радио.
Наконец поймал! Кузбасс.
В многоламповом, гремящем «Ленинграде» он
затерялся, баснословный бас:
– Тут прежде было голо,
тайга и капель спад…
Но вот проспектом горы
прорезал город-сад!..—
Шуршанье слов или знаменный шелк?
То пропадет, то вдруг опять отыскан:
– Товарищи, я к вам уже пришел,
в коммунистическое «близко»…—
Но углубился голос в рябь эфира
и разошелся в рифмах по сердцам,
а я держу журналы из далеких пунктов мира
и в телеграммах шарю по столбцам.
3
Фото! Вот он!
Вглядимся ближе!
Два полицейских скрутили руки в жгут.
Запрет приехать! В тот же час в Париже
четыре тысячи собрались в зале.
Ждут.
Что Маяковский не приедет, им сказали,
но тем не менее ждут.
Но не ждут, что выйдет некто и прибавит на день доллар.
Ждут стиха, как знака, чтоб пойти в штыки.
Он мне говорил: «Поэт обязан жить, как донор,
кровь – из вены в рифму, в сердце из строки…»
Как мне надо повидаться с ним,
там, на океанском пароходе,
где, неуловим, необъясним,
он по нижней палубе проходит!..
4
Пароход? Далеких океанских линий?
И запрос летит на сотни кораблей.
Это некто Клей узнал его в Берлине
(родственник «величественнейшего из сигарных королей»)
Циркуляр спешит, шифрованный секретным кодом,
к пароходам, бороздящим волны полным ходом:
«…Кличка „Высокий“, волосы темные,
следить, разыскать, изорвать и сжечь…»
Но мечутся зря Ники Картеры и Пинкертоны.
Он взобрался на стул, разобрался в блокноте и начал речь:
– Рабочие! Вас ли устроит доля —
продаться буржуям за фунт или доллар?.. —
И вдруг обрыв, и нет продолжения.
Экран телевизора побелел.
Лишь несколько строк в статье «Профдвижение»
о забастовке на корабле…
5
Значит, отчитал врагов на славу,
рассказал всю правду про Москву!
Что тут странного, что приезжал на Яву?
Разве он в стихах – не наяву?
Вот кино. Документальный фильм «Малайя».
В первый раз встречают праздник Первомая.
Перед сваями поставили подмостки.
Хижины у них из пальмовой трухи.
Тут вот встретились туземцы с Первым мая…
С Мая-ковским…
Он читал им первомайские стихи.
А одна все это в песне выразила
и прошлась перед поэтом в танце.
Только этот кадр цензура вырезала:
очень не понравилось британцам.
Вместо кадра запрещенье в черной раме.
«Маяковский» слово в телеграмме.
Но никто не верит в смерть в Стране Советской.
Верят – занят он всесветною поездкой,
разговором с миром, агитацией за мир,
с нами, с будущими, с новыми людьми.
Он воюет с тем, кто сделал бомбой атом,
он перед заводами толпится с пролетариатом
и штрейкбрехеру сквозь зубы цедит: – Гад!
В демонстрациях шагает, смел и рад.
С поездов смеется: – Хорошо поездил я! —
Это вот и есть, товарищи, поэзия!
Если жить, то только так поэту, —
знамя красное неся по кругосвету!
МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ (1962–1970)
Стрела
Пока наш самолет
летит на грани звука —
внизу «стрела» ползет
так медленно, что мука.
Похоже, так вот полз
на лошадях Радищев
через ухабы сел
проселком в городище.
Ползет «стрела» среди
лошадок и коровок
и тащит позади
хвост спичечных коробок.
А наш гигант спешит
к свиданью от разлуки,
и тень его лежит,
в траве раскинув руки.
Вот так и Гулливер
дивился, лежа в путах,
на ползшие в траве
кареты лилипутов.
Что лес? Он мурава
с потертостью лужаек.
Что конь? Он с муравья,
чуть движется и жалок…
Но эти рельсы с нить
и этот тополь с колос —
не могут объяснить
где медленность, где скорость!
На звездный небосвод
ракету шлет наука,
и самолет ползет
так медленно, что мука.
Нам кажется – старо
его винтов круженье,
так тянет вниз ядро
земного притяженья.
А в Дубно – вихрь частиц
на зависть всем ракетам
несется, чтоб настичь
в полете – скорость света.
И все ж – во сколько раз
мы быстроту ни мерим —
я славлю узкий глаз
меж тетивой и зверем!
Я горд тобой, дикарь,
у камня под скалою
открывший у древка
способность быть стрелою.
Натянут лук – лети,
торчи в лопатках барса!
Стрела, ты часть пути
от нас – и дальше Марса!
Метель в Москве
В Москве метет метель —
то в подворотнях роется,
то фортки рвет с петель,
то вьется к башне Троицкой.
Попавшие под вихрь,
ползут машины медленно,
на стеклах ветровых
бог знает что налеплено!
В Москве метель метет,
метет с церковных луковиц,
по мостовой метет
газету, что ли, рукопись?
Насквозь визжит подъезд,
от хохота, от плача ли?
Сугробы даже с мест
передвигаться начали…
В Москве метет метель,
буран по всей Москве-реке,
из школ ведут детей,
держа их крепко за руки.
Закутаны в платки
да в пуховые кружевца…
И лишь одни катки
с метелью вместе кружатся.
В Москве метель метет.
Витрины запорошены.
А очередь ведет
как летом – за мороженым.
Снег задымил весь мир,
на стойке смерзлись денежки,
но варежкой – пломбир
ко рту подносят девушки.
В Москве метет метель
и в пляске света тусклого
штурмует цитадель
завьюженного Курского.
Курортники из Гагр
к такси бегут с мимозами,
исколот их загар
занозами морозными.
В Москве метель метет,
с Неглинной вырывается,
несется в «Гранд-отель»,
в «Националь» врывается.
Индус из-за дверей
и негр в плаще нейлоновом
глядят на климат сей
глазами удивленными.
Метель метет в Москве,
с трудом, как в гору, тащимся,
а самосвал на сквер
везет асфальт дымящийся,
везут домов куски,
квартиры в полной целости,
как будто у Москвы
нет дела до метелицы!
В Москве метель метет,
слепит, сечет безжалостно,
а молодежь идет:
– Мети себе, пожалуйста! —
Снег соскребают вслед
машины типа уличных.
А утром – свежий хлеб
пахнёт из теплых булочных.
А я люблю метель,
и как она ни режется —
я б нынче не хотел
на южном пляже нежиться.
Мне ветер по нутру!
Мосты кренит, как палубы.
Как жил я на ветру —
так буду жить без жалобы!
Калужское шоссе
Занесена по грудь
Россия снеговая —
царицын санный путь,
дорога столбовая
в леса, леса, леса
уходит, прорезаясь…
Лишь промелькнет лиса,
да вдруг присядет заяц,
а то – глаза протри —
из-за худых избенок
вдруг свистнет пальца в три
сам Соловей-разбойник,
а то – простой народ
начнет сгибаться в пояс, —
шлет вестовых вперед
императрицын поезд.
Она – при всем дворе,
две гренадерских роты,
вот – вензеля карет
горят от позолоты.
На три версты – парча,
да соболя, да бархат,
тюрбаны арапчат,
флажки на алебардах.
Вот виден он с холма,
где путь уже проторен,
вот Матушка сама,
ее возок просторен,
салоп ее лилов,
лицо, как жар, румяно,
но это дар послов —
французские румяна…
За восемьдесят верст
она к любимцу едет,
с которым, полный звезд,
граф Воронцов соседит.
Вот первый поворот
у башен необычных —
баженовских ворот
два кружева кирпичных,
как два воротника
венецианских дожей,
но до конца – пока
дворец еще не дожил.
Царицу клонит спать,
ей нужен крепкий кофий,
до камелька – верст пять,
не то что в Петергофе!
А тут все снег да снег,
сугробы да ухабы,
от изразцов – да в мех,
все мужики да бабы…
Тут, будто о пенек,
споткнулся конь усталый,
и захрапел конек,
и вся шестерка стала.
Он мутно из-под шор
глядит, дрожат колени…
И облетело Двор
монаршее веленье:
«Конь царский пал. Ему
воздвигнуть изваянье.
„Коньково“ – дать сему
селению названье».
Повелено запрячь
в возок коня другого,
трубач несется вскачь —
и позади Коньково.
Темнеет путь лесной.
Не зябнет ли царица?
А может, за сосной
ей самозванец мнится?
То лес аль Третий Петр,
исчезнувший куда-то,
во мгле проводит смотр
своих солдат брадатых?..
Но вот и Теплый Стан,
где камелек теплится.
Поднять дородный стан
спешат помочь царице,
и – в кресло! Без гостей!
В тепле благоуханном
подносят кофий ей
в фарфоре богдыхана.
А крепок он – зело!
Арабским послан ханом.
Тепло – зане село
зовется Теплым Станом.
Царица в кресле спит,
да неспокоен отдых.
Раскрыла рот. Висит
монарший подбородок.
Казачья борода
ей снится, взгляд мужичий.
Вольтера бы сюда,
да не таков обычай.
А бабам в избах жуть —
ушли мужья и сваты,
угнали чистить путь,
велели взять лопаты,
боятся конюхов
в их чужеземных платьях,
скорей бы петухов
дождаться на полатях…
Лишь утро – и пошли
скрипеть возы и сани.
Вот и Десну прошли
овражными лесами,
вот и века прошли,
земной окутав глобус.
…Ну вот, и мы сошли,
покинув наш автобус.
Калужское шоссе,
волнистая равнина,
тебя – в иной красе
как не любить ревниво!
И вас – как не любить,
седые деревеньки!
Вы скоро, может быть,
исчезнете навеки…
Уже покрыл бетон
дороги подъездные,
снимаются с окон
наличники резные.
И сколько снято крыш
строителями – за год!
В былую глушь и тишь
ворвался Юго-Запад.
И жаль, и хорошо!
Пора прощаться с солнцем,
последний петушок
над слуховым оконцем,
прощай, ты никогда
навстречу к нам не выйдешь
и новые года
вовеки не увидишь!
Зарылся в давний снег
возок Екатерины,
иным идет к весне
калужский путь старинный.
И там, где Теплый Стан,
уже стоят пролеты
огромного моста
и реют вертолеты,
а правнучка тех баб —
с голубизной в ресницах —
врезается в ухаб
железною десницей.
По десять этажей
сюда, попарно строясь,
дома идут уже,
как в будущее – поезд!
И около леска
иного, молодого —
написано: «Москва».
Все заново, все ново!
Труба Наполеона
Еще не опален
пожаром близкой брани —
сидит Наполеон
на белом барабане,
обводит лес и луг
и фронт перед собою
созданием наук —
подзорного трубою.
На корсиканский глаз
зачес спадает с плеши.
Он видит в первый раз
Багратиона флеши.
Пред ним театр войны,
а в глубине театра —
Раевского видны
редуты, пушки, ядра…
И, круглая, видна,
как сирота, Россия —
огромна и бедна,
богата и бессильна.
И, как всегда, одна
стоит, добра не зная,
села Бородина
крестьянка крепостная…
Далекие валы
обводит император,
а на древках – орлы
как маршалы пернатых,
и на квадратах карт
прочерчен путь победный.
Что ж видит Бонапарт
своей трубою медной?
Вот пики, вот флажок
усатых кирасиров…
В оптический кружок
вместилась ли Россия?
Вот, по избе скользя,
прошелся, дым увидев…
А видит он глаза,
что устремил Давыдов?
Верста, еще верста,
крест на часовне сирой…
А видит он сердца
сквозь русские мундиры?
Он водит не спеша
рукою в позументах…
И что ж? Ему душа
Кутузова – заметна?
Вот новый поворот
его трубы блестящей.
А с вилами народ
в лесной он видит чаще?
Сей окуляр таков,
что весь пейзаж усвоен!
А красных петухов
он видит над Москвою?
А березинский снег?
А котелки пустые
А будущее всех
идущих на Россию
он видит? Ничего
не видит император.
Он маршалов зовет
с улыбкой, им приятной.
Что, маршалы? В стогах
не разобрались? Слепы?
Запомните – в снегах
возникнут ваши склепы!
Биноклей ложный блеск —
в них не глаза, а бельма!
Что мог поведать Цейс
фельдмаршалам Вильгельма?
О, ложь стереотруб!
Чем Гитлер им обязан?
Что – он проникнул в глубь
России трупным глазом?
Вот – землю обхватив
орбитой потаенной,
глазеет объектив
на спутнике-шпионе, —
но, как ни пяльтесь вы,
то, чем сильна Россия, —
к родной земле любви
вы разглядеть не в силах!
Взгляните же назад:
предгрозьем день наполнен,
орлы взлететь грозят
над Бородинским полем.
С трубой Наполеон
сидит на барабане,
еще не опален
пожаром близкой брани.
Набережная
Я – набережных друг.
Я начал жизнь и детство
там, где витает Дюк
над лестницей Одесской.
А позже я узнал
в венецианских арках,
как плещется канал
у свай святого Марка.
У Темзы я смотрел
на утренний и мутный
парламент, в сотнях стрел,
в туманном перламутре.
В душе всегда жива
у лап гранитных сфинкса
суровая Нева,
где я с бедою свыкся…
Но если хочешь ты
в потоке дел столичных
отвлечься от тщеты
своих терзаний личных —
иди к Москве-реке
дворами, среди зданий,
и встань невдалеке,
между двумя мостами.
Волна – недалеко
блестит старинной гривной.
Ты отделен рекой
от набережной дивной.
Кремлевская стена
заглавной вьется лентой,
где мнятся письмена
руки восьмисотлетней.
На зубчатом краю —
витки и арабески,
и вдруг я узнаю
гравюру давней резки
с раскраскою ручной,
с гербом над куполами,
с кольчугою речной,
с ладьей на первом плане.
А выше – при крестах
в небесной иордани —
воздвиглась красота
всех сказок, всех преданий.
Неясно – кто стоит
(так сумеречны лики):
без посоха старик
или Иван Великий?
А в чудные врата,
как в старину бывало, —
не входит ли чета
при мамках, при боярах?
И чудо всех церквей
под золотом убора —
две радуги бровей
Успенского собора…
О нет – я не ханжа,
живущий в мире ложном!
Но красота – свежа
божественно, безбожно!
И, в вышину воздев
персты Преображенья, —
диктует новизне
урок воображенья.
Старые фотографии
Я наблюдал не раз
жизнь старых фотографий,
родившихся при нас
в Октябрьском Петрограде.
В начале наших дней
в неповторимых сценах
остановился миг
на снимках драгоценных.
Они скромнее книг,
но душу мне тревожит
печаль и боль, что миг
продлиться в них не может…
Как пожелтел листок
из тонкого картона!
Вот людям раздают
винтовки и патроны.
Вот, выставив штыки,
глазасты и усаты,
глядят с грузовика
восставшие солдаты…
Вот площадь у дворца,
и, может, выстрел грянул —
так строго в объектив красногвардеец глянул…
Вот наискось летит
матрос, обвитый лентой,
и то, что он убит,
всем ясно, всем заметно…
Вот женщина в толпе
перед могилой плачет,
но мокрые глаза
она под шалью прячет…
Вот парень на столбе
над невским парапетом,
он машет картузом,
крича: «Вся власть Советам!»
Вот понесли плакат
две молодых студентки…
Вот Ленин над листком
склонился на ступеньке…
Вот первый наш рассвет
и длань Петра чернеет,
а девушка декрет
на черный мрамор клеит…
Но почему они
на снимках неподвижны, —
они, которых жизнь —
начало новой жизни?
Не верю, что навек
мгновение застыло!
Товарищи! Скорей
вставайте с новой силой!
И кто посмел сказать:
«Остановись, мгновенье»?
Вдруг будто пронеслось
по снимкам дуновенье,
как будто некий маг
в фуражке-невидимке
вдруг палочкою мах —
нул – и очнулись снимки!
Вот поднялся матрос
и лег живой на цоколь,
чтоб грудью отстоять
от немцев Севастополь…
Сошли с грузовика
солдаты из отряда
с гранатами – в окоп,
в обломки Сталинграда…
И две студентки, две
наивных недотроги,
снаряды повезли
по ледяной дороге…
Теперь они сдают
экзамен в институте —
другие, но они,
такие же по сути…
Вот женщина сошла
со снимка в час суровый
и в школьный зал вошла
учительницей новой…
И парень на столбе
телевизионной вышки
приваривает сталь
под молнийные вспышки…
И глянул в объектив
нестрого и неловко
похожий на того
прохожего с винтовкой,
но он держал чертеж
в конверте из картона —
ракеты, что взлетит
звездой десятитонной!
О, снимки! Снова в них
заулыбались лица!
Но я и знал, что миг
не мог остановиться,
что Ленин написал
под новью наших планов
знакомые слова:
«Согласен. В. Ульянов…»
Я прохожу в музей,
я прикоснуться вправе
к листовкам первых дней,
к квадратам фотографий.
Они глядят со стен
и подтверждают сами,
что тот, кто был ничем,
стал всем и всеми нами!
Утренние годы
Молодой головой русея,
над страницей стихов склонясь,
был Асеев, и будет Асеев
дверь держать открытой для нас.
Мне приснится, и прояснится,
и сверкнет отраженным днем —
на дарьяльскую щель Мясницкой
этот сверху глядящий дом.
Я взбегал по крутейшей лестнице
мимо примусов и перин
на девятый этаж, где свеситься
было страшно, держась перил.
У обрыва лестничной пропасти
был на двери фанерный лист,
на котором крупные подписи
открывавших ту дверь вились.
Я о том расскажу при случае,
а за подписями щита —
знаменитые строки слушали,
знаменитые – шли читать.
Был Каменский, два пальца свиста
он закладывал в рот стиха,
был творец «Лейтенанта Шмидта»,
и – чего уж таить греха —
за фанерой дверного ребуса,
на партнера кося глаза, —
с Маяковским Асеев резался,
выходя на него с туза.
Королями четырехкратными
отбиваясь с широких плеч,
Маяковский острил за картами
(чтоб Коляду от карт отвлечь),
Но Коляда лишь губы вытянет
и, на друга чуть-чуть косясь, —
вдруг из веера даму вытянет
и на стол – козырей пасьянс!
Вот ночные птицы закаркали,
вот каемка зари легла…
Только ночь не всегда за картами,
не всегда здесь велась игра.
Стекла вздрагивали от баса,
под ногами дрожал паркет,
так читался «Советский паспорт» —
аж до трещин на потолке.
Над плакатами майских шествий
в круглом почерке воскресал
и всходил на помост Чернышевский,
мчались сани синих гусар.
Если только тех лет коснуться —
выплывают из-под строки
мейерхольдовские конструкции,
моссельпромовские ларьки;
тень «Потемкина» на экране,
башня Татлина – в чертеже,
и Республики воздух ранний,
пограничник настороже…
И еще не роман, не повесть
здесь отлеживались на листе,
а буденновской песни посвист
из окна вырывался в степь,
и казаки неслись усатые
под асеевский пересвист!..
Это годы неслись двадцатые,
это наши стихи неслись.
Еще много войн провоюется,
и придет им пора стихать,
но позвавшая нас Революция
никогда не стихнет в стихах!
И ни тления им, ни пепла,
ни забвенья – они звучат
и вытаскивают из пекла
обожженных войной внучат.
Потому что, когда железная
лапа смерти стучится к нам, —
в наше место встает поэзия,
с перекличкою по рядам.
Мы не урны, и мы не плиты,
мы страницы страны, где мы
для взволнованных глаз открыты
за незапертыми дверьми.