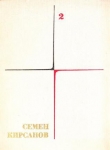Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы

Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Вот Пер-Лашез, мертвый Париж,
столица плит, гранитных дощечек,
проспекты часовен, арок и ниш,
Париж усопших, Париж отошедших.
Мать припала к ребенку, застыв,
физик – с гранитной ретортой.
Сырые фарфоровые цветы
над надписью истертой.
С каменной скрипкой стоит скрипач
у камня-рояля на кладбище.
Надгробья готовы грянуться в плач
Шопеном траурных клавишей.
Писатель, с книгой окаменев,
присел на гранит-скамью.
И вот стена, и надпись на ней:
«Aux morts de la Commune».
Я кепку снял, и, ножа острей,
боль глаза искромсала, —
Красная Пресня, Ленский расстрел,
смерть в песках комиссаров,
Либкнехт и Роза и двадцать шесть,
Чапаев и мертвые Вены
всплывали на камне стены Пер-Лашез,
несмыты, неприкосновенны.
Кладбищенский день исчерна синел,
и плыли ко мне в столетье
венки из бессмертников на стене,
«Jeunesse Communiste» на ленте…
Станция «Маяковская»
На новом радиусе
у рельс метро
я снова радуюсь:
здесь так светло!
Я будто еду
путем сквозным
в стихи к поэту,
на встречу с ним!
Летит живей еще
туннелем вдаль
слов нержавеющих
литая сталь!
Слова не замерли
его руки,—
прожилки мрамора —
черновики!
Тут в сводах каменных
лучами в тьму
подземный памятник
стоит – ему!
Не склеп, не статуя,
не истукан,
а слава статная
его стихам!
Туннель прорезывая,
увидим мы:
его поэзия
живет с людьми.
Согретый множеством
горячих щек,
он не износится
и в долгий срок.
Он не исплеснится!
Смотрите – там
по строчкам-лестницам
он сходит сам.
Идет, задумавшись,
в подземный дом —
в ладонях юноши
любимый том!
Пусть рельсы тянутся
на сотни лет!
Товарищ станция,
зеленый свет!
Землей московскою
на все пути,
стих Маяковского,
свети, свети!
Станция «Земная ось»
На станцию «Земная ось»
поедем, не сегодня – днями!
Она стоит немного вкось,
воображаемая нами.
Она в уме, и, как залог,
она мне раз в неделю снится;
о ней завязан узелок
и в книжке загнута страница.
Я узел развяжу платка,
спокойно к полюсу спланирую,
на ледяную гладь катка,
и вам оттуда промолнирую:
«Благополучно прилетел,
читайте „Комсомольской правде“.
Хорош погоды бюллетень.
Спешу. Целую. Телеграфьте.
Встречайте. Прилетим в восьмом.
Легко пробили туч осаду.
Люблю. Подробности письмом.
Везу моржонка зоосаду».
Там, чтобы ось была взаправдашной,
мы сами в землю вбили ось,
и знамя над землею радужной
на вечном стержне поднялось.
Мы видим с птицы широченной
все краски северной красы,
и днем и ночью шар ученый
все ходит вкруг своей оси.
Отсюда будет очень близко
лететь к Москве и к Сан-Франциско.
И, может быть, поэт Тычина,
в кабине светлой сидя чинно,
посмотрит вкось и скажет: «Ось,
яка вона, земная ось!»
Она в уме, и, как залог,
она мне раз в неделю снится;
о ней завязан узелок
и в книжке загнута страница.
Весеннее
Высотными тучами сотканы
дожди для озер полноводных;
апрельскими метеосводками
насыщены радиоволны.
Я тоже приемник! Настраивай
меня на такую капеллу,
добейся настройки, настаивай,
чтоб таяло все и кипело!
И хлынуло бурное таянье
к очнувшейся флоре и фауне.
И жерди расчищенных кровелек
дрожат от антенновых проволок.
И льдинки, забытые в марте,
готовы к ручьистой возне,
и снова из всех хрестоматий
вылазят стихи о весне.
Мильонами капельных гвоздиков
к земле прибиваются лужи,
а массы полярного воздуха
отходят с потерями в стуже.
И место готово жужжаньем —
лиловокрылатым южанам.
И вот я вошел и включился
в горячие майские числа,
в весенний концерт шелестений
смычками взмахнувших растений.
Подумайте, тучи, где хлынуть,
ищите засушливый климат,
спешите к озимому клину,
и там вас восторженно примут!
Ни признака шуб и поддевок,
в сундук надоевшую серость!
Вот птицы с листками путевок
на влажных карнизах расселись.
Закрытые на зиму плотно,
раскрылись промытые окна,
и пчелы работают в сотах
в три смены на низких частотах.
Дума о Гуцульщине
Как на самых на Карпатах
есть Гуцульщина-земля.
Гей, Гуцульщина-земля,
ты Полтавщине родня!
Не берет кремень лопата,
ты осталась на Карпатах
с украинским говором,
горная,
гордая!
Не скрутили той страны
сановитые паны
с бельведерским гонором.
В небе холод синеватый,
кряж карпатский становой.
Да и хаты
с синевой,
так белы – не выпачкай!
Хлопец в шапке синеперой,
в белой куртке с выпушкой,
ходит, гонит стадо в горы,
пояс резан серебром,
ломоть хлеба вложен в сумку,
да наигрывает шумку
он на дудке с пузырем.
Да и козы беловорсы
ходят за подпасками,
и до сердца дышат горцы
высями карпатскими.
У гуцулок руки ловки, —
ой, какие вышивки!
Только сами нищенки…
Верно служат им иголки,
мелкой стежкой колют холст.
А рисунок-то не прост!
Целый луг в узор врисуют,
там – закат, а тут – рассвет.
Синий цвет гопак танцует,
в паре с ним зеленый цвет.
Приезжали торгаши,
забирали за гроши,
и – один другого краше —
рушники на руки!
Говорили: – То есть наши
малопольски штуки.
У гуцулов руки резвы,
гой, какие резьбы!
Ляльки, люльки, ложки, блюда,
что ни вещь, то чудо!
Всё паны берут за грош:
– Прошу пана, хлопский нож! —
Маршалковска улица
мастерством любуется.
– Осемь десьонт чтери злота —
малопольская работа! —
А гуцул-мастеровой
знает голод даровой.
Перед паном-экономом
били хлопца макагоном,
ой, там, ой, там на току
сбили хлопца на муку!..
Как на нашу Гуцульщизну
власть советская пришла!
Власть советская пришла
с новым светом, с новой жизнью!
Наша песня – у Карпат!
Горы древние не спят,
и к броне стальных машин
белый снег слетел с вершин.
Да встречает теплым звоном
нас гуцульская страна,
нет, не завоевана,
нами зачарована:
Красной Армией Червонной
зачарована она.
А пришла Радянська Влада
не суровым стариком,
а пришла Радянська Влада
молодым политруком
со звездою нарукавной.
Ладный, складный политрук —
украинец из Полтавы.
Обступили его вкруг,
приглашают в хату, в гости,
да несут орехов горсти,
яблоки да молоко,
по-гуцульски – широко!
Показал хозяин блюдо:
– Ось гуцульская резьба. —
Политрук сказал: – Не худо!
Тонко резано. Весьма.
Хорошо, кто понимает.
Дай-ка я попробую!.. —
Острый ножик вынимает,
досточку особую,
щурится,
хмурится…
Смотрят хлопцы и дивчата
на его резьбы початок.
Нож не режет, а летает,
и не движется рука,
только кончик выплетает
сразу тридцать три цветка!
Не свести с узора глаза.
Шепот, тихий разговор.
Да как ахнут люди сразу:
– То ж гуцульский, наш узор!
Наши квитки с завитками,
навить нашими руками
скризь оно
ризано! —
И пошел по хате гул:
– Нет нигде такой оправы! —
Гуркотят: – Да он гуцул! —
Отвечает: – Я с Полтавы! —
Гимнастерку расстегнул,
отгибает деловито
красный ворот, а под ним
во всю грудь рубаха шита
лугом сине-голубым.
Смотрят жинки на нее:
– То ж гуцульское шитье! —
Отвечает политрук: —
То работа наших рук!
По рубашке из сатина
на советской стороне
это вышила дивчина
из Черниговщины мне.
По-гуцульски и полтавски —
разговор один!
Сколько жили врозь годин,
но слова одной раскраски!
Сколько нас делило гор,
но в резьбе один узор!
Сколько жили под панами,
но в шитье один орнамент!
Ах, Гуцулщина-земля,
ты Полтавщине родня,
ты хозяишь на Карпатах
с красным знаменем на хатах,
горный кряж червонных рад!
С вольной жизнью, украинцы!
Львов и Киев – брату брат,
между нами нет границы
от Полтавы до Карпат!
Памятник Ленину
Над высотой Страны Советов,
где облаками воздух вспенен,
протянет руку в даль рассвета,
лучу зари, товарищ Ленин.
Из Одинцова путник выйдет —
Москва за лесом, за рекою…
Но путник Ленина увидит
с простертою к нему рукою.
С дороги сбившись, летчик ищет
маяк Москвы в туманной каше,
и Ленин дружеской ручищей
аэродром ему покажет.
Гроза решит раскатом грома:
«Паду на дом, огонь раздую!» —
но Ленин отведет от дома
огонь и бомбу грозовую.
Его рука весь мир обводит —
вершины, низменности, воды…
И, может, вспомнит о свободе,
краснея, статуя Свободы.
С вершины нового Монблана
поэт увидит с удивленьем
мир, перестроенный по планам,
что людям дал товарищ Ленин.
И вы, с планетою в полете,
глазами обернувшись к другу,
всем человечеством пожмете
живую ленинскую руку!
Стратостат «СССР»
В воздухе шарь, шар!
Шар созрел, кожурою обтянутый тонко,
и сентябрьским румянцем звезды налился,
и сорвался, как яблоко, как ньютоновка,
не на землю, а с ветки земли в небеса!
Отступал от гондолы закон тяготения,
не кабину, а нас на земле затрясло.
Вся Москва и Воздушная академия
отступала, мелькала, а небо росло.
Им казалось, что зелень – это трава еще,
это сделался травкой Сокольничий парк.
Это был не Пикар – это наши товарищи
по совместной учебе, по тысячам парт.
Мы все с замирающим сердцем
фуражки задрали наверх
и тянемся к стратосферцам,
к втянувшей их синеве.
В том небе никто еще не был,
еще ни один аппарат,
и вот в девятнадцатом небе
советские люди парят.
И в это синейшее утро
ко мне на ворот плаща
упала дробинка оттуда,
как первая капля дождя.
Взлет стратостата и бег шаропоезда [2]2
Шаропоезд – поезд монорельсовой конструкции, созданный инженером Н. Г. Ярмольчуком в 1932–1934 годах. Поезд двигался на шарообразных колесах с встроенными в них электродвигателями, которые располагались в полукруглых желобах под деревянной платформой (в полномасштабном проекте платформа должна была быть бетонной). Примечание сканериста.
[Закрыть],
финиш машин, перешедших черту, —
все это нами ведется и строится
в век, набирающий быстроту.
Нам не до стылого,
нам не до старого.
Шар растопыривай!
Небо распарывай!
Юность сквозная,
жизнь раззадоривай, —
черт его знает,
как это здорово!
Как я завидую взвившейся радости!
Я как прибор пригодился бы тут,
взяли б меня как радостеградусник.
Чем я не спирт? Чем я не ртуть?
Эту глубокую, темную ширь
я б, как фиалку, для вас засушил.
Где ж это виделось?
Где хороводилось?
Нам это выдалась
быстрая молодость!
Молодость вылета
в шумное поле то,
в семьдесят градусов
верхнего холода!
Чтобы повсюду росли и сияли
нашей эпохи инициалы,
будет написано сверху небес
здесь и на блеске заоблачных сфер —
смелости
С
свежести
С
скорости
С
и радости Р.
Легенда о музейной ценности
1
В подземных пластах под новой Москвой,
в гнилом ископаемом срубе,
был найден холодный, совсем восковой
мужчина в боярской шубе.
Он весил без малого десять пудов,
упитанный, важного чину;
ни черви, ни почва, ни плесень годов
не тронули чудо-мужчину.
Врачи с удивлением мерили рост,
щупали мышцы тугие,
одни заявили: – Анабиоз! —
Другие: – Летаргия!
2
Боярин лежал, бородатый по грудь,
в полном здоровье и силе,
и чтобы усопшего перевернуть,
грузчиков пригласили.
Натерли эфиром лоснящийся зад,
зажгли инфракрасную лампу,
и доктор боярину вспрыснул лизат —
пятнадцать сияющих ампул.
Лизат в инструменте клокочет,
а тот просыпаться не хочет.
3
Боярин молчит, боярин ни в зуб, —
лежит, как положено сану.
Профессор вгоняет ему в железу
два литра гравидану.
Решили прием увеличить на литр,
уже гравиданом боярин налит,
но все ж от чудовищной дозы
лежит, не меняя позы.
Гормонов ему втыкают в бедро,
рентген зашибают в брюхо,
и физики атомное ядро
дробят над боярским ухом.
4
Тут грузчик к нему проявил интерес:
– Профессор, да вы разиня!
Со мной при себе поллитровочка есть
из коммерческого магазина. —
Нашли у боярина рот в бороде,
бутылка гулко забулькала, —
боярин светлел, наливался, рдел
и вдруг растаращил буркалы:
– Холопы! – боярин вскочил и оре. —
Замучу! – оряху спросонок. —
Кто, смерд, разбудиша мя на заре?
Гоняхом сюда закусону!
5
Отъелся боярин, – вари да пеки!
От сытных хлебов беленится,
крадет у соседних больных, пайки, —
вконец обнищала больница.
За ужином требует водки литр,
орет по-церковному в градусе.
И сдали его, как порядок велит,
в Коопхудмузлит,
а там обалдели от радости!
– Чистый боярин! – Худмуз упоен,
ищут боярину место:
и грязен и груб, но все-таки он —
историческое наследство.
6
И дали жильцу подземных руин
гида из «Интуриста».
И тот объясняет: – Мосье боярин,
вы спали годочков триста.
Москвы не узнаете – долгий срок,
асфальт, фонари повсеместно.
Вот – телеграф, а вот – Мосторг,
а это вот – Лобное место. —
Боярин припал к родимым камням,
ни слова не молвит, а только «мням-мням».
Упал на колени и замер,
и мох обливает слезами.
7
Боярин по родине начал грустить,
лишился обличия бодрого;
эксперты решили его поместить
в домик боярина Федорова.
Сидит он и жрет грязнущей рукой
свое древнерусское крошево.
Любители ахают: – Милый какой,
обломок проклятого прошлого! —
Славянский фольклор изучают на нем,
и даже в газете объявлено:
«В музее сегодня и ночью и днем
показ живого боярина».
8
Он как-то «жидом» обозвал одного
явного украинца.
Худмуз восхищается: – Выручка во!
Боярин доходней зверинца. —
Не раз посетитель наследством избит,
Худмуз восхищается очень:
– Какой полнокровный боярский быт,
живуч, симпатяга, сочен! —
А если доносится мат из ворот,
Худмуз снижается в шепот:
– Тише, боярин передает
свой творческий опыт…
9
Но вскоре великодержавный душок
закрался в душевную мглу его:
он создал со скуки литкружок
в жанре Клычкова и Клюева.
Боярин скандалит в пивной вечерком
цыгане волнуют боярина,
орет, нализавшись, тряся шашлыком:
– Тапёр, наяривай! —
Изящные девочки ходят к нему,
ревет патефон в боярском дому,
и, девочек гладя и тиская,
боярин гнусавит Вертинского.
10
В Коопхудмузе решили так:
– Конечно, у классиков учатся,
боярин вполне положительный факт
и мягко влияет на юношество.
Конечно, скажем, без рапповских фраз:
трудно ему перестроиться, —
«Вечерку» читает, а все-таки раз
в церковь зашел на Троицу.
И водку пьет, и крест на груди,
и бабник, и матом лается,
а все же боярин у нас один, —
бояре вот так не валяются!
11
Он просто, как памятник, дорог для нас.
Музей для боярина чопорен.
Не лучше ль боярский использовать бас
в провинциальной опере?
Вот тут развернулся боярин вовсю,
обрел отечество снова
и сразу припомнил размах и красу
пиров царя Годунова.
Он входит в роль и, покуда поют,
статистов бьет по мордасам.
Театр включил в программу свою
пунктик: «Боярина – массам!»
12
Все можно простить за редкий талант,
а выдался бас – на диво.
Что в морду бьет – прощает театр:
бьет, а зато правдиво.
Но случай один увлекательный был:
согласно буйному норову
боярин на сцене певцу отрубил
по-настоящему – голову.
Хоть это и подлинный был реализм, —
ну, витязи там, ну, рыцари! —
но тут за боярина крепко взялись
товарищи из милиции.
13
Худмуз о наследстве хотел закричать,
но, чуя, что доводы зыбки,
махнул отмежевываться в печать
и признавать ошибки.
Призвали профессора, дверь на засов,
и речи пошли другие: —
Вернуть боярина в восемь часов
в состояние летаргии!.. —
Не знаю, помог ли тут гравидан?..
Лет тысяча пронесется,
но будьте уверены – никогда
боярин уже не проснется.
14
Я очень доволен. И «паркер» в ножны.
Я добрый ко всякой твари,
а вот бояре – нам не нужны
даже в одном экземпляре!
Неподвижные граждане
Кто не видал чугунных граждан города.
Степенный вид, неяркие чины:
Пожарский, Минин, Пушкин, Гоголь, Федоров
в большую жизнь Москвы вовлечены.
Триумфы, может, памятникам снятся,
но в общем смирный, неплохой народ;
попросим – слезут, скажем – потеснятся,
не споря, у каких стоять ворот.
В других столицах памятники злее,
куда нахальнее, куда грозней!
Мосты обсели, заняли аллеи,
пегасов дразнят, скачут, давят змей.
Наш памятник – народ дисциплинированный,
он понимает, что кипит страна,
что вся Москва насквозь перепланирована,
что их, чугунных, дело – сторона.
Вы с Мининым – Пожарским, верно, виделись?
На постаменте твердый знак и ять.
Что ж, отошли себе и не обиделись, —
чем плохо у Блаженного стоять?
Бывает так, что и живой мужчина
на мостовой чугунный примет вид.
«Эй, отойди!» – ему гудит машина,
а он себе, как памятник, стоит.
А монумент не лезет в гущу улицы.
Островский влез на креслице свое,
сидит, в сторонке сторожем сутулится,
хотя репертуарчик «не тоё».
Другая жизнь у памятника бодрого,
в деснице свиток, богатырский рост;
покинул пост первопечатник Федоров
и занял более высокий пост.
Он даже свежим выглядеть старается,
метро под боком, площадь – красота,
а в мае – песни, пляски, демонстрации…
Нет, не ошибся, что взошел сюда!
Ведь все-таки профессия из родственных —
свинцом дышал и нюхал плавки гарь,
и скажем прямо: старый производственник,
а не какой-нибудь кровавый царь.
Что до царей – прописана им ижица.
Цари мне нравятся, когда они резвей,
когда они, цари, вниз головою движутся,
куда им полагается – в музей.
Чувство нового
Чувство нового, завоеванное,
чувство самого в мире нового,
незаношенного, ненадеванного,
неоткрытого, неготового!
Словно после потопа Ноева,
в мире вымытом уйма нового,
ненаписанного, неизваянного,
неиспытанного, без названия.
Нами, нами оно основано
без корыстного, злого норова,
не нависшее ненавистною
пылью Плюшкина, сном Обломова.
Чувство времени быстроногого,
землю вырвавшее из апатии,
светом будущего взволнованное,
явью ставшее в планах партии —
драгоценное чувство нового!..
В первый раз раскрытая азбука,
в первый раз открытая Арктика,
над невиданным сортом яблока
терпеливой студентки практика.
В первый раз включенное радио,
след протона, впервые найденный,
метростроевцев первый радиус,
зимостойкие виноградины.
Цели жизни – для всех открытие!
Всей страны в коммунизм отплытие!
Наша мысль стариной не скована,
время мелется нашим жерновом!
Пусть над пропастью, пусть рискованно, —
мы проходчики мира нового!
Пусть не смеют нас консерваторы
ранить взглядами косоватыми!
Опыт прежнего – в новость выдумки!
Время свежее – нашей выделки!
Плод Мичурина, скальпель Павлова,
поле Демченко, труд Стаханова,
танк Урала, метро московское,
стих шагающий Маяковского,
вокругсветная дума Чкалова,
перелет через полюс Громова…
В жизни времени небывалого
новым людям нельзя без нового!
Хорошо, что не все придумано,
лишь очерчено углем грубым.
Недоделано? Недорублено?
Недолюблено? Снова любим!
И не все перемыто золото,
глубь не пройдена стратосферная.
Будем делать тепло из холода,
день из ночи и юг из севера.
Наши руки всему научатся,
все загадки по нитке вытянем,
коммунизм у нас получится
многоцветный и удивительный!
Знаем – скажут потомки в будущем:
«Эти жили совсем не буднично!»
Глянут в книжицы позабытые —
нас увидят и позавидуют!
Горсть земли
Наши части отошли
к лесу после боя;
дорогую горсть земли
я унес с собою.
Мина грохнулась, завыв,
чернозем вскопала;
горсть земли – в огонь и взрыв —
около упала.
Я залег за новый вал,
за стволы лесные,
горсть земли поцеловал
в очи земляные.
Положил в платок ее
холщевой, опрятный,
горстке слово дал свое,
что вернусь обратно;
что любую боль стерплю,
что обиду смою,
что ее опять слеплю
с остальной землею.
Дети
Зияет руинами школа,
семь классов в разрезе стены, —
фугаска ее расколола
стальным кулаком сатаны.
Но школьники без опозданья
приходят в разбитое зданье.
Космическим черным железом
забрызган их опытный сад,
но все же тычинки в разрезе
на взорванных стенах висят.
Едва отгудела тревога,
все сели вокруг педагога.
Урок у обломков строенья,
раскрыты тетрадки для слов,
здесь дети постигнут строенье
живых и любимых цветов.
И водит указкой Светлана
по стеблю и чаше тюльпана.
Отцы их бросаются в пламя,
а им, остающимся жить,
не с бомбами, а с цветами
придется в грядущем дружить.
Над ними качается стадо
серебряных аэростатов…
Севастополь
Севастополь! Огневая буря!
Глохнет берег от ревущих бомб,
вздулась бухта, бурная и бурая,
вспышки в небе черном и рябом.
Может, страшным оползнем обрушатся
и сползут в пучину берега,
но вовеки памятником мужества
здесь воздвигся облик моряка.
Может быть, когда-нибудь растопится,
станет паром моря изумруд,
но вовеки, черноморцы, севастопольцы,
ваши подвиги в легендах не умрут.
Танки шли – вы встали и застопорили,
залегли, бессмертное творя,
будто врылись в землю Севастополя
рукавов матросских якоря.
Пулями пробитые, но держат,
держат ваши руки пулемет,
и, как шлюпка с надписью «Надежда»,
к вам любовь народная плывет.
Верю я далекому виденью:
взорванная вырастет стена,
севастопольские улицы наденут
дорогие ваши имена.
Будет день – и мы придем обратно
к памятным развалинам в Крыму!..
Лозунг: «Смерть фашистским оккупантам!» —
значит: жизнь народу моему!
Одесса
Я взглянул и задрожал: – Одесса!
Опустел и обвалился дом…
Желтый камень солнечного детства
выщерблен фашистским сапогом.
Город-воля, штормовое лето,
порт, где бочек крупное лото,
где встречался с «Теодором Нетте»
Маяковский в рейде золотом.
Сердце этим городом не сыто, —
лихорадит и томит меня
долгий взгляд матроса-одессита,
ставшего на линию огня.
Красный бинт горит на свежей ране,
тело прижимается к земле…
Может быть, я с ним встречался ране
там, где свиток держит Ришелье.
Виден якорь сквозь матросский ворот.
Он шагал на орудийный вихрь,
умирал за свой любимый город,
воскресал в товарищах своих.
Верю я – мы встретимся, товарищ,
в летний день на боевом борту,
у старинной пушки на бульваре,
в разноцветном праздничном порту.
Полдень будет многолюдно ярок
на обломках свастик и корон!
Город – Воля, Город – Поднят Якорь
никогда не будет покорен!
Болотные рубежи
Болотные рубежи, холодные рубежи…
Уже не один ноябрь тут люди ведут войну.
Ужи не прошелестят, и заяц не пробежит,
лишь ветер наносит рябь на Западную Двину.
Как низко растет трава, как ягоды тут горьки!
Вода в желобах колей, вода на следах подков.
Но люди ведут войну, зарылись под бугорки
у вешек минных полей, у проволочных витков.
В трясину войдет снаряд и рвется внутри земли,
и бомбу тянет взасос угрюмая глубина,
а дзоты стоят в воде, как Ноевы корабли,
и всюду душа бойца, высокая, как сосна.
К болоту солдат привык, наводит порядок свой.
Живет он как на плоту, а думает о враге,
что ворог особо злой, что места сухого нет,
что надо на кочке той стоять на одной ноге.
Заместо ступеньки пень я вижу перед избой,
старинный стоит светец, лучина трещит светло.
На лавке лежит боец с разбитою головой.
И как его довезли в заброшенное село?
Он бредит, он говорит о пуле над головой:
«…Но если я слышу свист, то, значит, она не мне…»
А девушка-санитар приходит с живой водой,
с письмом от его сестры и с сумкою на ремне.
А прялка жужжит в избе, и сучит старуха нить.
И разве, чтоб умереть, добрался боец сюда?
А девушка перед ним, а раненый просит пить,
за окнами долгий гул, и в кружке стоит вода.
Он бредит, он говорит, что надо вперед, бегом,
что эта вода желта и рвотна, как рыбий жир,
что чавкает зыбкий грунт, как жаба, под сапогом,
что надо б скорей пройти болотные рубежи…
Товарищ, приди в себя, ты ранен нетяжело!
Не пули свистят вокруг, а вздрагивают провода.
Тут госпиталь, тишина, калининское село.
Ты выживешь, мы пойдем в литовские города.
За окнами вспышки, блеск, артиллерийский гул,
тяжелый и влажный снег врывается за шинель…
Но разве хотя б один о теплой избе вздохнул
разве в таких боях мечтают о тишине?
О, только не тишина! Скорее бы за порог!
А сколько осталось верст до Риги от кочки той,
до твердой земли полей, до камня сухих дорог,
до Каунаса, до небес Прибалтики золотой?
Нам каждый аршин земли считается в десять верст,
не реки, но и поля бойцы переходят вброд,
в туманах глаза бойцов отвыкли уже от звезд!
О чем же еще мечтать, как не о рывке вперед?!
Лучина горит в избе мечтанием о свече,
двух тлеющих папирос два движущихся уголька,
с затяжкой слегка зажглись три звездочки на плече
и поднятая, у губ помедлившая рука…
– Полковник! До нас дошло, что нашими взят Пропойск [3]3
Возможно Славгород (до 23 мая 1945 – Пропойск, белор. Прапойск) – город в Беларуси, административный центр Славгородского района Могилёвской области. Примечание сканериста.
[Закрыть].
Когда же сквозь гниль болот прикажут и нам пройти?
– Умейте терпеть, майор! На картах у наших войск
помечены далеко проложенные пути.
Мы ближе, чем все войска, к границам врага стоим
отсюда дороги вниз, отсюда дороги вверх
и именно, может, нам придется огнем свои
пробить из воды болот дорогу на Кенигсберг.
Мы видели с вами Ржев, весь в кратерах, как луна.
Сквозь Белый прошел мой полк, а город порос травой.
Мы шли без дорог вперед, и нас привела война
за Велиж, где нет людей, изрытый и неживой.
Я с камнем беседу вел, имел разговор с золой,
допрашивал пепел изб, допытывал снег и лед,
я много сырых ночей впритирку провел с землей,
и все отвечало мне: болотами лишь вперед!
Поймите меня, майор, что значит такой ответ:
вперед – по сплошной воде, засасывающей шаг.
Так, значит, края болот не бездорожье, – нет! —
а тем, кто решил идти, – широкий, прямой большак!
Дорога труднее всех, глухая мура и топь.
Попробуйте-ка ногой, как муторна и вязка!
Но как ее не избрать из тысяч дорог и троп,
когда напрямик она к победе ведет войска?
Когда-нибудь эта жизнь покажется вам во сне:
измученная земля, изодранная войной,
и ранняя седина, и ранний ноябрьский снег,
и раненый здесь, в избе, за Западною Двиной.
Я вспомню тяжелый путь, где с вами я шел и вяз,
где наши бойцы вошли по пояса в мокреть,
и в послевоенный день потянет душою вас
собраться в повторный путь, поехать и посмотреть:
на проволочные ряды, на взорванные горбы,
на старые блиндажи, зарытые среди ржи,
на памятные следы величественной борьбы —
болотные рубежи, болотные рубежи…