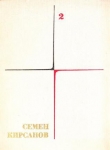Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы

Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Семен Кирсанов. ТОМ ТРЕТИЙ
Гражданская лирика и поэмы
Гражданская лирика и поэмы (1923–1970)
Часы
Я думал, что часы – одни.
А оказалось, что они
и капельки, и океаны,
и карлики, и великаны.
И есть ничтожные века,
ничтожней малого мирка,
тысячелетья-лилипуты…
Но есть великие минуты,
и только ими ценен век,
и ими вечен человек,
и возмещают в полной мере
все дни пустые, все потери.
Я знал такие. Я любил.
И ни секунды не забыл!
Секунды – в мир величиною,
за жизнь изведанные мною.
И разве кончилось Вчера,
когда Ильич сказал: «Пора!»
Нет! Время Ленина все шире
жизнь озаряет в этом мире.
И так повсюду. Знает мир
часы карманов и квартир
и те – без никаких кронштейнов —
часы Шекспиров, часы Эйнштейнов!
ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА (1923–1970)
Песня о железнодорожнике
Расцветала снежная,
белая акация.
Утренняя спешная
шла эвакуация.
Разгоняли приставы
беспортошных с пристани.
В припортовой церкви
молились офицерики.
Умолили боженьку
службою и верою
железнодорожника
удавить на дереве.
«Вешал прокламацию?
Будешь проклинать ее.
За таку оказию
украшай акацию.
Красному воробушку
надевай веревочку
на царя и родину,
наше сковородие!»
И суда военные
зашумели пеною,
задымили хрупкими
трубами и трубками.
Днем и ночью целою
ждали власти граждане.
В городе – ни белые,
в городе – ни красные.
Но до утра серого
у сырого дерева,
темного, сторукого,
плакала старуха:
«Вырос ты удаленек,
стал теперь удавленник.
Ноги обняла бы я,
не достану – слабая…
Обняла бы ноги я,
да они высокие.
Ох, я, одинокая,
старая да ссохлая!..»
А в ворота города
залетали красные,
раскрывали вороты,
от походов грязные…
И от ветров дальних
тронулся удавленник,
будто думал тронуться
навстречу к буденновцам.
Отходная
Птица Сирин (Гамаюн, Гюлистан)
пролетает по яблонным листам.
Пролетай, Иван-царевич, веселись,
добрым глазом нынче смотрит василиск,
а под сенью василисковых крыл
император всероссийский Кирилл!
Верещит по-человечьи Гамаюн:
– Полечу я поглазеть на мою,
полечу, долечу, заберусь
на мою императорскую Русь.
Как ни щурят старушечье бельмо
Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, —
старой шпорой забряцати слабо
у советских деревень и слобод.
У советских деревень и слобод
веют ветры Октябрьских свобод,
да с былой с православной с кабалой
облетает позолота с куполов!
Не закрутит вновь фельдфебельский ус
православно-заграничная Русь.
Улицы
Худые улицы замоскворечные,
скворцы – лоточники, дома – скворечни,
где мостовые копытом пытаны,
где камни возятся под копытами.
О, как задумались и нависли вы,
как замечталися вы завистливо
о свежих вывесок позументе,
торцах, булыжниках и цементе.
Сквозь прорву мусора и трубы гарные
глядите в звонкое кольцо бульварное, —
туда, где улицы легли торцовые,
где скачут лошади, пригарцовывая,
где, свистом площади обволакивая,
несутся мягкие «паккарды» лаковые,
где каждый дом галунами вышит,
где этажи – колоколен выше.
От вала Крымского до Земляного —
туман от варева от смоляного.
Вот черный ворох лопатой подняли…
Скажи – тут город ли, преисподня ли?
Тут кроют город, тут варят кровь его —
от вала Крымского до Коровьего.
Худые улицы замоскворечные,
скворцы – лоточники, дома – скворечни,
сияя поглядами квартирными,
вы асфальтированы и цементированы.
Торцы копытами разгрызаючи,
несется конь на закат рябиновый,
автомобили стремглят по-заячьи,
аэропланы – по-воробьиному.
Спешат по улице омоложенной
направо – девица, налево – молодец,
и всех милее, всего дороже нам
московских улиц вторая молодость!
Разговор с Дмитрием Фурмановым
За разговорами гуманными
с литературными гурманами
я встретил Дмитрия Фурманова,
ладонь его пожал. И вот
спросил Фурманов деликатно:
– Вы из Одессы делегатом? —
И я ответил элегантно:
– Я одессит и патриот!
Одесса, город мам и пап,
лежит, в волне замлев, —
туда вступить не смеет ВАПП,
там правит Юголеф!
– Кирсанов, хвастать перестаньте,
вы одессит, и это кстати!
Сюда вот, в уголочек, станьте,
где лозунг «На посту!» висит.
Не будем даром зубрить сабель,
не важно, в Лефе ли вы, в ВАППе ль,
меня интересует Бабель,
ваш знаменитый одессит!
Он долго ль фабулу вынашивал,
писал ли он сначала начерно
и уж потом переиначивал,
слова расцвечивая в лоск?
А может, просто шпарил набело,
когда ему являлась фабула?
В чем, черт возьми, загадка Бабеля?..
Орешек крепонек зело!
– Сказать по правде, Бабель мне
почти что незнаком.
Я восхищался в тишине
цветистым языком.
Но я читал и ваш «Мятеж»,
читал и ликовал!..
Но – посмотрите: темы те ж,
а пропасть какова!
У вас простейшие слова,
а за сердце берет!
Глядишь – метафора слаба,
неважный оборот…
А он то тушью проведет
по глянцу полосу,
то легкой кистью наведет
берлинскую лазурь.
Вы защищали жизнь мою,
он – издали следил,
и рану павшего в бою
строкою золотил,
и лошади усталый пар,
и пот из грязных пор —
он облекал под гром фанфар
то в пурпур, то в фарфор.
Вы шли в шинели и звезде
чапаевским ловцом,
а он у армии в хвосте
припаивал словцо,
патронов не было стрелку,
нехватка фуража…
А он отделывал строку,
чтоб вышла хороша!
Под марш военных похорон,
треск разрывных цикад
он красил щеки трупа в крон
и в киноварь – закат.
Теперь спокойны небеса,
громов особых нет,
с него Воронский написал
критический портрет.
А вам тогда не до кистей,
не до гусиных крыл, —
и ввинчен орден до костей
и сердце просверлил!
…А что касается меня —
то в дни боев и бед
я на лазурь не променял бы
ваш защитный цвет!
Тень маяка, отливом смытая,
отходит выправка Димитрия;
воспоминаний этих вытравить
нельзя из памяти навек!
Когда был поднят гроб наверх —
увитый в траур гроб Димитрия, —
горячий орден рвался в грудь,
чтоб вместо сердца заструиться,
чтоб дописать, перевернуть
хотя б еще одну страницу…
Разговоръ съ Петромъ Великимъ
– Столица стала есть сия
надъ сномъ тишайших бухтъ
гербомъ и знаменемъ сиять
во мгле – Санктъ-Петербургъ!
Насъ охраняетъ райский скитъ
за то, что сей рукой
Адмиралтейства светлый скиптръ
былъ поднять надъ рекой.
Колико азъ не спалъ ночей,
дабы воздвигнуть градъ?
Но титулъ Нашъ слепая чернь
сорвала съ оныхъ вратъ.
Кого сей градъ теперь поитъ?
Где правнуки мои?
Кому ты льешь теперь, пиитъ,
кастальския струи?
– Правнуки ваши лежат в земле,
остатки – за рубежом
существуют подачками богачей
и мелким грабежом.
Зачем вы волнуетесь, гражданин,
и спать не даете мне?
Вас Фальконет на коня посадил,
и сидите себе на коне.
Гражданин, попирайте свою змею
и помните – ваших нет!
– Не Нами ль реями овитъ
Балтъ, Волга и Азовъ?
Не Мы ль сменили альфа-битъ
от ижицъ до азовъ?
Календаремъ Мы стали жить,
изъ юфти обувь шить.
Фортификация и флотъ —
Петровой длани плодъ.
Мы приказали брить брады,
кафтаны шить до бёдръ.
Сии тяжелые труды
свели на смертный одръ…
– Я не собираюсь вашу роль,
снизить, Романов Петр!
О ваших заслугах, как герольд,
Кирсанов Семен поет.
Была для России ваша смерть —
тяжелый, большой урон.
Реакция, верно, Петр Второй,
Елизавета, Бирон.
Но вспомните, разве это вы
тащили гранит для Невы?
Конечно, никто вас и не бранит,
но подчеркиваю – не вы!
– То академикъ, то герой,
от хладныхъ финскихъ скалъ
Азъ поднялъ росский трон горой
на медный пье-де-сталъ.
Дабы съ Россией градъ нашъ росъ,
былъ Нами изгнанъ шведъ.
Увы! Где шелъ победный россъ,
гуляетъ смердъ и шкетъ!..
Да оный градъ сожретъ пожаръ,
да сгинетъ, аки обръ,
да сгинетъ, аки Февруаръ,
низвергнутый въ Октобръ!
– Смысл ваших речей разжуя,
за бравадою вижу я
замаскированное хитро
монархическое нутро.
И если будете вы грубить —
мы иначе поговорим
и сыщем новую, может быть,
столицу для вас – Нарым!
Германия (1914–1919)
Уплыл четырнадцатый год
в столетья – лодкою подводной,
печальных похорон фагот
поет взамен трубы походной.
Как в бурю дуб, война шумит.
Но взмаху стали ствол покорен,
и отшумели ветви битв,
подрублен ствол войны под корень.
Фридрих Великий,
подводная лодка,
пуля дум-дум,
цеппелин…
Унтер-ден-Линден,
пружинной походкой
полк оставляет
Берлин.
Горчичный газ,
разрыв дум-дум.
Прощай, Берлин,
и – в рай!..
Играй, флейтист,
играй в дуду:
«Die Wacht, die Wacht
am Rhein…»
Стены Вердена
в зареве утр…
Пуля в груди —
костеней!
Дома, где Гретхен
и старая Mutter, —
кайзер Вильгельм
на стене…
Военный штаб.
Военный штамп.
Все тот же
Фриц и Ганс,
все та же цепь:
– В обход, на степь!
В бинокле
дым и газ.
Хмурый старик,
седина подбородка —
Людендорф:
– Испепелим! —
…Фридрих Великий,
подводная лодка,
пуля дум-дум,
цеппелин…
Пуля дум-дум…
Горчичный газ…
Но вот: – Ружье бросай! —
И вот, как тормоз Вестингауз,
рванул – конец – Версаль!..
Книгопечатня! Не найти
шрифта для перечня событий.
Вставайте, трупы, на пути,
ноздрями синими сопите!
Устали бомбы землю рвать,
штыки – в кишечниках копаться,
и снова проросла трава
в кольце блокад и оккупаций
Спят монументы
на Зигес-аллее,
полночь Берлина —
стара…
И герр капельмейстер,
перчаткой белея,
на службу идет
в ресторан.
Там залу на части
рвет джаз-банд,
табачная
веет вуаль,
а шибер глядит,
обнимая жбан,
на пляшущую
этуаль…
Дождик-художник,
плохая погодка,
лужи то там,
то тут…
Унтер-ден-Линден,
пружинной походкой
красные сотни
идут…
Дуют флейтисты
в горла флейт,
к брови
прижата бровь,
и клятвой
на старых флагах алеет
Карла и Розы
кровь!
Баллада о неизвестном солдате
Огремлите, гарматы,
закордонный сумрак,
заиграйте зорю
на сребряных сурмах!
Та седые жемчуги,
слезы Запада-края,
утри, матерь божья,
галицийская краля.
Да что тебе, матерь,
это гиблое войско?
Подавай тебе, мать, хоруговь
да мерцание войска!
Предпочла же ты, матерь,
и не дрогнувши бровью,
истеканию воском —
истекание кровью.
Окровавился месяц,
потемнело солнце
по-над Марною, Березиною,
по-над Изонцо.
Люди шли под изволок
перемогой похода —
на Перемышль конница,
по Карпаты пехота…
Пела пуля-певунья:
«Я серденько нежу!
Напою песню-жужелицу
солдату-жолнежу [1]1
Жолнёры или жалонёры или жалонеры – 1) Нижний чин пехоты, носящий в строю на штыке ружья цветной флаг (жалонерский значок), служащий для указания места батальона или роты и для обозначения линии при построении войск. 2) Название солдат польской армии (чаще в историческом контексте). Примечание сканериста.
[Закрыть]».
(Под шинелью ратника,
что по-польски «жолнеж»,
тихий корень-ладанка,
зашитая в полночь.)
Винтовка линейная
у тебя, солдате,
во всех позициях
умей совладать ей.
Котелок голодовки,
шинель холодовки
да глоток монопольки
у корчмарки-жидовки.
Ныла война-доля!
Флаги радужней радуг.
По солдату ходило
пять сестер лихорадок.
Сестрица чахотка
да сестрица чесотка,
милосердный платок
трясовицей соткан…
тебя в селе матка
да невесто-младо
(а в полях палатка,
лазарет-палата).
Лазаретное утро,
госпитальный вечер.
Аспирин да касторка,
сукин сын – фельдшер!
А кто ты есть, жолнеж,
имя свое поведай?
Слово матки исполнишь —
обернешься победой.
А тебе за победу,
або крест на пригорке,
або костыль инвалидный,
або медный «Георгий».
О, шумите, рушницы,
невелика потеря.
Артиллерия, вздрогни!
Упади, инфантерия!
Пролети, пуля-пчелка,
попади, золотея,
в лошадиную челку,
в человечье темя.
Покачнись, брате жолнеж,
умирая рано.
Под могилкой репейного
затянется рана.
А слезы матки с невестой,
позолотой играя,
утрет божия матерь,
галицийская краля.
Баллада о мертвом комиссаре
1
Снарядами белых рвало и кромсало
защитную зону.
Уложила на месте шрапнель комиссара
N-ского дивизиона.
2
Завалила земля, влажна и грязна,
ни черта не видать круглым счетом.
«Умирать бы не жаль бы, лежал, кабы знал:
чья берет, – что там?»
3
Раскопать бы курган, посмотреть суметь,
чье правительство, чья свобода?
Комиссару неможется – смерть не в смерть!
так четыре года.
4
И еще протаяло, кто его знает,
сколько лет?
Гимнастерка истлела – ряднина сквозная.
Только скелет.
5
Слышит: лошадь копытами плюх да плюх,
заскрипело, – кажись, пашут.
Неглубоко берет – по-бедняцки – плуг.
«Кабы знать: чью землю пашут?
Чужую или нашу?..»
6
Надо лбом комиссара волк провыл, —
ну и горе!
Прямо в сердце ему заразихи-травы
опустился корень.
7
И не косит никто, и скота не пасет.
Тихо… Недобро…
Чернобыльник степной, полынь и осот
просквозили белые ребра.
8
Корни пулю обвили у гладких костей,
перепутались пальцы с осотом.
Комиссару не спится. Выйти бы в степь!
Посмотреть – что там?
9
Через несколько лет загрохало так,
будто пушку тянут по тракту…
«Може, снова британский движется танк?
Нет, скорей – трактор…»
10
Стала светом проскваживать ночь черна,
голове просторней.
Чует – рвут из земли когтистый сорняк,
повылазали острые корни.
11
Стала тяжесть ложиться, будто камень кладут
(сам был каменщик, из рабочих).
Голоса наверху, как в двадцатом году,
только смысл голосов неразборчив.
12
Примерещилось мертвому – кончился бой,
с песней войско шагает просторами,
будто сам он, из камня, встает над собой
в каменной воинской форме!
13
И пшеничным дыханьем, отрадой степной,
сон прополз по глазным пустотам.
Мысль, как шорох, прошла в белизне черепной
«Знаю… что там…»
14
Он стоял, ладонь положив на бинокль,
как стоял в заварухе дымной.
И лежал у гранита красный венок
от завода его имени.
15
Вся округа у памятника собралась,
шапку снял участник похода.
– Кабы знал наш товарищ, какая власть:
чья победа и чья свобода!..
Закавказье
Если б я был пароходом
быстроходным и роста красивого,
я всю жизнь черноморскими водами
от Батума б до Сочи курсировал.
«Принимаю груз, отдаю концы,
молодые борта показываю».
И гудят гудки, пристаней гонцы,
от Аджарии до Абхазии.
Если б я был самолетом
двухмоторным дюралюминиевым,
я взлетел бы с моим пилотом
на 2000 метров минимум.
«А отсюда видна золотая страна,
виноградная, нефтяная.
И звенит во мне не мотор – струна,
крик пропеллера оттеняя».
Если был бы я нефтепроводом
от фонтанов Баку до Батума,
ух, и славно ж бы я поработал
и об лучшей работе б не думал.
«Молодая кровь, золотая нефть,
мы родили тебя и выходили.
Так теки ж по мне, заставляй звенеть
и дрожать нефтяные двигатели!»
Если был бы я не поэтом,
а Тифлисом, грузинским городом,
я стоял бы на месте вот этом,
упираясь в долину гордо.
Я бы вместо сукна одевался в цемент
и под солнцем, в июль накаленным,
задевал бы хвосты проходящих комет
звездной лапою фуникулера!
Птица башни
На кремлевской башне жил орел —
главы, когти, крылья…
Золотой сияющей корой
птицу зори крыли.
Будто башню он держал в когтях, —
вдаль глаза косые.
А под ним, ночной буран крутя,
Кремль, Москва, Россия.
Древний град с замоскворецких мест
дней тащил вериги.
И орлу покорный ясный крест
нес Иван Великий.
Будто не Иван, не Михаил,
но в порфире Павел,
а орел чугунной ширью крыл
старой Русью правил.
Рвы засыпало, замшел кронверк,
плыли кровли ржаво.
Думалось – не упадет вовек
скиптр, венец, держава…
И казалось, что орел живой
круглый глаз таращит,
Будто с вышки ждет сторожевой
птицы, вкось летящей.
Но когда орел на двух крюках
вниз пошел по брусьям —
он в рабочих поднятых руках
и не шевельнулся.
Не забился, не пошел на взлет…
Сняли, смыли, сдули,
посмотрели: в слое позолот
грудь пробита пулей.
И сказал рабочий, разобрав
герб, корону, чашу:
– Он, наверно, мертвый с Октября.
Пуля эта наша!
Так он явно, царственный, издох,
что под знаком тронным
ласточка свила себе гнездо
в глубине короны.
Птица башни утром умерла.
Ржавчину развеяв,
отвезите мертвеца орла
в светлый зал музея.
А теперь мы к башне вновь прильем
не орлов бесхвостых, —
привинтим к рассвету над Кремлем
звезды, звезды, звезды!
Озаряй Москву, и мир, и дом —
звездный коммунизм!
Даже ласточке и той найдем
место над карнизом.
Кратко о прожекторе
Из-за улиц, бросив яркость
из-за города-плеча,
протянулись, стали накрест
два прожекторных луча.
Разошлись и снова стали
на Большой Медведице,
двум полоскам белой стали
надо в небе встретиться.
Двух лучей светлы пути.
Я бы всем пожертвовал,
если б мог хоть раз пройти
по лучу прожектора!
Это так… вообще… поэзия…
А на самом деле для
того ли эти лезвия,
чтоб по ним ходили?
Я сказал бы: спишь ночами,
а зенитчик в ночь глядит,
чтоб схватить двумя лучами
птицу с бомбой на груди!
Музей гражданской
В музейном зале
в темной бронзе
мне показали
профиль Фрунзе.
И в залах сизых
в вечернем свете
стояли жизни,
витали смерти.
В знаменах дыры,
равнины в ямах,
а командиры
в спокойных рамах.
Конем в набеге
на блеск ружейный,
застыв навеки,
неслось сраженье.
И нам хотелось
ворваться в рамы,
в дым бросить смелость,
свист сабель в шрамы!
И каждый, с грустью
у стен ступая,
у уст почувствовал
ус Чапая.
Киров и Север
У полуострова Кольского,
где солнце поставлено косо, —
по мшистой окраине мира
прошел и задумался Киров.
И что ему делать на Севере,
где даже растения – серые,
как могут быть нами любимы
одетые в стужу Хибины?
Тут луч поскользнулся и тенью
бессильно пополз по растенью,
и край не мечтал о посеве,
где встретились Киров и Север.
И Север не выдал богатства,
он начал в снега облекаться,
магнитными двигать плечами,
шаманить косыми лучами.
Но Киров глазами просверливал
запретные прииски Севера,
окидывал взглядом Хибины,
входил в ледяные глубины.
Как Север ни прятал сокровища
в свои снеговые сугробища —
он вынул, зарытые в горы,
страны урожайные годы!
Не будет седого и сирого,
теплом обойденного края, —
здесь будут по замыслу Кирова
рождаться сады, расцветая.
Давайте поверим, что тропики
пришли на промерзлые тропки,
что ветер приносит оттуда
листочки лимона и тута;
что солнце поставлено выше,
что злаки качаются, выросши
на мшистой окраине мира,
где встретились Север и Киров.
Елочный стих
Оделась в блеск, шары зажгла:
«К вам в Новый год зайду-ка я!..»
И в наши комнаты зашла
подруга хвойнорукая.
Стоят дома при свете дня,
на крышах дым топорщится,
но если крыши приподнять —
весь город просто рощица!
А в этой рощице – ребят!
С игрушками! С подарками!
Нам новогодие трубят,
маша флажками яркими.
И я иду смотреть на Кремль,
мотель, и брови в инее;
там башня Спасская, как ель,
горит звездой рубиновой.
Весь город в елках зашуршал
в звон новогодней полночи, —
фонарь качается, как шар,
и уличный и елочный.
Бывало, в ночь под Рождество
прочтешь в любом журнальчике
рассказ про елку, барский стол
и о замерзшем мальчике.
Теперь таких журналов нет,—
мороз хватает за уши,
но мальчиков по всей стране
не видно замерзающих.
Для них дрова трещат в печах,
котлы и трубы греются;
их жизнь с оружьем на плечах
средь елей, в пасмурных ночах,
хранят красноармейцы.
И я стихами блеск зажег, —
входите, ель-красавица,
на ветку этот стих-флажок
подвесьте, если нравится!
Граница в будущем
Когда бой пошлет рабочим новую победу
и подымет флаг страны соседней ЦИК,
я еще раз, может быть, поеду:
Негорелое – Столбцы.
Пассажиры сходят с быстропоезда
перед бывшей пограничною сосной,
дети слазят, мамы беспокоятся,
отдыхает кит сверхскоростной.
Под навесом старый столб хранится,
рядом надпись, мраморно-бела.
Мы читаем: «Здесь была граница».
И действительно она была.
Дети спросят: – Кто она такая! —
Объясняю, гладя их рукой:
– Паспорт проверяли, пропуская…
– Дяденька, а паспорт кто такой? —
Педагог я очень маломощный:
– Ну, таможня, чемодан неся…
– А таможня – это там, где можно?
– Нет, ребятки, там, где все нельзя. —
Непонятно детям – просто столбик,
а куда приятней у окошка, мчась,
видеть, как прекрасен мира облик
с вихрем в триста километров в час.
И не будет ни одной гранички!
Ни жандармов, ни таможни, ни столба.
Впишут школьники в тетрадные странички
эти отмененные слова.
Можно размечтаться упоенно,
а пока железное «нельзя!».
Через наш рубеж шпана шпионов
крадется, на брюхе к нам ползя.
А пока спокойно паспорт сверьте,
чемодан, – двойного нет ли дна?
Самая священная на свете,
будь, граница, вся защищена!
Испания
Я не очень-то рвусь в заграничный вояж
и не очень охоч на разъезд.
Велика и обильна страна моя,
и порядок в ней должный есть.
Но посмотришь на глобус —
для школьников шар,
стран штриховка и моря окраска, —
сразу тысячью рейсов махнет по ушам
кругосветная качка и тряска.
И чего прибедняться! Хочу увидать
то, чего мое зренье не видело:
где коралловым рифом пухнет вода,
Никарагуа, Монтевидео…
Я мечтал, не скрываю, право мое —
жадным ухом прислушаться к говору,
стобульварный Париж, стоэтажный Нью-Йорк,
все вобрать это полностью в голову!
Но сегодня, газету глазами скребя,
я забыл другие искания,
все мечты о тебе, все слова для тебя —
Испания!
Вот махнуть бы сейчас через все этажи!
(Там – окопы повстанцами роются…)
И октябрьское знамя на сердце зашить
астурийцам от метростроевцев.
Ты на карте показана желтым штрихом
в субтропическом теплом покое,
а взаправду твой зной проштрихован штыком,
я сейчас тебя вижу такою!
Не мерещатся мне улыбки Кармен
и гостиничное кофе.
Мне б хоть ночь пролежать, зажав карабин,
с астурийским шахтером в окопе.
Кстати, норму я сдал в позапрошлом году,
ворошиловцы – надобны вам они,
даже цветом волос за испанца сойду, —
породнимся на красном знамени!
Ноги
В Париже по Rue St-Honore,
и в синие сумерки проходил,
где спит на пляжах витрин-морей
вещь-змея и вещь-крокодил.
В стекле – фарфоровый свет грудей,
фаянсовых рук, неживых людей,
розовой резины тягучая мазь
на женщинах из пластических масс.
Я подошел к одной из витрин.
В вывеску вписывались огни,
стекло зеркальное, а внутри
ящик и две золотых ноги.
Чулка тончайшего чудо-вязь
и ноги без туловища, одни,—
не воск, не дерево, не фаянс.
Живые – вздрагивали они!
Звездам пора уже замерцать,
созвездья вползают на этажи;
женщина в ящике ждет конца
и несколько франков за эту жизнь.
Вздрогнули мускулы под чулком,
и дрожь эту каждый увидеть мог…
Родиться не стоило целиком,
чтоб жить рекламного парой ног.
Но нечего делать, торговый Париж
спускает шторы, вдвигает болты;
Париж подсчитывает барыш
за женские ноги, глаза и рты.
Поднят на крышу кометный хвост,
гаснут слова и дрожат опять,
кто спать в постель, кто спать под мост,
а кто еще одну ночь не спать…
Я эту витрину ношу в мозгу,
той дрожи нельзя замять и забыть;
я, как спасение, помню Москву,
где этого нет и не может быть.