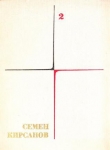Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы

Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
1
Когда сомкнулись клещи наши
у Волги обручем двойным,
фашистский лагерь, мертв и страшен;
остался островом войны.
На этой льдине окаянной
столпились полчища врагов,
посередине океана
кубанских и донских снегов.
Еще фельдфебели на льдине
за выправкой людей следят,
еще согласно дисциплине
спешит к орудию солдат.
Но океан идет все шире,
а остров дальше от земли,
и, самые седые в мире,
их волны смерти замели.
Безвыходно и безотъездно
подмоги ждет полускелет,
рукою зябнущей железный
еще сжимая пистолет.
Еще солдат свершает точно
свой поворот на каблуках,
еще стучит морзянкой срочной
тяжелый «юнкерс» в облаках.
Но позывные глуше, реже,
замерзшими заполнен ров,
и каптенармусы не режут
хлебов у розовых костров.
И знает сумрачная птица,
кружась над мертвыми вдали,
что остров должен опуститься
на дно завьюженной земли.
2
Стоят кресты после сражения
простыми знаками сложения.
Потом кресты берут на плечи,
потом крестами топят печи,
согрев себя, солдаты сами
потом становятся крестами.
А за степями необъятными
выходят вдовы на мосты,
и с распростертыми объятьями
готовы встретить их кресты.
Два дуба
Два дерева растут вблизи Березины,
два дуба двести лет корнями сплетены.
Под их листвой пылит дорога полевая,
скрипит крестьянский воз, их сеном задевая.
Сопутствуя волам, под шумною листвой
пастух выводит здесь мотив наивный свой.
Вот промелькнул возок времен Екатерины, —
знать, девушку в Москву вывозят на смотрины.
Вот с Альпами в глазах проходят в листопад
усатые полки суворовских солдат.
Дубовый ломкий лист засушен и заржавлен,
над ним с пером в руке задумался Державин.
О, зарево Москвы в двенадцатом году!
Два гренадера здесь шатаются в бреду.
Закутались они в дырявые знамена,
где мерзнут на шелку орлы Наполеона.
Как строгие столбы карающей судьбы,
их провожают вдаль безлистые дубы.
Тут коробейник шел, и проносил офеня
письмовник, и букварь, и календарь для чтенья.
И у седых стволов по белизне зимы
подпольщик проезжал, бежавший из тюрьмы.
Тут сходку майскую увидели впервые
и флаги Октября деревья вековые.
Южнее – пролегло широкое шоссе.
Все реже люди шли к их вековой красе.
Седые столяры о тех дубах забыли,
стальные топоры двух братьев не срубили,
к забытому пути из ближнего села
лишь узкая тропа болотами вела.
Тут раннею весной, когда луга клубились,
крестьянский паренек и девушка любились.
И первые ростки проснувшихся дубов
благословляли их апрельскую любовь.
Но лето летовать не довелось любимым, —
за лесом встал пожар, и потянуло дымом,
и орудийный гром потряс дубовый ствол,
и танк с кривым крестом под ветками прошел.
С беспомощных ветвей свисала молча зелень,
у дуба правого любимый был расстрелян,
у дуба левого замучена она.
На вековом стволе кора обожжена.
Сквозь тело в плоть дубов слепые впились пули
и сердцевины их до сока резанули.
Слова, слетевшие с девичьих скорбных губ,
листвою повторил зеленогорбый дуб.
И снова влажный луг порос болотной травкой,
проселок двух дубов стал партизанской явкой,
и раздавался здесь ночами тайный свист,
и пропуском друзьям служил дубовый лист,
и к шепоту друзей прислушивались ветки,
и были на коре условные заметки,
и партизанский нож однажды поутру
любимых имена нарезал на кору…
В осенние дожди и в зимние морозы
за лесом под откос валились паровозы,
и с каской набекрень валялся враг в снегу,
дубовый лист на грудь приколот был врагу.
Не тот дубовый лист, что в Тевтобургской чаще
на Германа слетел, на шлем его блестящий,
не орденский листок Железного креста,
а месть врагу – ножом – сквозь золото листа!
Однажды на заре вновь запылил проселок,
и в ветви залетел и срезал их осколок.
Запело, понеслось над рвущейся листвой,
и рядом третий дуб поднялся – дымовой.
И на седую пыль проселочной дороги
ступил отряд бойцов, запыленных и строгих;
медалями светясь, с ресницами в пыли,
с сияньем на лице они на запад шли.
И два седых ствола с листвой старинной меди
вдруг выросли в пыли воротами к победе,
и ветви поднялись, как триумфальный свод
с незримой надписью: «Сорок четвертый год».
И вздыбила листва коней медно-зеленых,
героев имена горят на двух колоннах,
и девушка с венком и юноша с венком
указывают путь сверкающим клинком —
на запад! И прошли отряды боевые,
и осенили их деревья вековые,
простые, милые, заветные дубы.
Под ними – только дождь – покажутся грибы.
Вновь путник обретет спокойствие ночлега,
и снова проскрипит колхозная телега,
на ветках отдохнет весенний перелет,
любимую свою любимый обоймет
рукой застенчивой с широколистой веткой
под созданной для них природного беседкой,
поэт подымет лист в ноябрьский листопад,
и дрожь звенящих рифм пронзит его до пят,
и песня долетит, и отголоски смеха,
и шепоток листвы смешает с песней эхо,
и голоса людей, и ржание коней
на той родной земле, где не взорвать корней,
где не свалить стволов великого народа,
где дышит, как листва, могучая свобода.
Танк «Маяковский»
Танки, танки, танки… Здравствуй, наша сталь!
Под шатром знамен по мостовой московской
грохотал, и шел, и прогибал асфальт
грузом многих тонн «Владимир Маяковский».
Баса грозный тон под броневою грудью.
Чувствую, что он, – по взгляду, по орудью.
Рев сложился в речь: «Товарищи! Я с вами!
Жив и горд – Советской родины поэт,
что, неся на башне боевое знамя,
двигаюсь, как танк, по улицам побед.
Гвардия стихов теперь в гвардейской части,
в ста боях прошла тяжелая броня.
Мой читатель броневые части
отливал в Магнитогорске для меня.
Рифмами детали мне выковывая,
по эстрадам месяц напролет
мой читатель собирал целковые
мне на сталетвердый переплет…
Тыща километров. Фронтовым зарницам
ни конца, ни края. Орудийный гром.
Здесь я ездил прежде. Знаю заграницу.
Приходилось глазом меряться с врагом.
Разве мне в новинку? Не встречался разве
с воем их газет, со звоном прусских шпор?..
Значит, буду бить по гитлеровской мрази,
как по белой прежде, рифмами в упор!»
Четверо читателей присягу
повторили про себя. И вот —
сам Владим Владимыч по рейхстагу
в свисте пуль осколочными бьет.
Поднят флаг победы. Враг обрушен…
«Рад я, что моя поэзия была
безотказным партии оружьем,
воплотившись в танки, строчки и другие долгие дела…
Расскажите это всем поэтам,
чтобы шибче ход и чтобы тверже ствол!
Чтоб работой, мыслью, песней спетой
праздновать на улице вот этой
коммунизма торжество…»
Под шатром знамен пронесся голос строгий.
И когда отгрохотал знакомый бас,
мы с волненьем повторили строки,
поднимавшие в атаки нас:
«Слово – полководец человечьей силы.
Марш! Чтоб время сзади ядрами рвалось.
К старым дням чтоб ветром относило
только путаницу волос…»
Здравствуй, танк, советской мощи образ!
В день победы и в другие дни
наша гордость – это наша бодрость
и непробиваемая твердость
выкованной родиной брони!
Суд
Бейте, часы, на башнях!
В трепет, убийцы, в трепет!
Пусть на изрытых пашнях
мертвые встанут в цепи.
Пусть от ударов мерных
сгорбится Герман Геринг,
пусть он услышит рокот:
«Проклят, навеки проклят!»
Пусть упадет завеса
с мрачной усмешки Гесса,
пусть наведет улика
огненный перст на Фрика.
Все их дела отметим,
вспомним о всех страданьях!
Это они – Освенцим,
это они – Майданек.
Пусть уличает Круппа
кровь на затылке трупа,
пусть уличают Шахта
дети в залитых шахтах.
Пальцем – на Риббентропа,
пальцем – на Розенберга!
В самую злую пропасть
смерть чтобы их низвергла!
Чтоб не дышали в мире
эти двадцать четыре.
Чтобы о каждом рокот:
«Проклят, навеки проклят!»
Нюрнберг
После войны
После войны на земле,
жившей пять лет в непогоде,
новое – в новой зиме —
вновь настает Новогодье.
Новая – в новом – земля
скинула пыльную каску,
с чистых рубинов Кремля
смыли защитную каску.
Слово! Скорее родись
рифмой к рассветному миру,
будь как полярный радист,
ищущий юг по эфиру.
Жажду бродить по тропе
поисков и раскопок,
глазом ползти по трубе
к капле под микроскопом.
К черновику на столе,
к мысли, открытой однажды.
После войны на земле
нового – новая жажда!
Колос
Шоссе промывая,
проносится дождь навесной.
О, Первое мая,
шумящее нам новизной!
От юга на север
в термометре тянется спирт.
Земля после сева
уже ни секунды не спит.
Из глины воронок,
сквозь след орудийных колес,
прозрачен и тонок
младенческий стебель пророс.
Зерно его было
просмотрено в микроскоп,
и в цвет хлорофилла
оделись мильоны ростков.
Землею нагретой,
азотом и майским ручьем
и химией света
он в колос почти превращен.
На облик растенья
с любовью глядит агроном.
Как много терпенья
легло между ним и зерном!
От солнца Кубани
расплавлена синька небес,
и парни комбайны
обхаживают, как невест.
А девушкам снится
такое, что не рассказать!
Как просит пшеница
поднять ее вновь и связать!
Мечтаешь, подруга,
чтоб около колкой тропы,
упершись друг в друга,
схватились бороться снопы?
И мысль бригадира —
о счастье труда на земле,
о колосе мира,
о рукопожатье в Кремле.
О, первенец – колос!
Крылатые мельницы ждут,
чтоб тонко смололось
зерно, обретенное тут.
И дрожжи стремятся
раздвинуть мучное тепло —
в буханку с румянцем,
что солнце само навело.
Тот колос, который
мы так кропотливо растим,
и в хлеб, и в моторы,
и в здания мы превратим;
и в клумбы живые,
в резные ограды садов,
в листы броневые
для наших линейных судов;
в ракетную скорость
двукрылых гонцов новизны,
и заново в колос
на бороздах новой весны!
Пусть грозы Кубани
салютуют маю с высот,
пусть гром в барабане
отборные зерна трясет!
И дождь во всю скорость
пусть ринется в зелень полос!
Да здравствует колос —
усатый колхозный колосс!
Очередь
Изжевав в слюну слащавую резину,
злобного вранья настукав целый лист,
очередь в Москве за хлебом к магазину
описал заокеанский журналист.
Что скрывать? О недостатках торгов
знает каждый гражданин Москвы.
Эту тему, задыхаясь от восторгов,
для своей статьи избрали вы.
Вы не мастер, мистер! Время зря теряли.
Разве это очередь? Вот я
поведу вас сам. Посмотрим матерьялы.
Это будет ваша лучшая статья.
Свой авто затормозите поскорее.
Каменный пешком пройдите мост.
Вот он – к Третьяковской галерее
вытянулся по Лаврушинскому хвост!
Морщитесь? Не то? Смотрите! У киоска
сотенная очередь обогнула дом.
Спросим: кто последний? Ясно – Маяковского
продают сегодня выпущенный том!
Тоже не годится? Вам неловко
вспоминать, как были дни заострены,
как вставали в очередь за боевой винтовкой
в грозный час защитники страны!
Требуют от вас тузы газет и радио
фактов, что Страну Советов взлихорадило?
Этих фактов нет! Шагаем твердым шагом.
Обернитесь, поглядите: вот —
вдоль по Красной площади зигзагом,
осененная багряным стягом,
череда людей торжественно плывет.
Четверть века в мраморные двери
входят люди по ступенькам вниз,
чтобы Ленину поклясться в вере
в будущее наше, в коммунизм!
Почему ж на ваших щеках багровеют пятна?
Руки в злобе сами сжались в бокс.
Тема не подходит вам? Понятно!
Не похвалит Трумэн, не заплатит босс.
Этого (как говорят в Полтаве)
вам не треба? Не сенсационный матерьял!
Вам хотелось бы, чтоб не хватало хлеба
нашим детям, нашим матерям?
Ну так вот, смотрите, рот разинув!
Жалок ваш бессмысленный навет.
Мистер, повернитесь к магазину:
хлеба вдоволь. Очереди нет!
Читая Ленина
Когда за письменным столом
вы бережно берете
его живой и вечный том
в багряном переплете —
и жизнь ясна, и мысль чиста,
не тронутая тленьем,
с гравюры первого листа
вас будто видит Ленин.
И чудится: он знает все,
что было в эти годы, —
и зарева горящих сел,
и взорванные своды,
и Севастополь, и Донбасс,
и вьюгу в Сталинграде,
и кажется – он видел вас
у Ковпака в отряде…
II хочется сказать ему
о времени суровом,
как побеждали злую тьму
его могучим словом,
как освящало каждый штык
его родное имя,
как стало званье – большевик —
еще непобедимей.
И хочется сказать о том,
как в битве и работе
нам помогал великий том
в багряном переплете,
как Ленин с нами шел вперед
к победе шаг за шагом,
как осенял себя народ
его бессмертным стягом!
Старинный снимок
Старинный снимок помню я —
терраса перед садом
и группа: Маркс, его семья,
товарищи по взглядам.
Их было меньше, чем у нас
сейчас в любой первичной…
На снимке ни знамен, ни масс.
И как-то непривычно…
Зато, – когда плывет портрет
в колонне первомайской, —
и вижу: полон белый свет
товарищами Маркса!
И так их много, что нельзя
найтись такому снимку,
чтоб всех на свете показать
шагающих в обнимку!
И этот кочегар, и тот
молотобоец крепкий,
и Ленин – это он идет
в простой рабочей кепке.
Тут все, решившие навек
в боях, в огне пожарищ,
чтоб в мире слово «человек»
звучало как «товарищ».
Теперь их больше, чем господ
владельцев капитала,
теперь за самый небосвод
их мысль взвиваться стала.
Идут колонной мировой,
чтоб стать по праву рядом
на снимке с Марксом, как его
товарищи по взглядам!
Новые дома
Я шел проспектом Ленина
на новый Юго-Запад;
на скверах разлинеенных
окрепли ветки за год.
Разголубелась оттепель,
и вдоль широких улиц
огромной библиотекой
дома, дома тянулись…
Повсюду шло вселение
и солнцем освещалось,
как будто вся вселенная
сюда перемещалась.
Из тесных, переклеенных
домишек невеселых
в дом на проспекте Ленина
спешили новоселы.
Тут были те, что пенсию
за труд свой заслужили,
и те, что первой песнею
еще апрельской жили.
Всем радостно по-разному…
И среди прочих грузов
и книжный шкаф к парадному
подъехал, став на кузов.
На полках все уместится.
Подсчитано заране.
Идет хозяин лестницей,
несет тома собраний.
Несет легко и молодо,
как на весенний праздник,
тома, где – Ленин – золотом
на переплетах красных.
Я шел проспектом Ленина,
и шла, как теплый ветер,
весна озеленения
всех пустырей на свете!
Так это было жизненно,
и мне весь путь казалось,
что эта полка книжная
домами продолжалась;
что превратились в улицы,
в дома, в любовь и счастье —
тома о революции
и о советской власти.
Отношение к погоде
Солнце шло по небосводу,
синеву разглаживая.
Мы сказали про погоду:
– Так себе… Неважная… —
Ни дымка в небесном зале,
обыщи все небо хоть!
Огорчившись, мы сказали:
– Что ни день, то непогодь! —
Но когда подуло вроде
холодком над улицею,
мы сказали о погоде:
– Ничего, разгуливается! —
А когда пошли в три яруса
облака, ворочаясь,
мы, как дети, рассмеялися:
– Наконец хорошая! —
Дождь ударил по растеньям
яростно и рьяно,
дождь понесся с превышеньем
дождевого плана.
И, промокшая, без зонтика,
под навесом входа
говорила чья-то тетенька:
– Хороша погода! —
А хлеба вбирали капли,
думая: «Молчать ли нам?»
И такой отрадой пахли —
просто замечательно!
И во всем Союзе не было
взгляда недовольного,
когда взрезывала небо
магнийная молния.
Люди в южном санатории
под дождем на пляже
грома порции повторные
требовали даже!
Ветерки пришли и сдунули
все пушинки в небе,
стало ясно: все мы думали
о стране и хлебе.
«Иностранец»
Знаете, где станция
«Площадь Революции»?
Там вот иностранца
я увидал на улице.
Не из тех, которые
ради интереса
шлются к нам конторами
кругосветных рейсов.
Не из тех, что, пользуясь
биржевым затишьем,
ищут вплоть до полюса,
где поэкзотичней.
Мой шагал в дубленой
шубе из овчины,
а глаза влюбленные,
и не без причины!
Смуглотой румянятся
скулы южной крови.
Был мой «иностранец» —
черно —
угле —
бровый!
Он идет, приглядывается
к людям на панели,
видит, как прокладываются
под землей туннели,
видит, как без долларной
ростовщицкой лепты
обгоняем – здорово! —
сроки пятилетки.
И горят глаза его,
потому что чувствует:
это все хозяева
по снегу похрустывают;
это те, что призваны
первые на свете
солнце коммунизма
встретить на рассвете!
Все тебе тут новое,
книги не налгали,
и лицо взволнованное
у тебя, болгарин!
По глазам угадываю
мысль большую эту:
хочешь ты Болгарию
повести к расцвету!
Будущность могучую
родине подаришь!
По такому случаю
руку дай, товарищ!
Сто советских
Стадион в Кортина д'Ампеццо.
Тут нам общей песней не распеться.
Под навесом неба лиловатым —
тут простого люда маловато.
Сотни флагов плещутся на мачтах,
лампионы бьют в каток для матча,
и уселись, в замше, в выдре, в лире,
те, что горести не знали в мире.
А по льду, что жидкой сталью налит,
телом всем наскальзывая на лед
красные и желтые несутся,
и тогда полы трибун трясутся,
и тогда, глазея и зверея,
как на галереях Колизея,
стадион ревет, как в бурю берег,
вскакивает, машет: «Браво, швериг!»
Но недолго длится это «браво»:
в хор вступают на трибуне справа.
Это мы, туристы, сто советских,
мы дружнее избранных и светских.
А за нами – стадион «Динамо»,
миллион болельщиков за нами,
все, кто влазит на столбы и крыши,
все, кто ищет, где видней, где выше,
Гоним шайбу взглядами к воротам,
и очки встают на досках счета!
А за нами, в толпы вырастая,
смотрит стоя публика простая
и стучит в ладони: «Руссо! Браво!» —
вместе с нами на трибуне справа.
Помню…
Помню дни, помню дни дорогие,
помню молодость металлургии.
Помню первый чугун со счастливым
африкански-графитным отливом…
Помню искренность радости, помню
искры строк о построенной домне,
красоту ее помню и смелость,
и другой красоты не хотелось —
только кокса в разгаре и плеска
змей проката и яркого блеска
длинных рельс, по которым поедем
в коммунизм, к нашей полной победе.
Я дивлюсь стародавнему снимку,
той исчезнувшей жизни в обнимку,
тем ночевкам на стульях райкомов,
тем девчонкам, еще незнакомым,
и любви – это ж было любовью,
смехом губ, удивленною бровью,
тем желанным на стройку повесткам,
первой гордости – нашим, советским!
Помню первый объезженный «газик»,
разукрашенный красным, как праздник.
Были мы посчастливее Форда —
краску свежую гладили гордо,
руль вертели и хлопали дверцей
с замиранием в радостном сердце,
и пешком, гололедицей скользкой,
шли глазастой толпой комсомольской…
Помню дни, – никогда не забыть
отзвеневшие в дальних событьях,
но вернуться готовые завтра,
так как это не сказка, а правда.
Пусть вернутся, начнутся скорее,
никогда, никогда не старея!
Пациент
Врач пациенту держит речь:
– Забудьте о заботе.
После обеда надо лечь
без мысли о работе.
Смотрите, никаких целин
и вышек на заводах.
Вам нужен лишь пенициллин,
спокойствие и отдых.
А пациент уже лежит
давно на верхней койке,
и сердце с поездом спешит
в Сибирь, к далекой стройке.
И словно не было и нет
температурной вспышки,
и он уже не пациент,
а человек на вышке.
Эти дни
Это слово без адреса,
это всем на планете!..
Если есть чему радоваться, —
только счастью на свете,
миру, жизни без робости,
без тревоги, что завтра
Землю дымные пропасти
искалечат внезапно…
А Земля ведь красавица
в чистом золоте хлеба,
и горами касается
удивленного неба,
и так правильно вертится,
и покрыта морями,
небеса ее светятся
и другими мирами…
Отовсюду доносятся
мысли нашего века:
пусть нигде одиночество
не гнетет человека!
И должны быть распутаны
споры мирною мерой —
ведь встречаются спутники
над земной атмосферой,
и без злобы соперника,
а как доброму другу,
жмет простая Америка
гостю русскому руку.
Эти дни удивительны!
Видишь, в облаке месяц.
Там лежат наши вымпелы
на задуманном месте.
Мы еще их потрогаем
на далеких планетах
и не скажем с тревогою
о небесных приметах…
Ведь исчерчен дорогами
реактивными воздух,
и уже недотрогами
нам не кажутся звезды.
Никакой високосности
мы страшиться не будем.
Высоко – в высокосмосе —
будет место и людям,
и любви человеческой,
и надеждам, и встречам…
Будет день человечества
нескончаем и вечен.
Пусть, как письма без адреса,
строчки встретятся эти.
Знаю: есть чему радоваться
человеку на свете!
Человек в космосе!
Человек в космосе!
Человек в космосе!
Звездолет вырвался
с неземной скоростью!
У него в корпусе
каждый винт в целости.
Человек в космосе —
это Пик Смелости!
Не за звон золота,
а за мир истинный —
в пустоту холода
он глядит пристально,
он глядит молодо,
человек в космосе,
светит серп с молотом
на его компасе.
Больше нет робости
перед тьмой вечною,
больше нет пропасти
за тропой Млечного,
наверху ждут еще,
мир планет светится,
скоро им в будущем
человек встретится.
Из сопла – проблески
в свет слились полностью.
Как желты тропики!
Как белы полюсы!
Океан выложен
чешуей синею,
а Кавказ вылужен
вековым инеем.
Человек в космосе —
это смерть косности,
это жизнь каждому
с молодой жаждою,
это путь радугой
в голубой области,
это мир надолго
на земном глобусе.
Это жизнь в будущем,
где нам жить велено,
это взгляд юноши
из страны Ленина!
Всех сердец сверенность
на его компасе,
это наш первенец,
человек в космосе!
Земное небо
Я посмотрел на Землю с неба
и увидал, что небо – это
сама Земля в одежде света
и облаках дождя и снега!
Что и оно – земное чудо
и не явилось ниоткуда,
а ею созданы самою
Планетой, Родиной, Землею.
И не на звездах, не на звездах
нам создавали синий воздух, —
полями, травами, лесами —
мы небо вырастили сами!
От первой клетки до секвойи —
степной травой, листвой и хвоей —
мы создавали слой за слоем
вот это небо голубое.
И тот, кто деревце поставил
дышать и жить на белом свете,
тот неба синего прибавил
своей сияющей планете.
Я, на ракете ввысь поднявшись,
тебя увидел наконец-то,
о небо, о творенье наше,
всей жизни на Земле наследство!
Удивленье
На это я готов и сам…
Оставим удивленье людям!
Давайте привыкать не будем
к уже обычным чудесам!
Пусть вызывает изумленье
любой полет и приземленье;
и в комнате, включая свет,
считайте, что включен рассвет.
Улавливая речь в эфире,
свеченье лиц, цветенье роз,
давайте говорить всерьез,
что мы живем в волшебном мире,
что мир творений и явлений
весь состоит из удивлений!
Мы книги тайные прочли
и от неведенья пришли
к мезонам крошечным, и квантам,
и к галактическим гигантам,
и каждый полупроводник —
к пещере сказок проводник!
Не надо позволять глазам
привыкнуть «Отворись, Сезам!»,
когда оно по меньшей мере
без рук распахивает двери.
Не будем привыкать к Луне,
считавшейся оккультной тайной,
к тому, что герб необычайный
лежит у кратера на дне.
И «ах!» не надо подавлять
в себе, товарищ и подруга:
мы встретились, чтоб удивлять
любовью, разумом друг друга.
О, это радостное «О»
из губ, из сердца твоего!
Ведь восклицательные знаки
печатают и на Гознаке
вокруг советского герба,
где мира ясная судьба.
Пусть изумляется Природа,
как удивительна Земля,
когда летят два корабля
с посланцами людского рода
к звезде, что в сумерках плывет…
Кто удивляется – живет!