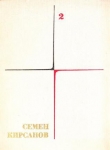Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы

Текст книги "Собрание сочинений. Том 3. Гражданская лирика и поэмы"
Автор книги: Семен Кирсанов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
МАКАР МАЗАЙ
Поэма (1947–1950)
Пролог
Свеж и чист апрель.
Бьют часы на Спасской.
День прошел – и Кремль
облит яркой краской.
Над багрянцем туч
встал Иван Великий,
и не сходит луч
с флага, что на ВЦИКе.
Месяц занял пост
под вечерним сводом.
Москворецкий мост
врос быками в воду.
Старый, бывший мост,
узкий и горбатый.
Кремль еще без звезд.
Год – двадцать девятый.
Звон уже стихал…
И в минуту эту
вдруг два пастуха
вышли к парапету.
Шапки мнут в руках,
удивились сами,
что вокруг – Москва!
Кремль перед глазами!
Я узнал потом,
что в столицу с юга
поезд со скотом
шел, и в нем два друга.
И один из них —
парень из станицы —
в памяти возник,
ожил на странице…
В сумерках потух
день Москвы тогдашней,
и слушает пастух
звон на Спасской башне.
Будто вдаль плывет
на мосту далеком,
и в жизнь его зовет
свет кремлевских окон.
А ему – земляк:
– Что тебя тревожит?
Во дворце Кремля
еще ждут нас, может…
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон.
Свет горел в Кремле.
Шел апрельский Пленум.
Час настал – Земле
мчаться к переменам.
Час настал – скорей
пересесть России
на стальных коней
крупной индустрии
и, меняя строй
всей народной жизни,
стать стальной страной
при социализме.
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон.
Пленум был за то,
чтоб, войдя в артели,
шел народ простой
к величавой цели!
Чтоб в расплаве руд,
у фабричных зарев
превратился труд
в радость всех Мазаев.
Чтоб и жизнь себе
сделать ярче, шире
и поддержать в борьбе
братьев во всем мире!
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон,
где дыханье бурь
проносилось в зале,
где его судьбу
в эти дни решали.
…Он стоял – пастух.
И, как стих пролога,
началась вот тут
в жизнь его дорога.
Четвертый подручный
Небо – синий купол.
Море серебрится.
Город Мариуполь
весь под черепицей.
Крыши, крыши, крыши…
А вдали, повыше,
трубы задымили,
искры над печами,
домны заломили
руки над плечами.
Варят сталь мартены,
горячи их стены,
и летит оттуда
сажа от мазута.
В цехе из-под крышек
пламя так и пышет!
Сталь лежит живая,
взглядом обжигая.
Людям на заводе
горячо живется,
а завод в народе
«Ильичем» зовется.
На заводе этом,
плавками прогретом,
есть один подручный —
с книгой неразлучный.
И об этом парне
шум по сталеварне:
– Шибко очень ходит!
Места не находит.
– Как на него «находит»,
все плохим находит!
– Пристает: «Отстали!
Мало варим стали!»
Мол, трех не хватит этак
полных пятилеток!
Руки в шаровары,
и – заводит первый:
«Думал – сталевары,
а вы, мол, староверы!»
Тешится над нами,
кличет «колдунами».
Неудобно как-то —
паренек без такта.
Но работать может,
дела не отложит,
быстротой поможет.
Лишь кивни – подложит
марганца ли, хрома, —
все ему знакомо!
Среди комсомольцев
он знаток в железе,
с синеньким стекольцем
чуть не в пекло лезет.
Печка – вроде солнца,
пламенем как жахнет!
Смуглый, он смеется,
робости в глазах нет!
С пламенем он в паре,
в копоти, как ворон.
Посмотреть – так парень
сам огнеупорен.
На затылке кепка,
слово скажет – крепко!
Есть грешок: задирист,
в споре – перетянет.
Но где бы ни сходились,
сердцем к себе тянет,
тянет, как магнитом.
И складно говорит он.
Вообще проворный:
– Нормы? Что мне нормы?
Мне бы всей стране бы!
Мне во все бы небо
печку бы построить,
цех переустроить!
С кем-нибудь повыше
мне поговорить бы,
аж до самой крыши
стали наварить бы!
Все в цеху поправить,
молодых направить!..
А частично прав ведь!
В кадрах-то нехватка,
не уйдешь от факта.
Кто такой, каков он?
Слух – из батраков он.
Честный парень, знаем.
Звать его Мазаем.
Что о нем услышим —
полностью опишем.
«Колдун»
Стар и сед
Булатин, сталевар.
Свой секрет —
как в землю зарывал.
– Друг, открой!..—
А он в ответ – молчок.
Вот какой
старинный старичок.
Думать брось,
не подходи – гроза.
В клюкве нос
и с водочкой глаза.
Как старик
вел огневой процесс?
В сотнях книг
об этом не прочесть!
Сед и стар,
колдует в «мартыне».
А вот сталь —
первейшая в стране.
Будто ей
он знает заговор,
будто с ней
имеет договор:
«Я – тебе,
а ты за это – мне…
А теперь
понежусь я в огне.
Торопить
не надо, не терплю,
потерпи,
пока я прокиплю».
Так кипит,
что надо потерпеть!
Аппетит,
видать, у ней – кипеть…
Сед и мал,
заглянет в свой блокнот,
сталь сама
глазком ему мигнет:
«Мне пора,
смотри не прозевай.
В самый раз —
готова! Разливай!»
Хо-ро-ша!
Изгибисто, легко
в глубь ковша
течет, как молоко.
А потом
в прокатный цех, гремя,
вдаль хвостом
пойдет вилять, змея.
Мал собой
и говорок на «о»,
рад седой —
секретик у него:
– Тем секрет,
что в нем запрет, хорош.
Снял запрет,
и от секрета грош.
Есть секрет —
и сталь моя добра.
Делал дед,
и прадед, и прапра…
Прадед – меч
для князя отковал,
вот и с плеч
слетела голова,
чтоб меча
второго, как его,
не встречать
в бою ни у кого!
Дед ковал
рессоры для цариц,
сталь давал
из сыродутных криц,
а отец,
покой его душе,
свой конец
обрел вон в том ковше.
Было встарь…
Имеется рассказ:
прозвал царь
«Булатиными» нас.
За клинок
не пожалел наград!
Мы, сынок,
розмыслили булат…
Пусть на ложь
рассказец-то похож —
не тревожь,
рассказчика не трожь!
Сед и стар,
старик дружил с огнем.
И Макар
подручничал при нем.
Он решил
спросить у старика…
Накрошил
в закрутку табака.
Встал Мазай
и начал говорить.
– Я, – сказал, —
хотел бы сам варить!
Что я, зря
вечерний курс прошел?
Что я, зря
уже во вкус вошел?
Дай, поставь,
горит моя душа —
выдать сталь
из моего ковша.
Жить в огне,
как сталевар, хочу!
Это мне,
Булатин, по плечу.
Но старик
с усами был и сам.
Не привык
к подобным голосам.
– По плечу? —
Булатин говорит. —
От причуд
душа твоя горит.
Что до книг,
то книгой не помочь,
отпихни
ты их скорее прочь!
Вот когда
твой побелеет чуб,
вот тогда
и будет «по плечу».
Дел на грош,
зеленый, а бурлишь.
Печь сожжешь,
а может, закозлишь?
Так да сяк,
недоглядишь – беда!
В яму вся
уйдет твоя бурда.
Ты, мой свет,
обзаведись отцом.
Пусть секрет
отдаст перед концом.
Заруби
на лбу своем, Макар.
Не греби
чужою ложкой жар!
Как золой
посыпан, старый черт!
Скрытный, злой
булатный старичок.
Колдуном
стоит перед огнем,
ходуном
гуляет свет на нем.
И Макар,
зубами засверкав,
ложку в жар
сует для старика!
В новом общежитии
Удалые жители
в новом общежитии!
Только что построено
трестом Юждонстрой оно.
И дом, хоть не фасонистый,
выстроен по совести.
Тут живут товарищи,
от печей поджаристы.
Страстные, вихрастые,
если спор – пристрастные.
Но важно, что не праздные
и песни знают разные.
Всюду – комсомолией
время потороплено.
Стенгазета «Молния»
на степе прикноплена.
Коек десять в комнате.
Было так, вы помните?
Кто уснул – не движется,
а кто читает книжицу
о сталеварении,
как стихотворение.
Кто газетой занялся,
факт серьезный вычитав,
а кто поет, как нанялся,
песню о кирпичиках,
за работой скучною
над заплатой брючного…
Тишина оборвана.
Чем-то недовольная,
входит смена полная,
как команда сборная.
Сели. Робы скинули.
Табуреты сдвинули.
– Кормят разговорами…
Если ждать, то скоро мы
станем черноморами
с бородами длинными! —
Строже брови сдвинули.
– Раз бы нас поставили
на вахту молодежную,
да колдуны поставили
крепость загороженную…
– Написать бы жалобу!
– Верно, не мешало бы.
Власть у нас советская.
Слово скажем веское,
что не подкачаем мы,
честью отвечаем мы…
Кто-то: – Ненадежное
дело молодежное…
– А я, ребята, в ярости!
Новички – до старости?
Взять хотя Мазая бы —
как он сдал экзамены!
– И зря сдавал, дружки мои.
Грузят и без химии!
Раскраснелись спорщики,
доводы их верные.
Это – закоперщики
легкой кавалерии:
– Сталь дают не спелую,
а выводов не делают.
– Сводка говорит о чем?
А что завод убыточен.
План – процентов семьдесят.
Что ж мы? Не рассердимся?
Вредное явление?
– Вредное явление.
Пишем заявление?
– Пишем заявление!
Только лист колышется…
Заявленье пишется.
А кому? А Зайцеву
в парторганизацию.
Пишется уверенно
тем, кому доверено.
Кончили, поправили,
день и год проставили,
подписи поставили
и на лист поставили
вазочку с фигурками…
Спят, прикрывшись куртками
или одеялами,
узкими, линялыми…
Спят. Их не добудишься.
Спят. Их сны о будущем.
Замерли у стен шаги.
Спят, пока их сменщики,
ярким жаром залиты,
у печи, закапанной
шлаком. Они заняты
перекидкой клапанов.
Там – лепешка шлепнулась,
выстрелила звездами.
Там – длиннющим шомполом
злят кипенье грозное.
Там – страда тяжелая
на струе, у желоба,
где стальное золото
в чане ходит кольцами,
где немало пролито
пота комсомольцами
наряду со старыми
сталеварами…
Ничего, товарищи,
ваше дело верное.
В новичках до старости
вам не ждать! Уверен я!
Вот уже райкомовцы
с тем письмом знакомятся,
вслух оно читается,
правильным считается,
а кто с ним не считается,
очень просчитается!
Мастер Боровлев
Цех любимый!
В ночь – пучки лучей.
Гул глубинный
пламенных печей.
В брызгах, в пене
гибкая струя.
Сталь – в кипенье.
Нужная. Своя.
С мыслью этой
через двор и ров
в цех нагретый
входит Боровлев.
Человек он
крупный, пожилой,
с прошлым веком
бился тяжело.
Век что омут
страшный был для нас.
Он-то помнит
фирму «Провиданс».
Помнит стачку
между двух веков,
помнит «тачку»
для меньшевиков,
тяжесть гайки,
что зажал он сам,
и свист нагайки
над лицом, и шрам…
И шапки в воздух —
в Октябре, крича:
– Дать заводу
имя Ильича.
Телом тяжкий,
с легкою душой,
вон – в фуражке,
мастер над ковшом.
Из парткома
вышел. Говорят,
что знаком он
с жалобой ребят…
Плохо варим.
Двор еще пустой.
От аварий
что ни день – простой.
А завод-то
не бельгийский – свой.
Где ж забота,
где любовь, где бой?
Кто ж подложит
страсти в огонек?
Этот, может,
смуглый паренек?
Присмотрись-ка,
стоит предложить…
А жить без риска —
вроде как не жить.
И у пасти
с заревом по край
молвит мастер:
– Слушай-ка, Мазай,
тут Волошин
умудрился слечь.
Не возьмешь ли
на недельку печь?
Двинешь дело —
вырастет и срок.
Где неделя —
там и месяцок.
Ты, я слышал,
план придумал свой?
Случай вышел —
действуй, перестрой.
В деле этом —
нужно – помогу.
Хоть советом,
в общем, чем могу.
Жду успеха.
Будь, Макар, здоров.
И из цеха
вышел Боровлев.
Добр, участлив,
сердце – напрямик.
Старший мастер,
старый большевик…
Крутолобый,
в самой гуще дел —
он особый
к нам подход имел.
Не обидит,
но и не польстит.
Брак увидит —
другу не простит!
– Ну, Макарка, —
голоса ребят, —
с первой варкой,
магарыч с тебя!
Улыбнулся
в белых два ряда.
Подтянулся.
Горд, как никогда!
Цех любимый!
Жизнь все горячей.
Гул глубинный
пламенных печей!
Всех вы краше,
близкие мои,
люди нашей
трудовой семьи!
Сказка о сабле
Как-то в парке вязовом
Пузырев рассказывал,
ножичек показывал —
блеск на нем проскальзывал.
Волос режет лезвие,
верткое и резвое!
– Вот вы, братцы, варите?
А котелком не варите.
Про булаты слышали?
А знать про них не лишнее.
Поглядев на стали те —
просто ахать станете!
Диво! Но теперь они
навсегда потеряны.
Ходит в нашей коннице
сказка о буденновце:
Бил врага он саблею
в смысле веса слабою.
Но в работе – светится,
в рубке – чертом вертится!
С ней герою (верьте – нет)
лишь победа, смерти нет!
Сабелька музейная.
Шла среди князей она.
Века два не портится.
И так дошла до корпуса.
Конь был серый, в яблоках.
Парень – будто писаный.
Вязью вниз по сабельке
вот что было писано:
«Без дела не выхватывай,
без славушки не вкладывай».
Только не загадывай,
что за сплав булатовый.
А Мазай загадывал,
что-то в печь закладывал.
Ложкой сталь выхватывал,
в душу к ней заглядывал!
Дай!
За два года
(срок не очень долог)
у завода
вырос наш поселок.
Тут мы жили
жаждой дел и строек,
как пружины
вскакивали с коек,
и друг друга
поздравляли братски
с углем, с плугом,
с цехом сталинградским;
с виноградом,
что Мичурин срезал;
с водопадом
мощи Днепрогэса;
телеграммой
поздравляли, слали —
с первым граммом
сверхособой стали;
с ярким светом,
с домнами Магнитки…
И об этом
были в клубе читки.
Что ни вечер,
при шарах молочных
в клубе – встречи
молодых рабочих.
Глянешь в угол,
а в читальне клуба —
парень с книгой,
смуглый, белозубый.
Шел он с жаром
толковать с металлом,
«Сталеваром»
прозываться стал он.
С печью в дружбе,
он в огне кумекал!
Шел все глубже
в тайный мир молекул.
Но в накале
дней металлургии
жгли Макара
мысли и другие,
Близость бури
и телеграммах ТАССа…
Хрипнет фюрер
в реве «Спорт-Паласа».
Дни и ночи
дымен звездный купол,
парит, точит,
плавит фирма Круппа…
Всё мы знали,
жили не в тумане.
Так – в Макаре
крепло пониманье:
Не обгоним —
нас сомнут, затопят,
черных конниц
нас затопчет топот!
Втащат в петли
к фирмам иностранным,
сами если
с талью мы не станем.
«Сталью станем!»
Эта мысль, пронзая,
там, в читальне,
вдруг вошла в Мазая.
Так мы жили
с мыслью о металле,
так дружили,
и дружбе – так мечтали.
Так листали
заголовки в «Правде»:
«Больше стали,
металлурги, плавьте!»
И усталость
сразу с плеч слетала!
«Дай! – казалось,
Родина шептала: —
Больше стали,
да получше, дай нам
на детали
тракторам, комбайнам!
Знай, без стали
не пахать весною.
Хлеб не встанет
золотой стеною!
Дай на трубы
Грозному и Эмбе —
нефть качнуть бы
в небывалом темпе!
Дай скорее
для электростанций,
пусть светлее
станет быт крестьянский!
Дай, как другу,
и ночь борьбы бессонной
нож хирургу
в операционной!
На моторы
дай для самолетов,
на повторы
дальних перелетов!
Дай поэту
с рифмой в поединке —
сталь для этой
пишущей машинки!
Дай для прессов,
жмущих сильной лапой!
Дай для веса
орудийных залпов!
Дай России
тонны трудовые
на листы и
башни броневые!
И на толщи
Т 34 —
дай побольше
ради мира в мире!
Верим, сваришь,
дашь родному краю…»
«Дам, товарищ!» —
думалось Мазаю.
В смене каждой
вверх его взметала
страсть и жажда
творчества металла!
Зависть
Осень тридцать пятого
солнце в тучах спрятала.
Лужи в Мариуполе
от галош захлюпали.
Ветер рвется издали
к глинистым окраинам.
Море – сине-сизое,
будто сталь с окалиной.
Дождик на строения
льется мелко сеянный,
а вот настроение
вовсе не осеннее.
В Сартане на улицах
листья лип балуются,
долетают до неба
в переулке Доменном,
мчатся мимо домика,
где сидят хозяева —
сам Макар и тоненькая
Марфушка Мазаева.
Чем, какою жаждою
сердце взбудоражено?
Новостью какой оно
обеспокоено?
Ничего не молвит он,
только сердце молотом
бьет, сверлом вгрызается,
завистью терзается.
Завистью? Вот именно!
Что не здесь, а около,
на «Центральной-Ирмино»,
началось, загрохало!
Был бы там – увидел бы,
как, куски откалывая,
сто две тонны вырубил
молоток Стаханова!
Сто две тонны! Здорово!
Гром! Рекорд Бусыгина.
Так что жажды нового
много стало, видимо!
Будто спичка к хворосту,
к сердцу эти новости.
Мчится с новой скоростью
поезд кривоносовский.
Гром! Страну обрадовали
обе Виноградовы…
Дальше, в завтра, в будущее
кличут эти новости!
Лишь у печек тут – еще
годы девяностые…
Что ж Макар придумал?
«Мой мартен в поду мал.
Плоскодонный он».
Так Макар подумал.
А что придумал он?
А он придумал вот что:
не касаясь стен,
по расчетам, точно,
углубить мартен.
«Мой мартен не ёмок.
Сталь ему по грудь.
Надо и в проёмах
придумать что-нибудь…»
И он придумал вот как
класть огнеупор:
чтоб до подбородка,
вот до этих пор…
«Мой мартен не бог весть!
Плавит не спеша.
В сутки – плавки по две.
Мало – два ковша».
И ходит он угрюмый.
Молча. Рот зашил.
Что ж Макар придумал?
Что же он решил?
«А если мы подгоним,
а если мы решим
сделать напряженней
тепловой режим?
А поднажмем, посмотрим.
Если приналечь —
вроде плавки по три
в сутки выдаст печь.
А сейчас начну, мол,
взвешивать металл».
Сел Мазай. Подумал.
Взял и подсчитал:
«Три плюс пять… да трижды.
Ноль в уме… Потом
плюс… И вышло, – ишь ты! —
двести сорок тонн!
А если в месяц взвесить
плавки на весах,
дашь семь тысяч двести,
печь, моя краса!
А если на двенадцать
помножить эти семь?
А если встать да взяться
не одному, а всем?
А если на Урале
в добрый спор со мной
встанут сталевары
к плавке скоростной?
И эту прибыль тоже
надо подсчитать».
Ночь. Макар, все множит
и не может спать.
И он себе представил,
будто эшелон
он на путь поставил —
весом в миллион!
Эшелон с металлом:
на Донбассе – хвост,
а паровоз – достал он
подмосковный пост!
И вот Москва выходит,
близкая, как мать:
этот груз, выходит,
будем принимать?
И целует смачно!
– Сын ты мой родной!
Прибыл с семизначной
цифрой в накладной!
«Сколько ж это выйдет
рельсовых полос,
сколько можно выдать
поршней и колес;
мощных транспортеров,
запасных частей,
авиамоторов
высших скоростей;
танков-великанов
новых образцов,
и прокатных станов,
и стальных резцов;
и еще мартенов
заревами вдаль,
чтоб текла бессменно
сталь, и сталь, и сталь?..
И тогда пойду, мол,
в Кремль и лично сам —
все, что я придумал,
под расписку сдам!»
Плавка
Лоб Макар нахмурил,
зубы сжал со скрипом.
Сталь, как море в бурю,
ходит крупным кипом.
До плеча залезла
в жар ручища крана,
в печку – горсть железа
кинула сверх плана.
Как железо тает,
пламенем объято,
смотрят и мечтают
смуглые ребята.
А о чем мечтанье?
А о плавке новой,
о таком металле —
мир не знал какого!
О Мазае-друге,
о его победе,
чтобы всех на юге
обогнал соседей!
То один к Мазаю,
то другой подходит.
Мол, не замерзаем,
плавка нам подходит.
Печь играет светом,
а к нему – с советом —
то второй, то третий.
Печка зноем пышет.
А он советы эти
в свой блокнотик пишет.
В ярких брызгах солнца
кружится, несется
маскарад, веселье,
свадьба, новоселье!
Закружись, пыланье!
Тут идет гулянье
множества мильонов
мчащихся по пеклу
жаром оживленных,
пляшущих молекул.
Вот они танцуют,
вот ведут к венцу их.
Жизнь в огне, в пожаре.
Славно новоселам!
Феррум пляшет в паре
с марганцем веселым.
Чистый хром запутав
в толпах лилипутов,
сколько их налезло,
карликов железа!
Нет конца веселью,
серу гонят в шею,
радостно частицам
в бег за ней пуститься —
ярким хороводом,
вместе с углеродом
брызгами, грибками,
просто пузырьками.
И на эти пары,
и на изгнанье серы
смотрят сталевары,
будто Гулливеры!
Перед ними окна —
солнцеяркий глянец.
В синие их стекла
виден каждый танец.
Брызжет синей краской
пляска через край,
и над этой сказкой —
властелин Мазай!
Народный комиссар
Вижу я, как будто
карта на стене:
реки, горы, бухты,
те, что есть в стране.
Села и станицы,
полевая тишь.
Города, столицы
с тысячами крыш.
В трех районах карты
рельс густая сеть.
Уголки, квадраты —
медь, железо, нефть.
А кружки в просторах
карты на стене —
города, которых
нет еще в стране.
Чертежи – в конторах.
Домен ждет руда.
И шлет ЦК парторгов
в эти города.
Карта! Контур жизни
завтрашней – вчерне,
и вот Орджоникидзе
подошел к стене.
Тронул выключатель,
верхний свет зажег.
И поправил кстати
у Баку флажок.
Керчь с заботой тронул
человек, о ком
говорят: «С мильоном
он людей знаком».
Смотрит, улыбаясь
в сталь своих усов:
Ейск, Коса Кривая,
Таганрог, Азов…
Плавни, край озерный,
сельдь вдоль берегов…
И взгляд на кубик черный
перевел Серго.
Против ейских плавней
кубик этот вот —
славный стародавний
сталевар-завод.
Важный, стариковский,
по годам и честь…
Но какой таковский
там парнишка есть?
Озорной, упорный,
комсомольский нрав.
А говорят: «Не в норме».
А говорят: «Не прав».
Требует, тревожит,
синеглаз, вихраст.
А про него: «Не сможет».
А про него: «Не даст».
Он: «Утроить можно!»
Непокорен. Смел.
Но инженер: «А мощность?»
Мастер: «А предел?»
Он: «С пределов слазьте!»
И – как печь в огне,
кубик в южной части
карты на стене.
И нельзя той карты
от Серго закрыть: —
Наши кадры – клады,
только знай, где рыть!
Что у вас в газете
сводки, то и знай?
А слышали: на свете
есть такой – Мазай?
Ин-те-рес-ный случай.
Не слыхали? Жаль.
А посмотрели б лучше,
как он варит сталь.
Очень смелый малый.
Двадцать пять годов.
Поездом? Пожалуй…
Но… самолет готов!
И винт запущен! Катит!
Под кабиной – луг.
И спешит по карте
тень крыла на юг.
Рев мотора… Скоро
южные края.
Нас два репортера,
консультант и я.
Тучи к нам – буграми,
как обвалы с гор.
Ночью телеграммой
поднял нас Серго,
Все узнал как будто,
глядя на металл,
на рассвете утром
сам в цеху стоял.
Дни эпохи плавя,
много раз Серго
сам смотрел на пламя
в синее стекло.
И в приливах сизых,
чуть не жгущих бровь,
глаз Орджоникидзе
видел нашу новь.
Люди шли на вахту,
молот падал вниз,
диаграммы, факты,
люди, цифры, жизнь —
все вставало рядом
в мысль большевика,
чтобы стать докладом
Пленуму ЦК.
…Небо – синий купол.
На оконцах лед.
Курс на Мариуполь
держит самолет.
Родина
Два крыла с кабиною —
над землей любимою…
Проплываешь, Родина,
в музыке пропеллерной…
День, тобою пройденный, —
путь, и мной проделанный!
Всюду, где ни хожено,
шел твоей дорогою,
ты была встревожена —
я вставал с тревогою!
Крепла ты – уверенней
я шагал по улицам.
Открывала двери мне,
запретив сутулиться.
Строчкой, каплей каждою,
что из сердца точится —
жил твоею жаждою
поиска и творчества.
Радовался выставке,
ордену колхозницы,
украинской вышивке,
славе нашей конницы,
любовался мощною
на Днепре турбиною…
И ты ко мне – хорошую
привела, любимую.
Всюду, где б ни ездил я,
имя твое названо.
Жизнь, любовь, поэзия —
все тебе обязано.
А когда Мазая ты
у печи заметила,
той же мыслью занятый,
сталевара встретил я.
И в среде товарищей
я – любовь к тебе мою —
видел подрастающей
будущей поэмою!
У инженера
Резкий ветер.
Шум азовской шири.
Окна светят
в городской квартире.
В фразах горечь
искренних признаний:
– Петр Егорыч…
Не хватает знаний!
Связан, скован.
Третий день – осечки.
Плавка снова
засиделась в печке.
Совесть гложет,
день – и поседею…
Бросить, может,
всю мою затею?
Чушь – новатор
при одной смекалке!
Кривоваты
линии на кальке…
Чай отставил
инженер курчавый.
– Вы не правы. —
Затянулся «Явой».
– Тот ошибок
мог бы не наделать,
кто решил бы
ни черта не делать!
Разве счастье —
жить на всем готовом,
а не в страсти —
обжигаться новым?
План ваш верен:
плавки скоростные, —
я уверен, —
клад для индустрии!
Вашей сметке
придадим мы форму:
образ четкий
схем и точных формул —
площадь пода,
время, жар режима,
прочность свода,
веру и решимость!
В график вправим
прихоти реакций
и заставим
печку – постараться!
Друг отважный!
Ваш почин так важен,
что багаж мой
почитайте – вашим,
В нафталине,
что ли, прятать знанья?
Это – ныне
и мое заданье!
Так что ясно?
Сникли сгоряча вы…
– Рассмеялся
инженер курчавый.
Дунул в фортку
ветерок азовский —
свежий, верткий,
с запахом известки…
– Я за ветер,
свежий и тревожный!
Взять рейсфедер!
Стать за стол чертежный!
И с барьером
навсегда покончим —
между инженером
и рабочим!
Мариуполь
спит под черепицей
круглой, крупной…
Лишь двоим не спится.
Резкий ветер.
Ночь. Часа четыре.
Окна светят
в городской квартире…
Сто четыре тонны!
Телефон в конторе
сутки тараторит.
Вся дрожит от звона
грудка телефона.
Раньше по неделе
в трубке не гудели.
Не звенел, не тинькал
телефон, и часто
мостик-паутинка
у звонков качался.
А сейчас из главка:
– Что идет? – Заправка.
Раньше редко-редко
цоканье контактов,
а сейчас – директор,
и за ним – редактор,
и опять из главка:
– Как проходит плавка? —
Вдруг звонят из ТАССа:
– Срочно, что с Мазаем?
Мы в теченье часа
ничего не знаем!
Мы же ТАСС, поймите!
– Да-с? Повремените.
В тесноте конторы
связи ждут спецкоры.
Тесно им, как в ступке.
К трубке, к черной трубке,
на скамью влезая,
диктовать Мазая,
я тянусь: – Сто строчек!
Стихотворный очерк.
Срочно ведь! Отправьте
«Комсомольской правде»! —
Трудно телефону:
вызов раз за разом!
Смотрит удивленно
диском многоглазым.
Провод синь рассвета
тянет нитью тонкой.
А в Москве газета
вышла только-только.
Буквами чернея,
влажная от клея,
тоже рассветает
на стене, и тут же
стал народ, читает
по дороге к службе.
Обсуждают люди:
– Знать, победа будет.
– С виду парень гордый.
– Что ни день – рекорды!
– Он других потянет.
– А других другие.
– Вот и жарче станет
жизнь в металлургии.
– А он, глядите, молод!
– А вот его бригада!
– И нам на «Серп и молот»,
вот такого б надо!
Шли на службу люди.
Луч зарю расплавил.
И мысль насчет орудий
командир прибавил.
А телефон в конторе
снова тараторит.
Скачут буквы диска,
и телефонистка
в доску, будто в соты,
тычет провод сотый.
Срочно! В адрес главка.
Скоростная плавка.
Сто четыре тонны!
Опроверг законы,
опрокинул нормы!..
И мчатся электроны
в провод телефонный:
– Сто четыре тонны!..
– Сто четыре тонны!..
Рождается сталь
В цехе номер два
печь «девятка» пышет!
Жар. Жива едва,
стонет. Тяжко дышит.
Дрожь ее трясет.
Выкипает шлаком.
Тысяча шестьсот
градусов! И с гаком.
Из-под крышек свет.
Ливни звезд. Стожары.
Посторонних нет,
только сталевары.
Крышки трех оконц
вот-вот загорятся.
С трех затмений солнц
Льют протуберанцы!
Полыхает, жжет…
Сотворенье мира!
А бригада ждет
знаков бригадира.
Он очки протер.
Стал в средине цеха.
Подошел парторг,
пожелал успеха.
Старики пришли —
Пузырев, Булатин.
В этакой тиши
в первый раз бывать им!
Он – свои часы
положил на руку.
Стрелка в них частит
бегуном по кругу.
Даст или не даст
новый съем рекордный?
Крепко ль держит власть
над стихией гордой?
А Макар Мазай
печке по секрету
говорит: – Не сдай.
Выдай плавку эту.
Печь: – Мне горячо.
Невозможно. Сдам я. —
Он: – Терпи еще.
Не такое ж пламя.
Пробу дай. – А печь:
– Жарко. Жидкий кремний
начинает жечь… —
Он: – Терпи. Не время.
Печь: – Открой теплу
выход. Душно всюду…
Видишь, как киплю… —
Он: – Кипи. – Печь: – Буду,
Только сбавь тепло. —
Он: – Еще поваришь. —
Печь: – Течет стекло. —
Он: – Терпи, товарищ.
Вдумайся – стране
сталь нужна! – Печь: – Знаю,
но есть границы мне!.. —
Он: – Их нет Мазаю.
Печь: – Возьми тогда
справочник по нормам. —
Он: – А я видал
«молнию» наркома.
Сказано: дерзай,
добивай рутину! —
А печь: – Остынь, Мазай… —
Оп: – А не остыну!
Печь: – Профессора
пишут о запретах… —
Он: – Уже стара
и наука эта.
Если новый мир
строить нам досталось,
и науку мы
«разогреем» малость!
Печь: – Подтаял свод
жижей стеклянистой.
Чувствую – вот-вот
рухну! – Он: – Ты выстой.
Печь: – Сливай. – Он: – Плавь
полчаса. – Печь: – Много. —
Он: – Терпи. – Печь: – Сбавь,
завалюсь, тревога!
Он: – Поджога нет.
Это от испуга.
Сколько уже лет
знаем мы друг друга.
Печь: – Спеши! Видал
радугу окалин?
Торопись! Металл
чист уже, нормален.
Только б подстеречь
миг, когда родится… —
Улыбнулась, печь,
всем печам царица!
В глубине – заря.
Луч из сизой тучи.
И крикнули: – Пора! —
четверо подручных.
И Макар стекло
приближает к глазу,
Иссиня-светло
стало в печке сразу.
Там, на простыне,
радуясь спросонок,
нежась на спине, —
солнечный ребенок;
весела, пригожа,
в люльке с кружевами —
сталь играет, лежа,
белыми шарами.
Хоть руками тронь —
никакого жженья!
Празднует огонь
день ее рожденья.
Синь наивных глаз.
Солнце на рассвете.
Радость! Родилась
лучшая на свете.
Радость эта есть.
Вы ее поймете.
– Эй, там, на струе.
– Эй, там, на пролете!
Пробивай давай!
Цех в звонках и гуле.
И вздохнул Мазай,
и вокруг вздохнули
косари, жнецы
на равнинах тихих,
в кузнях – кузнецы,
у станков – ткачихи,
Сразу отлегло
от сердец заводов.
А сталь текла легко,
плавно и свободно.
Съем – пятнадцать тонн
с метра пода! Ровно!
А сталь напором солнц
шла из выпускного.
И Макар стоит
у канавы, в искрах.
Толстый жгут струи
греет лоб: так близко.
Бликов пересверк,
и обычно, просто, —
подтянулся вверх
ковш на двух «вопросах».
Потянулся – плыть
на подвесах крана,
с головы поить
черных истуканов.
Солнцем их по край
поит он и кормит.
И глядит Мазай,
как краснеют формы.
А в душе, светясь,
тихнут, гаснут вспышки…
Это страсть сейчас
просит передышки.
Зашагал, и вот —
говор, шутка, песня.
Молодежь его
окружила тесно.
*
С детства эта страсть
нам пружинит руки:
постругать, припасть
к стеклышку науки,
попилить, прибить
молоточком гвоздик,
в играх – полюбить
детский паровозик.
А вырос – поезд твой
к небу дым взвивает,
и молот паровой
сваи в дно вбивает!
Одного душа
рвется к добрым бревнам —
стружкой обшуршать,
обтесать любовно.
А другому жизнь —
доводить влюбленно
точность линз и призм
к тысячной микрона,
Любит полевод
шум и ширь пшеницы,
и любви его —
никакой границы!
А вот я влюблен
в пыл газетной гонки,
в мчащийся рулон
ротационки!
А строитель пьян
радостью глубокой,
когда тащит кран
груз бетонных блоков
и когда окно,
сам вставлял которое,
вдруг освещено
и закрыто шторою.
Труд, отца чудес,
друг, ты чтишь и любишь,
Видишь: нету здесь
бедняков и рубищ.
Клумбами цветут
бывшие трущобы…
Друг, скажи, свой труд
любишь ты? – Еще бы!
Любишь ты свою
в дар за труд тяжелый
чудо-сталь – струю,
что нагнулась в желоб;
что, как водопад,
сбрасывает пену, —
свой рабочий вклад,
сделанный за смену.
Ты вложил в страну
мысль, желанье, пламя, —
пусть войдут в одну
сводку цифр Госплана.
Выведет перо
вклад немалый этот,
и в Политбюро
лишний ковш заметят.
«Принимаем вызов!»
Репортер-фотограф
тает от восторгов!
Группа, ну и группа,
пять героев – крупно!
Фон – огонь в мартенах,
жанровая сцена.
– Вы, Макар Никитич,
так, слегка откиньтесь,
а вы – немного к краю.
Тишина… Снимаю! —
Вид великолепен,
хоть пиши их Репин!
Но не ради смеха
и не для перекурки —
в дверь второго цеха
входят металлурги.
Лист перед Макаром,
вызов – сталеварам.
Он перо макает,
а хлопцы помогают:
«…Я, Мазай, с друзьями
шлю с душевным жаром —
потягаться с нами —
вызов сталеварам!
Кто даст больше стали
с метра пода печи?..»
Сталевары встали,
развернули плечи.
– Кто даст больше? Знаем.
Мы дадим – с Мазаем. —
Подпалило щеки
им па огнепеке.
Зубы? Зубы эти
ночью сами светят!
Боровлев – доволен:
парень, не подвел он.
А Мазай – как статен!
Ну, не цех, а съемка.
– К нам иди, Булатин,
снимемся вдвоем-ка.
Становись, старинка.
Что? В глазу соринка? —
Молодой ли, старый —
дружат сталевары.
А старый чуть не плачет,
понимай – что значит:
– Вот блокнот с секретом,
Жизнь в блокноте этом!
Я свои составы
вам, сынки, оставил. —
И взор Макара жарок:
– Взял – стране подарок!
Нет у нас секретов
от Страны Советов.
Зажимать да прятать —
нет такой манеры.
Мы – народ богатый,
сплошь миллионеры!
Что сверх нормы сварим —
как мильон подарим! —
И ребята: – Точно!
Что ни слово, точно
уголь из горнила.
Придвигай чернила!
А у печей Урала
так же группа встала,
и на Запорожье
обсуждают то же.
Стайкой полетели
сводки, бюллетени,
молнии, конверты,
и главное – ответы,
словно взлеты сизых
почтарей с карнизов:
– Принимаем вызов!
– Принимаем вызов!
Эпизод с подковой
Тучи шли лавиной,
стороной.
Шел Макар с любимой
в выходной.
Очень тих и ласков
был Макар,
детскую коляску
он толкал.
Сын сложил ресницы,
занят сном.
Может, сыну снится
сом с усом?
И взгляд отец косил
на колесо,
чтобы сына сильно
не трясло.
Плыли в синь поодаль
журавли.
Вдруг подкову поднял
он с земли.
– Ты ее на счастье?
– Что ты! Нет.
Выброшу сейчас я
сей предмет.
– Значит, не на счастье…
Вот каков!
– А вдруг оно мещанство,
сбор подков?
– Я уже не верю,
любишь ли. —
Мимо них по скверу
люди шли.
Люди шли со смены.
Бросят взор —
чувствуют: семейный
разговор.
– Ну и что – что люди!
Счастья жаль…
Ты меня не любишь,
любишь сталь,
Молвит без запала
ей Макар:
– Скверный сорт металла.
Не товар.
Дрянь, поверь на слово,
не со зла!
Кой-кого подкова
подвела.
Трещинки, просветы,
вроде сот.
Нет, для счастья это —
сорт не тот.
Нет, на счастье лучше
я сварю
бурную, кипучую
сталь свою.
Примесь в лаву плеска
кину сам.
Ей – души советской
силу дам!
Жаркую лавину
в формы влив,
ей – пера павлина
дам отлив.
Это сталь, которая
подойдет
и на два мотора
в самолет;
и еще как средство,
может быть,
чтоб два наших сердца
не разбить.
Ведь от бомб глубинных
бронь трещит!
А сталь для всех любимых —
прочный щит.
У фонтана встали
в брызгах струй.
– Так что к этой стали
ты ревнуй.
Мы с ней очень спелись
с сентября.
Но… нет других соперниц
у тебя.
Он на сына бровью
показал,
и встретились с любовью
их глаза.
Наклонил он с лаской
ниже взгляд
и повез коляску
дальше в сад.
В ней – товарищ новый,
мил и мал.
Эпизод с подковой
он проспал.
Сон Мазая
Все как будто планово!
У окна прохладного
и синь вагона спального
светит ландыш ламповый.
Скоро ль снова тронется?
Не пора ль укачивать?
Нет, велит бессонница
руку облокачивать.
То ее под голову,
то под бок устраивает.
А ход состава скорого
гул колес утраивает…
Бронза с красным деревом
Век – в вагоне бронзовый.
А поезд мчится к северу,
к рощицам березовым.
Занят он погонею,
и Макару слышится,
как шасси вагонное
говорит и дышит все:
«Собраны мы в Сормове,
буфера с рессорами,
сталь у нас надежная,
железнодорожная…
Из ремонта осенью
оси мы с колесами…
А мы – осям защитники,
прочные подшипники,
нам везти поручено
сталевара лучшего…»
Отошла бессонница,
лоб к подушке клонится.
Семафор сторонится,
и строй колес бесчисленных
друг за дружкой гонится,
но догнать немыслимо.
Тянут вдаль излучины
рельсы неразлучные,
ими песни лучшие
с музыкой разучены.
Повторяют шатуны
их слова: «Мы катаны,
катаны, прокатаны
мастерами знатными,
станами прокатными,
накрепко подтянуты
и к Москве протянуты…
Мчатся перелесками
прямо к Павелецкому!
Мрак усыпан блестками,
и сон увидеть есть кому…»
*
Чудится Макару
странный, синий сон.
Шаг по тротуару
будто сделал он
и вошел под утро
в раннюю Москву,
и очутился будто
вновь на томмосту,
От зари багровой
гаснут искры звезд.
Рядом строят новый
небывалый мост.
Никого народа…
Как свинец река…
В Спасские ворота,
в Кремль идет Макар.
Постовой у входа
в глубине ворот.
С подписью и фото
пропуск он берет.
Кубики в петлицах,
снайперский значок,
а зрачки в ресницах
те же… Землячок!
Как же не припомнить!
Точно! Он – пастух,
друг в зеленой форме,
в Спасских на посту.
– Здравствуй, дай вглядеться,
обними, узнай,
друг, товарищ детства! —
закричал Мазай.
Но Москва не верит
и глазам, пока
точно не проверит:
«Кто, откуда, как?»
Медленно читает
пропуск постовой.
То мелькнет, то тает
тень на мостовой.
Отдал пропуск жаркой,
но чужой рукой.
– Нет, – сказал он. – Жалко,
но вы – Мазай другой.
Тот – пропал без вести,
тот – другой Макар.
А вы – стране известный,
знатный сталевар…
Будто день вчерашний
выглянул опять.
Стрелки Спасской башни
закружились вспять —
в пыль и в скрип тележный,
к бычьему ярму,
к жизни безночлежной,
к батраку, к тому…
Просто сходство, случай…
Но постой! Открой —
ты-то, друг, послушай,
разве не другой?
Разве наш вчерашний
день не стал другим?
…И часы на башне
заиграли гимн.
А он пробился взглядом
земляку в глаза:
– Друг, в двадцать девятом,
помнишь, – ты сказал:
«Что тебя тревожит?
Счастье на земле?
Ждут еще, быть может,
и тебя – в Кремле…»
Распахнул объятья
узнанный земляк,
и друзья, как братья,
обнялись, и – как!
Тихнет отдаленно
Спасской башни звон.
В глубине вагона
затихает: сон.
*
А по мосту надежному
железнодорожному
поезд путь простукивает,
фермам на мосту кивает,
но только с моста сходит он,
скорый темп находит он.
Поезд перелесками
мчится к Павелецкому!
К древней белокаменной,
к новой флагопламенной,
что растет, не старится,
с буквой «М» на станциях,
с звездами над городом,
с кремлеглавым золотом,
с песнями, с поэтами,
с жизнью всей – по-новому,
с парком, с эстафетами
по кольцу Садовому,
с площадями милыми,
с корпусами А и Б,
с шелкоалюминьевым
стратостатом на небе,
с первой волжской палубой
утром на Москве-реке,
с перелетом Чкалова,
с молодежью за руки,
в круг расхороводенный —
словом, к сердцу Родины,
где эпоха строится,
где дороги сходятся,
где в воротах Троицких
и Мазай находится…
Восьмой чрезвычайный
Съезд Советов. Съезд,
будто море, бурный.
Восклицанья с мест.
Гул перед трибуной.
Если встанешь ты
над стихией мощной,
здесь от высоты
растеряться можно.
Но с нее видней
на стороны четыре
горизонты дней
будущего в мире.
Море лиц и рук
стало волноваться,
и прокатился вдруг
новый вал оваций!
Здесь – весь цвет страны.
Здесь – товарищ Сталин.
Ленин! У стены,
здесь – на пьедестале.
Основной Закон —
главный пункт повестки.
И все звенит звонком
староста советский.
Радость! Шторм такой
не уймешь и за ночь.
Но тишь навел рукой
Михаил Иваныч.
Здесь на этот раз
даже тесновато.
Здесь рабочий класс.
Скоростник, новатор.
Здесь советский люд,
деловой, серьезный.
И, конечно, тут
цвет семьи колхозной.
С портупеей вкось,
радостен и молод,
здесь и Комсомольск —
на Амуре город.
Мрамор. Ровный свет.
Строгость гладких кресел.
Но Съезд, как человек,
то суров, то весел.
Он то восхищен,
то смотрит строгим взором.
Шутку бросишь – он
рассмеется хором.
Съезд, как человек,
и в делах без шуток.
Выбранный от всех,
он участлив, чуток,
видит каждый ряд,
точно примечает —
что за делегат
слово получает,
и во все глаза
смотрит с кресла, с места,
как стоит Мазай
на трибуне Съезда:
«Высказать бы все:
кто, чей сын, откуда.
Боль бедняцких сел.
Детство. Дальний хутор,
где его кулак
злой издевкой донял.
Но… может, он не так?
Может, Съезд не понял:
юность без крыльца,
дым сожженной хаты,
день, когда отца
зарубили гады.
…Что ж я начал вдруг
о детстве невеселом?»
Но Съезд как лучший друг:
понимает все он.
Под кругами люстр
светел зал громадный.
Съезд подумал: «Пусть
выскажется. Ладно.
Славный паренек, —
думается Съезду, —
много перенес,
не под силу детству…
Но ты, брат, не ослаб,
только стал упрямей.
Из кулацких лап
вырвался, как пламя!
У тебя черты
прямоты народной.
А я, брат, сам, как ты,
с Октября – свободный.
Не бойся ничего.
Первым делом – смелость».
И обнять его
Съезду захотелось:
«Вот ты, брат, какой…»
Но застыли губы.
И Макар рукой
вбок провел по чубу.
Прядь как темный шелк,
отыскать бы слово…
Ищет. Есть! Нашел!
Продолжает снова,
как он сильным стал
при советской власти,
как он варит сталь
Родине на счастье;
как он стал дружить
с книгой в Комсомоле
и понял: жить – так жить,
не кой-как, а вволю;
и если сталь варить,
так варить на славу!
Что и говорить?
Все это по праву.
А Съезд: «Да, ты рожден
для борьбы, для риска.
Видишь, как зажжен
страстью большевистской!
Рад пожать бы я
руку металлургу.
Виден у тебя
партбилет сквозь куртку.
И на сердце, знать,
набралось сказать что…»
А тот откинул прядь
(от отца – казачья).
Посмотрел на нас…
Понял Съезд по жесту:
важное сейчас
он откроет Съезду:
– Для страны не жаль
ни труда, ни крови.
Для чего нам сталь?
А для строек новых,
для добычи руд,
для турбин могучих,
чтобы жизнь и труд
сделать втрое лучше;
чтобы стлалась степь —
без пустынных пятен,
чтоб насущный хлеб
даже… стал бесплатен.
Но для чего нам сталь, —
вдруг спросил он строго, —
если враг бы встал
у нашего порога?
И Съезд сказал себе:
«Этот пост не бросит.
В схватке, ослабев,
пощады не попросит».
А Мазай: – Могу
дать ответ короткий:
Мы зальем врагу
жидкой сталью глотки!
Так сказал, что звон
с эхом перекатов!
И кто-то вышел вон
из ложи дипломатов.
И стоял Мазай
в зале, в общем гуле,
и его глаза
в счастье потонули.
…Здесь был утвержден
и всем светом узнан
Основной Закон
Советского Союза.
Поиски и находка
Снова печь пылает,
снова сталь гуляет,
снова пляшет резво
с марганцем железо,
и в желоб льется снова
сталь из выпускного.
Грузят шихту краны
длинными руками,
и смотрят великаны
в жаркие вулканы
смелыми зрачками
с синими очками.
Посмотреть – так все тут
в Мариуполь едут,
изучить вот этот
знаменитый метод.
И стоят с Макаром:
– Покажи, товарищ,
как, каким макаром
так ты быстро варишь? —
Смотрят на заправку
и стоят всю плавку,
но они Макару
тоже дали жару!
Печь гудит, трясется.
Из окон – три солнца.
Сталевар Аносов
поднял ряд вопросов:
– Ну, а как с износом?
Бел твой свод, не розов.
Печь с натуги воет.
Печь в ремонте вдвое.
Значит, за год выдашь
вдвое меньше плавок.
Метод твой, как видишь,
требует поправок.
Ты, Мазай, новатор,
но только рановато
застывать на месте.
Дай поищем вместе.
Нам всегда давалось
счастье в руки обе.
А что обидел малость… —
Но Мазай: – Це добре.
Нужен, нужен поиск.
Не кирпич ли порист?
Чей-то голос шепчет:
– Магнезит покрепче.
Вот с Урала пишут:
своды нужно выше.
Или ромбом стены
растянуть мартену?
Путь закрыть износу
надо – кровь из носу!
Надо ночь не спать и
исписать тетради
ради этой, ради
радостной находки,
ради новой сводки,
где б стояло: «Найден,
вырублен из почвы
камень для громадин,
небывало прочный!»
Он не сдаст, хоть режьте,
в поиске, в надежде.
Он в пожар работы,
в формулы, в подсчеты —
всунул руки обе.
Весь в труде, в учебе…
А находка – близко.
Уместилась между
точностью и риском,
знаньем и надеждой.
Манит: «На, возьми-ка.
Поймана. В порядке».
И – вывернется мигом,
и сначала в прятки!
Но Макар – за нею:
– Вырву, завладею! —
Та – в страницы мигом,
а он за ней по книгам,
по следам спектральным,
по карьерам скальным
и раз в ночную смену
взял прижал к мартену!
Про секрет находки
в центр уходят сводки.
Сильно печь нагрета!
Варит, не тревожит.
Только суть секрета
автор знать, не может.
Свод румяно-розов.
Вниз – процент износа.
И руку жмет Аносов.
– Добре. Нет вопросов.
И мы кончаем повесть
поговоркой ходкой:
«Где ведется поиск —
водится находка».
Если поиск труден,
ищущему – слава!
Слава нашим людям
трудового сплава!
Эпилог
Только что пришел
поезд в город южный.
Звон стрекоз и пчел
закружился, дружный.
Вышли на вокзал
два юнца в фуражках,
с будущим в глазах,
с «Р» и «У» на пряжках.
Взялись за ремни
легких чемоданов,
о пошли они
в гору, в город Жданов.
Клены с двух сторон
и – с голубем афиши.
Ясно – это он,
год грозы нависшей.
Год борьбы за мир,
когда лист Воззванья
плыл вокруг земли,
шел из зданья в зданье.
Год, когда сквозь ночь
взвыли батареи,
год призыва: «Прочь
руки от Кореи!»
Год, который нес
красный флаг, шагая
от болгарских роз
к тростникам Китая.
Жизнь и труд – ценой
битв в защиту мира,
выдержки стальной
коммунистов мира.
…Тихие дома.
Рокот стройки новой.
И завод с холма
улицы Садовой.
Мальчики стоят.
Им дымки застлали
яркий, как театр,
корпус Азовстали.
С пламенем свечей,
вечных и бессонных,
с плавками печей
четырехсоттонных.
Выставил гигант
вдоль реки сифоны
и в сотню труб – орган
для своих симфоний.
Комсомольцы – здесь.
Место им готово.
И у двух сердец
шелест двух путевок.
Здесь расскажут им
о конце Мазая —
как окутал дым
сорванное знамя;
как враги, стуча
в буквы молотками,
имя Ильича
сбросили на камни;
как в годину бед
полз Мазай под стену
с миной в цех к себе,
к темному мартену.
…Протянув очки,
на пыланье пляски
смотрят новички
в куртках сталеварских.
Тут расскажут им
неподдельно, просто,
как неколебим
был он на допросах.
Враг ему: – Дадим
домик, денег груду,
будут «господин»
называть вас всюду…
Но ни за мильон
долларов и марок
не отдал бы он
славы наших варок!
Жизнь и ту не взял,
отстранил, как плату.
Слова не сказал
мучившему кату…
«А у меня – страна!
Мир – на все века мне!»
И хранит стена
запись острым камнем:
«Мучил? Ну и что ж
вымучил, ничтожный?
Можешь? Уничтожь!
Тоже невозможно…»
И с вниманьем глаз,
грустных, беспокойных,
слушают рассказ
новички на койках…
Как без слов шагал,
пленный, босиком он
и в глину большака
ставил ком за комом
ноги, и земля
липла к ним, слеплялась,
так она сама
за жизнь его цеплялась.
И он шагал, таща
комья глины вязкой,
и не замечал,
что по бокам две каски.
Вел его конвой
лагерем, за стены.
И вдруг разнесся вой,
жалкий вой сирены.
И в последний час
по дороге к яру
вновь увидеть нас
удалось Макару.
Встал у ямы он.
Но, разбросав рассветы,
с неба роем солнц
спрыгнули ракеты,
и на штаб врага,
запылавший, яркий,
грянул ураган
бомб советской марки.
Шел родной металл
с песней: «К югу! К югу!»
И Мазай шептал
благодарность другу
летчику, что круг
развернул в наклоне
и «спасибо, друг»
слышал в шлемофоне…
В громе бомб уже
был не смертник пленный,
здесь, на рубеже,
мастер встал мартенный.
Он ценил на глаз
мощь, удар металла,
и это его власть
штаб врага взметала!
Над Мазаем – дым,
взрывы землю рыли.
А враги под ним
прятались в могиле.
Он стоял один
и плевал в глаза им.
Он – непобедим.
Он – земли хозяин!..
Но когда в него
впились злые пули —
скорбью огневой
стены полыхнули.
И когда штыки
повернулись в теле —
говорят, гудки
заунывно пели.
И когда тот ров
враг сровнял с площадкой
у друзей с голов
ветер сдунул шапки.
И стоял Мазай
в наших долгих думах,
в мыслях и в глазах
партизан угрюмых.
…Видите, сейчас —
смел, в себе уверен —
он стоит у нас
среди клумб на сквере.
Выплавлен в огне,
из металла отлит.
И со скамейки мне
виден его облик.
Просто вышел в сад
подышать – жара ведь!
А печь – его краса —
продолжает плавить…
Смотрят новички
на очки под кепкой,
на его зрачки,
на губы крупной лепки.
И в лучах косых
никнут от печали
на фуражках их
молотки с ключами.
Только что печаль?
Вам – ворота настежь!
Завтра вас к печам
ставит старший мастер.
В цех! С огнем сдружись,
молодое племя!
Здесь не гаснет жизнь,
здесь не молкнет время.
Слышите – гудок?
В кленах вся дорога…
Вот и эпилог.
Но жизнь – без эпилога.
И ребята в цех
входят, продолжая
ради счастья всех —
труд и жизнь Мазая.